ŠŠ¾Š²ŃŠµ ŃŃŠµŠ±Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ Šŗ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Ń ŃŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾Š³Š½ŠµŃŃŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Š² 50ā70-Šµ Š³Š¾Š“Ń XIX Š²ŠµŠŗŠ° Š² Š Š¾ŃŃŠøŠø. Š”ŃŠ°Š»ŠµŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Šµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾, ŠŠ²Š¾Š“ŠŗŠ¾Š² Š.Š. (Š”Š°Š½ŠŗŃ-ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³)
ŠŠøŠ½ŠøŃŃŠµŃŃŃŠ²Š¾ Š¾Š±Š¾ŃŠ¾Š½Ń Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ Š¤ŠµŠ“ŠµŃŠ°ŃŠøŠø Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ°Ń ŠŠŗŠ°Š“ŠµŠ¼ŠøŃ ŃŠ°ŠŗŠµŃŠ½ŃŃ Šø Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ Š½Š°ŃŠŗ ŠŠ¾ŠµŠ½Š½Š¾-ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠ¹ Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠø, ŠøŠ½Š¶ŠµŠ½ŠµŃŠ½ŃŃ Š²Š¾Š¹ŃŠŗ Šø Š²Š¾Š¹ŃŠŗ ŃŠ²ŃŠ·Šø ŠŠ¾Š¹Š½Š° Šø Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ ŠŠ¾Š²ŃŠµ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ Šø Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Ń Š¢ŃŃŠ“Ń Š§ŠµŃŠ²ŠµŃŃŠ¾Š¹ ŠŠµŠ¶Š“ŃŠ½Š°ŃŠ¾Š“Š½Š¾Š¹ Š½Š°ŃŃŠ½Š¾-ŠæŃŠ°ŠŗŃŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š¹ ŠŗŠ¾Š½ŃŠµŃŠµŠ½ŃŠøŠø 15ā17 Š¼Š°Ń 2013 Š³Š¾Š“Š°
Š§Š°ŃŃŃ IIIŠ”Š°Š½ŠŗŃ-ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³
ŠŠŠŠŠŠŠøŠŠ” 2013
Ā© ŠŠŠŠŠŠŠøŠŠ”, 2013
Ā© ŠŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠ² Š°Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š², 2013
1. Š”ŠøŃŃŠµŠ¼Ń ŃŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾Š³Š½ŠµŃŃŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ 1850ā1870 Š³Š³. XIX Š². ŠŠ±ŃŠ°Ń ŃŃ ŠµŠ¼Š°.
ŠŠ·ŃŃŠ°ŠµŠ¼ŃŠ¹ ŠæŠµŃŠøŠ¾Š“ Š²Š¾ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ Š¼ŠøŠ½ŠøŃŃŃ Š.Š. ŠŠøŠ»ŃŃŠøŠ½ Š½Š°Š·Š²Š°Š» Ā«ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½Š¾Š¹ Š“ŃŠ°Š¼Š¾Š¹Ā». ŠŃŠ¾ Šø Š²ŠæŃŠ°Š²Š“Ń Š±ŃŠ»Š° Ā«ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½Š°Ń Š“ŃŠ°Š¼Š°Ā» ŃŠ°Š·Š»ŠøŃŠ½ŃŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾ ŠøŠ·ŃŃŠ°ŃŃ Š²ŠŗŃŠæŠµ Ń Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŠµŠ¹ Š Š¾ŃŃŠøŠø, Š²ŠŗŃŠæŠµ Ń ŃŠ°Š·Š»ŠøŃŠ½ŃŠ¼Šø ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃŠ¼Šø ŃŃŠøŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼ Šø Ń.Š“. ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ ŃŠµŠ»ŃŃ ŃŠ»ŠµŠ“ŃŃŃŠøŃ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŠ¹ Š±ŃŠ“ŠµŃ Š“ŠµŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠ¹ ŃŠ°Š·Š±Š¾Ń ŃŠ°Š·Š»ŠøŃŠ½ŃŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼, Š½Š¾ Š½Šµ Ń ŃŠ¾ŃŠŗŠø Š·ŃŠµŠ½ŠøŃ ŃŠ¶Šµ Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š¾Š³Š¾ ŃŃŠ¶ŃŃ ŠøŠ»Šø Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š¾Š¹ Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŠø. ŠŠ»Š°Š²Š½Š¾Šµ ā ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²ŠøŃŃ, ŠŗŠ°Šŗ Š½Š°ŃŠøŠ½Š°Š»Šø ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ°ŃŃ Š½Š°Š“ ŃŠ¾Š·Š“Š°Š½ŠøŠµŠ¼ ŃŃŠøŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼ Š±Š»ŠµŃŃŃŃŠøŠµ ŠŗŠ¾Š½ŃŃŃŃŠŗŃŠ¾ŃŃ Šø ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°ŃŠµŠ»Šø Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŠøŠŗŠø, ŃŠ»ŠµŠ½Ń ŠŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŠµŃŠ°, Š²ŠµŠ“Ń ŃŃŠ¾ Š½Š°ŃŠøŠ½Š°Š»Š¾ŃŃ Ń ŠøŠ·ŃŃŠµŠ½ŠøŃ ŃŃŃŃŠ¾Š¹ŃŃŠ²Š° ŃŃŠ²Š¾Š»Š°, ŠµŠ³Š¾ ŠŗŃŃŃŠøŠ·Š½Ń Šø Š³Š»ŃŠ±ŠøŠ½Ń Š½Š°ŃŠµŠ·Š¾Š², Ń ŠæŠ°ŃŃŠ¾Š½Š°, Ń Š¾Š±ŃŠµŠ¹ Š“Š»ŠøŠ½Ń ŃŃŠ¶ŃŃ, Ń ŠµŠ³Š¾ Š²ŠµŃŠ° Šø Ń.Š“. ŠŃŠ¾ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Š° Ā«Š¢Š¢Š¢Ā» ā ŃŠ°ŠŗŃŠøŠŗŠ¾-ŃŠµŃ Š½ŠøŃŠµŃŠŗŠøŃ ŃŃŠµŠ±Š¾Š²Š°Š½ŠøŠ¹. ŠŠ¾Š“ ŃŃŠø Ā«Š¢Š¢Š¢Ā» ŠŗŠ¾Š½ŃŃŃŃŠŗŃŠ¾ŃŃ ŃŠ¾Š³Š“Š° ŃŠ°Š·ŃŠ°Š±Š°ŃŃŠ²Š°Š»Šø Š¾Š±ŃŠ°Š·ŠµŃ. ŠŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾ Š½Š° Š¾ŃŠ½Š¾Š²Šµ ŠøŠ·ŃŃŠµŠ½ŠøŃ Š¾ŃŠ“ŠµŠ»ŃŠ½ŃŃ ŠŗŠ¾Š¼ŠæŠ¾Š½ŠµŠ½ŃŠ¾Š² Ā«Š¢Š¢Š¢Ā» Š±ŃŠ“ŃŃ ŃŠ“ŠµŠ»Š°Š½Ń ŠæŠ¾ŃŠ»ŠµŠ“ŃŃŃŠøŠµ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ, Š° Š½Š°ŃŠ½ŠµŃŃŃ Š²ŃŠµ Ń ŠøŠ·ŃŃŠµŠ½ŠøŃ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š° ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Š“Š»Ń ŃŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾Š³Š½ŠµŃŃŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Šø Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Š¾Š², ŠøŠ· ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ Š¾Š½Šø Š“ŠµŠ»Š°Š»ŠøŃŃ Š² ŠæŠµŃŠøŠ¾Š“ 1850ā1870-Ń Š³Š³. Š§ŃŠ¾Š±Ń ŠæŠ¾Š½ŃŃŃ, Ń ŠŗŠ°ŠŗŠøŠ¼Šø ŃŠøŃŃŠµŠ¼Š°Š¼Šø ŠøŠ¼ŠµŠ»Šø Š“ŠµŠ»Š¾ Š¾ŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŠŗŠ¾Š½ŃŃŃŃŠŗŃŠ¾ŃŃ Šø Š¼Š°ŃŃŠµŃŠ°, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Š“ŠµŃŠ°Š»ŃŠ½ŠµŠµ ŃŠ·Š½Š°ŃŃ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š°, Š½Š° ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ Š¾Š½Šø ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ°Š»Šø, Š¼Ń Š½Š°ŃŠ½ŠµŠ¼ Ń ŠŗŃŠ°ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¾Š±Š·Š¾ŃŠ° Ā«ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½Š¾Š¹ Š“ŃŠ°Š¼ŃĀ» Šø ŃŠøŃŃŠµŠ¼, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ ŠæŃŠøŠ½ŃŠ»Šø ŃŃŠ°ŃŃŠøŠµ Š² Š½ŠµŠ¹.
Š ŠøŠ·ŃŃŠµŠ½ŠøŠø ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š° ŃŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾Š³Š½ŠµŃŃŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Š²Š¾ Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š¹ ŠæŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Šµ XIX Š². Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾ Š¾ŃŃŠ°Š»ŠŗŠøŠ²Š°ŃŃŃŃ Š¾Ń Š²Š²ŠµŠ“ŠµŠ½ŠøŃ Š² Š½Š°ŃŠµŠ¹ Š°ŃŠ¼ŠøŠø Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ŃŠ¼ŠµŠ½ŃŃŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ° ā 6-Š»ŠøŠ½ŠµŠ¹Š½Š¾Š¹ Š½Š°ŃŠµŠ·Š½Š¾Š¹ Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŠø, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ°Ń Š±ŃŠ»Š° ŃŠ¾Š·Š“Š°Š½Š° Š² 1856 Š³.
ŠŠµŠ»Š° Ń Š²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŠµŠ¼ ŃŃŃŠ½ŃŠ¼ Š¾Š³Š½ŠµŃŃŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠ¼ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµŠ¼ Š½Š° Š¼Š¾Š¼ŠµŠ½Ń Š²ŃŃŃŠæŠ»ŠµŠ½ŠøŃ Š.Š. ŠŠ°ŃŠ°Š½ŃŠ¾Š²Š°1 Š² ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠµŠ¹ Š² ŠŠŠ£2 Š¾Š±ŃŃŠ¾ŃŠ»Šø ŠæŠ»Š¾Ń
Š¾, Š¼Š½Š¾Š³Š¾Šµ ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ¾ŃŠ»Š¾ ŠµŃŠµ ŃŠ“ŠµŠ»Š°ŃŃ. ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ Š°Š²ŃŠ¾ŃŃ ŃŃŃŠ“Š°3 Š¾Š±ŃŠ°ŃŠ°ŃŃ Š½Š°ŃŠµ Š²Š½ŠøŠ¼Š°Š½ŠøŠµ Š½Š° ŃŠ¾Ń ŃŠ°ŠŗŃ, ŃŃŠ¾ Š½Š°ŃŠµ Š²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŠµ Š½ŠøŃŠŗŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š½Šµ ŃŃŃŃŠæŠ°Š»Š¾ Š·Š°Š³ŃŠ°Š½ŠøŃŠ½Š¾Š¼Ń. Š ŃŃŠ¾ ŠæŃŠø ŃŃŠ»Š¾Š²ŠøŠø ŃŠ¾Š³Š¾, ŃŃŠ¾ Š¼Š½Š¾Š³ŠøŠµ ŃŃŃŠ°Š½Ń ŠæŠµŃŠµŃ
Š¾Š“ŠøŠ»Šø Š½Š° Š¼Š°Š»Š¾ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŠµŃŠ½Š¾Šµ Š²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŠµ: ŠŠ½Š³Š»ŠøŃ ā Š½Š° ŃŃŠ¶ŃŠµ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń ŠŠ½ŃŠøŠ»ŃŠ“Š° Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŠ° 1853 Š³. (ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ° 5,77 Š»ŠøŠ½ŠøŠ¹, Ń ŃŃŠµŠ¼Ń Š½Š°ŃŠµŠ·Š°Š¼Šø, ŠæŃŠ»ŠµŠ¹ ŃŠ°ŃŃŠøŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¹ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń Ń Š“ŠµŃŠµŠ²ŃŠ½Š½Š¾Š¹ Š²ŃŃŠ»ŠŗŠ¾Š¹); ŠŠ²ŃŃŃŠøŃ ā Š½Š° Š½Š°ŃŠµŠ·Š½ŃŠµ ŃŃŠ¶ŃŃ ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ¾Š¼ 5,5 Š»ŠøŠ½ŠøŠ¹, Ń 4 Š½Š°ŃŠµŠ·Š°Š¼Šø Šø ŠæŃŠ»ŠµŠ¹ ŃŠ¶ŠøŠ¼Š°ŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¹ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń Š£ŠøŠ»ŠŗŠøŠ½ŃŠ¾Š½Š°-ŠŠ¾ŃŠµŠ½ŃŠ°; ŠØŠ²ŠµŠ¹ŃŠ°ŃŠøŃ ā Š½Š° ŃŃŃŃŠµŃ Ā«ŃŠ¾ŃŠ·Š½ŃŃ
ŠŗŠ°Š½ŃŠ¾Š½Š¾Š²Ā» Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŠ° 1851 Š³. (ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±Ń 4, 134 Š»ŠøŠ½ŠøŠø Šø Ń ŠæŃŠ¾Š“Š¾Š»Š³Š¾Š²Š°ŃŠ¾Š¹ ŠæŃŠ»ŠµŠ¹ Ń ŠæŠ»Š°ŃŃŃŃŠµŠ¼), Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Š½Š° ŃŃŃŠµŠ»ŠŗŠ¾Š²Š¾Šµ ŃŃŠ¶ŃŠµ Š¾Š±Ń. 1857 Š³. ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ° 4,07 Š»ŠøŠ½ŠøŠ¹, Ń 4-Š¼Ń Š½Š°ŃŠµŠ·Š°Š¼Šø Šø ŃŠ¶ŠøŠ¼Š°ŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¹ ŠæŃŠ»ŠµŠ¹ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń Š¤Š¾Š»ŠøŠ°ŃŠ“Šø; Š¤ŃŠ°Š½ŃŠøŃ ā Š½Š° 7-Š»ŠøŠ½ŠµŠ¹Š½Š¾Šµ ŃŃŠ¶ŃŠµ Š¾Š±Ń. 1854 Š³., Ń ŠæŃŠ»ŠµŠ¹ ŃŠ°ŃŃŠøŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¹ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń, Ń 4-Š³ŃŠ°Š½Š½Š¾Š¹ Š²ŃŠµŠ¼ŠŗŠ¾Š¹, Š° ŠæŠ¾ŃŠ¾Š¼ Šø Š½Š° ŃŃŠµŃŠ¶Š½ŠµŠ²Š¾Š¹ ŃŃŃŃŠµŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń Š¢ŃŠ²ŠµŠ½ŠµŠ½Š° 1842 Š³. (ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±Ń 17,78 Š¼Š¼). ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ Š²ŃŠµ ŠæŠµŃŠµŃŠøŃŠ»ŠµŠ½Š½ŃŠµ Š²ŃŃŠµ
ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń ā Š“ŃŠ»ŃŠ½Š¾Š·Š°ŃŃŠ“Š½ŃŠµ, Š° ŠæŃŠ¾Š³ŃŠµŃŃ Š“ŠµŃŠ¶Š°Š»ŃŃ Š½Š° ŃŃŠ¾ŃŠ¾Š½Šµ ŠŗŠ°Š·Š½Š¾-Š·Š°ŃŃŠ“Š½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Šµ ŠøŠ¼ŠµŠ»Šø Ń ŃŠµŠ±Ń Š½Š° Š²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŠø ŠŃŃŃŃŠøŃ Šø ŠØŠ²ŠµŃŠøŃ, Šø ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š¾Š“Š½Š° ŠøŠ· ŃŠøŃŃŠµŠ¼ Š“Š¾ŃŃŠ¾Š¹Š½Š°Ń. ŠŃŠ¾ ŠæŃŃŃŃŠŗŠ¾Šµ ŠøŠ³Š¾Š»ŃŃŠ°ŃŠ¾Šµ ŠŗŠ°Š·Š½Š¾Š·Š°ŃŃŠ“Š½Š¾Šµ ŃŃŠ¶ŃŠµ ŠŃŠµŠ¹Š·Šµ4 Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŠ° 1841 Š³., ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Šµ ŃŠ¾Š²ŠµŃŃŠµŠ½ŃŃŠ²Š¾Š²Š°Š»Š¾ŃŃ Š±Š¾Š»ŠµŠµ 25 Š»ŠµŃ ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ ŃŠ¾Š·Š“Š°Š½ŠøŃ, Šø, ŠŗŠ°Šŗ ŃŠµŠ·ŃŠ»ŃŃŠ°Ń, Ń 1860 ŠæŠ¾ 1864 Š³Š³. ŠæŃŃŃŃŠŗŠ°Ń Š°ŃŠ¼ŠøŃ Š±ŃŠ»Š° ŠøŠ¼ Š²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½Š°.
ŠŃŃŃŃŠŗŠ°Ń Š°ŃŠ¼ŠøŃ Š±ŃŠ»Š° Š¾ŃŠµŠ½Ń Š“ŠøŃŃŠøŠæŠ»ŠøŠ½ŠøŃŠ¾Š²Š°Š½Š½Š° Šø Ń Š¾ŃŠ¾ŃŠ¾ Š¾Š±ŃŃŠµŠ½Š°, ŃŃŠ¾ Š±ŃŠ»Š¾ ŃŃŠµŠ·Š²ŃŃŠ°Š¹Š½Š¾ Š²Š°Š¶Š½Š¾ Š² ŃŃŠ»Š¾Š²ŠøŃŃ ŃŠ°Š·Š²ŠøŃŠøŃ ŃŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŃ ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼. ŠŃŠ»ŠøŃŠ½ŃŠµ Š“ŠµŠ¹ŃŃŠ²ŠøŃ ŠæŃŃŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŠ¼ŠøŠø Ń ŃŠ°ŠŗŠøŠ¼ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµŠ¼ ā Š·Š°ŃŠ»ŃŠ³Š° ŠµŠµ Š²ŃŃŠ¾ŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŃŠ¾Š²Š½Ń ŠæŠ¾Š“Š³Š¾ŃŠ¾Š²ŠŗŠø. ŠŃŃŠ±Š¾ Š³Š¾Š²Š¾ŃŃ, Š½Š°ŃŠµŠ¹ Š°ŃŠ¼ŠøŠø ŃŃŠµŠ±Š¾Š²Š°Š»Š°ŃŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Š° ŠæŃŠ¾ŃŃŠ°Ń, Š½Š°Š“ŠµŠ¶Š½Š°Ń, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ°Ń Š±ŃŠ“ŠµŃ ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ°ŃŃ Š“Š°Š¶Šµ Š² Š“ŃŠ¾Š¶Š°ŃŠøŃ ŃŃŠŗŠ°Ń , Šø ŠæŃŠø ŃŠ»Š°Š±Š¾Š¹ Š“ŠøŃŃŠøŠæŠ»ŠøŠ½Šµ Š±ŃŠ“ŠµŃ ŃŠµŃŃŠµŠ·Š½ŃŠ¼ Š°ŃŠ³ŃŠ¼ŠµŠ½ŃŠ¾Š¼ Š“Š»Ń ŠæŠ¾Š±ŠµŠ“Ń. Š¢Š°ŠŗŠøŠ¼ Š²Š°ŃŠøŠ°Š½ŃŠ¾Š¼ Š¼Š¾Š³Š»Š° Š¾ŠŗŠ°Š·Š°ŃŃŃŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Š° ŠŠøŠ»Š»Šµ. Š ŠæŠµŃŠøŠ¾Š“ Ń 1860 ŠæŠ¾ 1864 Š³Š³. Š±ŃŠ»Šø ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½Ń Š¼Š½Š¾Š³ŠøŠµ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń: Ā«ŠŠ°ŃŠ“ŠøŠ½ŃŠ°, ŠŠµŃŃŠø, ŠŠøŃŃŠ°, ŠŃŠøŠ½ŃŠ°, Š¤Š°ŃŃŠ½Š°Ń ŃŠ°, ŠØŠ°ŃŠæŃŠ°, ŠŠ°ŃŠ¼Š°Š½Š¾Š²Š°, ŠŠµŃŠøŠ»Ń, ŠŠ¾Š½Ń-Š”ŃŠ¾ŃŠ¼Š°, ŠŠ°Š½ŃŠ¾, ŠØŠ°ŃŠæŠ¾ Šø ŠŠøŠ»Š»ŠµĀ»5. ŠŃŠø ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń Š±ŃŠ»Šø ŃŠ¾Š²ŠµŃŃŠµŠ½Š½ŠµŠµ ŠøŠ·-Š·Š° Š¾ŃŃŃŃŃŃŠ²ŠøŃ ŠæŃŠ¾ŃŃŠ²Š° ŠæŠ¾ŃŠ¾Ń Š¾Š²ŃŃ Š³Š°Š·Š¾Š², Š²ŠµŠ“Ń ŠøŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾ Š² ŃŃŠ¾Š¼ ŃŠ°ŠøŃŃŃ ŠæŃŠ¾Š±Š»ŠµŠ¼Š° ŠŗŠ°Š·Š½Š¾Š·Š°ŃŃŠ“Š½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ. Š”ŠøŃŃŠµŠ¼Š° ŠŠøŠ»Š»Šµ Š±ŃŠ»Š° Š“Š²ŃŠæŃŠ»ŃŠ½Š¾Š¹: Ā«Š ŃŃŠ¾Š¹ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Šµ ŃŠæŠ¾ŃŃŠµŠ±Š»ŃŠ»ŠøŃŃ Š“Š²Šµ ŠæŃŠ»Šø: Š¾Š“Š½Š° Š²ŠæŠµŃŠµŠ“Šø ŠæŠ¾ŃŠ¾Ń Š¾Š²Š¾Š³Š¾ Š·Š°ŃŃŠ“Š°, Š“ŃŃŠ³Š°Ń Š² ŠæŠ°ŃŃŠ¾Š½Šµ ŠæŠ¾Š·Š°Š“Šø ŠµŠ³Š¾. ŠŠµŃŠ²Š°Ń ŠæŃŠ»Ń ŠæŃŠø Š²ŃŃŃŃŠµŠ»Šµ Š²ŃŠ»ŠµŃŠ°Š»Š° ŠøŠ· Š“ŃŠ»Š°, Š° Š²ŃŠ¾ŃŠ°Ń Š¾ŃŃŠ¾Š»ŠŗŠ½ŃŃŠ°Ń Š½Š°Š·Š°Š“, ŃŠæŠøŃŠ°Š»Š°ŃŃ Š² Š“Š½Š¾ Š·Š°ŃŠ²Š¾ŃŠ° Šø, ŃŠ°Š·Š“Š°Š²ŃŠøŃŃ ŠæŠ¾ ŃŠøŃŠøŠ½Šµ, Š·Š°ŠæŠøŃŠ°Š»Š° ŠæŠ»Š¾ŃŠ½Š¾ ŠŗŠ°Š·ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ Š¾Š±ŃŠµŠ·Ā»6. Ā«ŠŃŠ»Šø ŃŠ°ŃŃŠøŃŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŃŠ»Šø Š½ŠµŠ“Š¾ŃŃŠ°ŃŠ¾ŃŠ½Š¾ Š“Š»Ń Š·Š°ŠæŠ¾Š»Š½ŠµŠ½ŠøŃ ŃŃŠ¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŃŃŃŠ°Š½ŃŃŠ²Š°, ŃŠ¾ ŠæŃŠ¾ŠøŃŃ Š¾Š“ŠøŃ ŠæŃŠ¾ŃŃŠ² Š³Š°Š·Š¾Š². ŠŃŠ»Šø Š¶Šµ ŃŠ°ŃŃŠøŃŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŃŠ»Šø ŃŠ»ŠøŃŠŗŠ¾Š¼ Š²ŠµŠ»ŠøŠŗŠ¾, ŃŠ¾ ŠæŃŠ»Ń Š¾ŃŠµŠ½Ń ŃŠøŠ»ŃŠ½Š¾ Š½Š°Š¶ŠøŠ¼Š°Š»Š°ŃŃ Š½Š° Š¾ŠŗŃŃŠ¶Š°ŃŃŠøŠµ ŠµŠµ ŃŃŠµŠ½ŠŗŠø ŠæŠ°ŃŃŠ¾Š½Š½ŠøŠŗŠ°, Š²ŃŠ»ŠµŠ“ŃŃŠ²ŠøŠµ ŃŠµŠ³Š¾ ŠæŃŠø ŃŠ»ŠµŠ“ŃŃŃŠµŠ¼ Š·Š°ŃŃŠ¶Š°Š½ŠøŠø ŠµŠµ ŃŃŃŠ“Š½Š¾ ŠæŃŠ¾ŃŠ¾Š»ŠŗŠ½ŃŃŃ Š²ŠæŠµŃŠµŠ“, Š° ŠøŠ½Š¾Š³Š“Š° ŃŃŠ¾ Šø ŃŠ¾Š²ŠµŃŃŠµŠ½Š½Š¾ Š±ŃŠ»Š¾ Š½ŠµŠ²Š¾Š·Š¼Š¾Š¶Š½Š¾ Š²ŃŠæŠ¾Š»Š½ŠøŃŃā¦Ā»7, ā ŠøŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾ ŃŠ°ŠŗŠøŠµ ŠæŃŠ¾Š±Š»ŠµŠ¼Ń ŠøŠ¼ŠµŠ»Š° ŃŠøŃŃŠµŠ¼Š° ŠŠøŠ»Š»Šµ. ŠŃŠ»Šø ŠµŃŠµ Š½ŠµŃŠŗŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ ŃŠøŃŃŠµŠ¼, Š½Šµ Š²ŃŠ“ŠµŃŠ¶Š°Š²ŃŠøŃ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃ. ŠŠ°ŠæŃŠøŠ¼ŠµŃ, Š² 1859 Š³. ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ¾Š²Š½ŠøŠŗ ŠŃŠøŠ½ ŠøŠ· Š”ŠµŠ²ŠµŃŠ½Š¾Š¹ ŠŠ¼ŠµŃŠøŠŗŠø ŠæŃŠµŠ“Š»Š¾Š¶ŠøŠ» ŃŠ²Š¾Ń ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń. ŠŠ½Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Š±ŃŠ»Š° Š“Š²ŃŠæŃŠ»ŃŠ½Š¾Š¹, Š·Š°ŃŃŠ¶Š°Š»Š°ŃŃ Ń ŠŗŠ°Š·ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ ŃŠ°ŃŃŠø Š³Š»Š°Š“ŠŗŠ¾Š¹ ŃŠøŠ»ŠøŠ½Š“ŃŠ¾-ŃŃŠµŃŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š¹ ŠæŃŠ»ŠµŠ¹ (Š±ŠµŠ· Š²ŃŠµŠ¼Š¾Šŗ Šø Š¶ŠµŠ»Š¾Š±ŠŗŠ¾Š²). ŠŠµŃŠŗŠ¾ŃŃŃ Ń Š“Š²ŃŠæŃŠ»ŃŠ½ŃŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼ Š±ŃŠ»Š° Ń Š¾ŃŠ¾ŃŠµŠ¹, Š¾Š“Š½Š°ŠŗŠ¾ ŠæŃŠ¾Š±Š»ŠµŠ¼Š° Š·Š°ŠŗŠ»ŃŃŠ°Š»Š°ŃŃ Š² Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾ŃŃŠø ŃŠµŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŠ¾Š¾ŃŠ½Š¾ŃŠµŠ½ŠøŃ Š¼ŠµŠ¶Š“Ń ŠæŃŠ»ŠµŠ¹ Šø Š·Š°ŃŃŠ“Š¾Š¼, ŃŠ°Šŗ ŠŗŠ°Šŗ ŃŃŃŃ ŃŃŠ¾ ā Šø Š·Š°Š“Š½ŃŃ ŠæŃŠ»Ń Š¼Š¾Š³Š»Š° Š·Š°ŃŃŃŃŃŃ Š½Š°Š¼ŠµŃŃŠ²Š¾, ŃŠ°ŃŃŠøŃŠøŠ²ŃŠøŃŃ ŃŠ»ŠøŃŠŗŠ¾Š¼ ŃŠøŠ»ŃŠ½Š¾, Š»ŠøŠ±Š¾ Š½Š°Š¾Š±Š¾ŃŠ¾Ń.
ŠŠµŠ½ŠµŃŠ°Š»-Š°Š“ŃŃŃŠ°Š½Ń Š.Š. ŠŠ°ŃŠ°Š½ŃŠ¾Š² Š²ŃŃŃŠæŠøŠ» Š² Š“Š¾Š»Š¶Š½Š¾ŃŃŃ Š³Š»Š°Š²Ń ŠŠŠ£ Š² 1863 Š³., ŠŗŠ¾Š³Š“Š° ŠµŃŠµ ŃŃŠ¶ŃŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń ŠŠøŠ»Š»Šµ (ŃŃŠ¾Š²ŠµŃŃŠµŠ½ŃŃŠ²Š¾Š²Š°Š½Š½Š¾Š¹ Š¼Š°ŃŃŠµŃŠ¾Š¼ Š¢ŃŃŠ¼Š¼ŠµŃŠ¾Š¼) ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ°Š²Š»ŠøŠ²Š°Š»ŠøŃŃ, ŠøŠ·&Š·Š° Š³ŃŠ°Š½ŠøŃŃ Š±ŃŠ»Šø ŠæŃŠøŃŠ»Š°Š½Ń Š½ŠµŃŠŗŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š½Š¾Š²ŃŃ ŃŠŗŠ·ŠµŠ¼ŠæŠ»ŃŃŠ¾Š² ŠŗŠ°ŠæŃŃŠ»ŃŠ½ŃŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼: Š¢ŠµŃŃŠø, ŠŠµŃŃŠ»ŠµŠ¹-Š ŠøŃŠ°ŃŠ“Ń, ŠŠøŠ»ŃŃŠ¾Š½, ŠŠøŠ½Š“ŠµŠ½ŠµŃ Šø Š“Ń. ŠŠ±ŃŠ°Š·ŠµŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń Š¢ŠµŃŃŠø, ŃŃŠ¾Š²ŠµŃŃŠµŠ½ŃŃŠ²Š¾Š²Š°Š½Š½ŃŠ¹ Š¼Š°ŃŃŠµŃŠ¾Š¼ ŠŠ¾ŃŠ¼Š°Š½Š½Š¾Š¼, Š±ŃŠ» ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ Š½Š° ŠŃŃŠ¾ŃŠ°Š¹ŃŠµŠµ ŃŃŠ²ŠµŃŠ¶Š“ŠµŠ½ŠøŠµ Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾Š¼Ń Š¼ŠøŠ½ŠøŃŃŃŃ Š.Š. ŠŠøŠ»ŃŃŠøŠ½Ń8 ŠæŃŠø Š“Š¾ŠŗŠ»Š°Š“Šµ Š¾Ń 15 Š½Š¾ŃŠ±ŃŃ 1866 Š³. Š ŠŗŠ¾Š½ŃŠµ 1866 Š³. Š±ŃŠ»Šø Š³Š¾ŃŠ¾Š²Ń Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŃ Š“Š»Ń ŠæŠµŃŠµŠ“ŠµŠ»ŠŗŠø 6-Š»ŠøŠ½ŠµŠ¹Š½ŃŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼ ŠæŠ¾ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Šµ Š¢ŠµŃŃŠø-ŠŠ¾ŃŠ¼Š°Š½Š°.
Š ŃŃŃ Š¶Šµ, Š² ŠŗŠ¾Š½ŃŠµ 1866 Š³., Šŗ ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¼Ń ŠæŃŠ°Š²ŠøŃŠµŠ»ŃŃŃŠ²Ń Š¾Š±ŃŠ°ŃŠøŠ»ŃŃ Š³Š°Š¼Š±ŃŃŠ³ŃŠŗŠøŠ¹ Š¶ŠøŃŠµŠ»Ń ā Š°Š½Š³Š»ŠøŃŠ°Š½ŠøŠ½ ŠŠ°ŃŠ»Ń. ŠŠ½ ŠæŃŠµŠ“Š»Š¾Š¶ŠøŠ» Š²Š¾ŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°ŃŃŃŃ ŠøŠ·Š¼ŠµŠ½ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ ŠøŠ¼ ŠøŠ³Š¾Š»ŃŃŠ°ŃŠ¾Š¹ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Š¾Š¹ Š“Š»Ń ŠæŠµŃŠµŠ“ŠµŠ»ŠŗŠø 6-Š»ŠøŠ½ŠµŠ¹Š½ŃŃ Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²Š¾Šŗ. ŠŠµŃ Š°Š½ŠøŠ·Š¼ ŠµŠ³Š¾ Š±ŃŠ» Šø Š²ŠæŃŠ°Š²Š“Ń Ń Š¾ŃŠ¾ŃŠøŠ¼, Šø Š² ŠŗŠ°ŠŗŠ¾Š¼-ŃŠ¾ ŃŠ¼ŃŃŠ»Šµ Š²Š¾Š±ŃŠ°Š» Š² ŃŠµŠ±Ń Š²ŃŠµ Š»ŃŃŃŠµŠµ: ŠæŠ°ŃŃŠ¾Š½ Š“Š¾ŃŃŠ»Š°Š»ŃŃ ŃŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š·Š°ŃŠ²Š¾ŃŠ°; ŃŠ“Š°ŃŠ½ŃŠ¹ ŃŠ¾ŃŃŠ°Š² Š±ŃŠ» Š² ŠæŠ¾Š“Š“Š¾Š½Šµ, Š±Š»ŠøŠ¶Šµ Šŗ ŠøŠ³Š»Šµ, ŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°ŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾, ŠøŠ³Š»Š° Š¼Š¾Š³Š»Š° Š±ŃŃŃ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠµ Šø ŃŠ¾Š»ŃŠµ; ŠøŃŠŗŠ»ŃŃŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŃŠ¾ŃŃŠ²Š° ŠæŠ¾ŃŠ¾Ń Š¾Š²ŃŃ Š³Š°Š·Š¾Š² ŠæŠ¾ŃŃŠµŠ“ŃŃŠ²Š¾Š¼ ŠŗŠ¾Š¶Š°Š½Š¾Š³Š¾ ŠŗŃŃŠ¶ŠŗŠ° Š½Š° ŠæŠµŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŃŠ°ŃŃŠø Š·Š°ŃŠ²Š¾ŃŠ°. ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ Š²ŃŠ“ŠµŠ»ŠŗŠ° ŠæŠ¾ ŃŃŠ¾Š¹ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Šµ Š½Šµ Š±ŃŠ»Š° Š·Š°Š²ŠµŃŃŠµŠ½Š°. ŠŃŠ»Š¾ Š²ŃŃŃŠ½ŠµŠ½Š¾, ŃŃŠ¾ ŃŃŃŠµŃŃŠ²ŃŠµŃ ŠæŃŠ¾Š±Š»ŠµŠ¼Š° Š½ŠµŠ“Š¾Š»ŠµŃŠ° ŠæŃŠ»Ń, ŠæŃŠøŃŠµŠ¼ ŠøŠ·-Š·Š° ŃŠ¾Š³Š¾, ŃŃŠ¾ Ā«ā¦ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ Š²ŃŃŃŃŠµŠ»Š° Š½ŠµŃŠ³Š¾ŃŠµŠ²ŃŠ°Ń ŃŠ°ŃŃŃ Š³ŠøŠ»ŃŠ·Ń, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Š²ŃŠµ Š“Š½Š¾ ŠæŠ°ŃŃŠ¾Š½Š° Š¾ŃŃŠ°Š²Š°Š»ŠøŃŃ Š² ŠŗŠ°Š¼Š¾ŃŠµ Šø ŠæŃŠ¾Š“Š²ŠøŠ³Š°Š»ŠøŃŃ Š²ŠæŠµŃŠµŠ“ ŠæŃŠø Š²ŠŗŠ»Š°Š“ŃŠ²Š°Š½ŠøŠø ŃŠ»ŠµŠ“ŃŃŃŠµŠ³Š¾ ŠæŠ°ŃŃŠ¾Š½Š°ā¦Ā»9.
ŠŠ° ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Šµ ŠæŃŠ¾ŠøŃŃ Š¾Š“ŠøŃ ŃŃŠµŃŠŗŠ° Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Šø, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Šµ ŃŠµŠ½ŠøŠ»Š¾ŃŃ Š½Š° Š²ŠµŃ Š·Š¾Š»Š¾ŃŠ°. Š§ŃŠ¾Š±Ń ŠæŠµŃŠµŠ“ŠµŠ»ŃŠ²Š°ŃŃ Š¼Š°ŃŃŠ¾Š²Š¾ ŠøŠ³Š¾Š»ŃŃŠ°ŃŃŠµ Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŠø, Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾ ŠæŠµŃŠµŃŃŃŃŠ¾Š¹ŃŃŠ²Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š², Š° ŃŃŠ¾ Š·Š°Š¹Š¼ŠµŃ Š¼Š½Š¾Š³Š¾ Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Šø. Š”Š»ŠøŃŠŗŠ¾Š¼ ŃŠ»Š¾Š¶Š½ŃŠ¼ Š±ŃŠ»Š¾ ŃŃŃŃŠ¾Š¹ŃŃŠ²Š¾ Š·Š°ŃŠ²Š¾ŃŠ°. Ā«Š” ŠŗŠ¾Š½ŃŠ° 67 Š³. ŠæŠ¾ ŃŠµŠ²ŃŠ°Š»Ń 69 Š³. ā Š½Š° Š½Š°ŃŠøŃ ŃŃŠµŃ ŠŗŠ°Š·ŠµŠ½Š½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°Ń Šø ŃŠ°ŃŃŠ½ŃŃ Š¼Š°ŃŃŠµŃŃŠŗŠøŃ Š±ŃŠ»Š¾ ŠæŠµŃŠµŠ“ŠµŠ»Š°Š½Š¾ Š»ŠøŃŃ 90 000 ŃŃŠ¶ŠµŠ¹. ŠŠ¶ŠµŠ“Š½ŠµŠ²Š½ŃŠ¹ ŠøŠ· ŠæŃŠøŠµŠ¼Š¾Š² Š²Š¾ Š²ŃŠµŃ ŠæŃŠøŠµŠ¼Š½ŃŃ ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠøŃŃ Š½Šµ ŠæŃŠµŠ²Š¾ŃŃ Š¾Š“ŠøŠ» Šø 600 ŃŠŗŠ·ŠµŠ¼ŠæŠ»ŃŃŠ¾Š²Ā»10.
ŠŠ¾ŠøŃŠŗ Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŃŠ¾Š²ŠµŃŃŠµŠ½Š½ŃŃ Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼ ŠæŃŠ¾Š“Š¾Š»Š¶Š°Š»ŃŃ, Šø Š² 1869 Š³. Š±ŃŠ»Š° Š¾Š±ŃŠ°Š·Š¾Š²Š°Š½Š° ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠøŃ Š²Š¾ Š³Š»Š°Š²Šµ Ń ŠæŃŠµŠ“ŃŠµŠ“Š°ŃŠµŠ»ŠµŠ¼ Š³ŠµŠ½ŠµŃŠ°Š»-Š»ŠµŠ¹ŃŠµŠ½Š°Š½ŃŠ¾Š¼ Š ŠµŠ·Š²ŃŠ¼11, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ°Ń ŃŠ°ŃŃŠ¼Š¾ŃŃŠµŠ»Š° 4 Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŠ°: ŠŠ»ŃŠ±ŠøŠ½Šø, Š¢ŠµŃŃŃŠ¾Š½, ŠŃŠ½ŠŗŠ° Šø ŠŠ°ŃŠ°Š½Š¾Š²Š°. 1 Š¼Š°ŃŃŠ° 1869 Š³. ŃŠ»ŠµŠ½Ń ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠøŠø Š¾ŃŠ“Š°Š»Šø ŠæŃŠµŠ“ŠæŠ¾ŃŃŠµŠ½ŠøŠµ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Šµ ŠŃŠ½ŠŗŠ°. 21 ŠøŃŠ»Ń 1869 Š³. Š±ŃŠ» ŃŃŠ²ŠµŃŠ¶Š“ŠµŠ½ Š¾ŠŗŠ¾Š½ŃŠ°ŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠ¹ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŠµŃ Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŠø ŠŃŠ½ŠŗŠ°. Š” 21 ŠøŃŠ»Ń 1869 ŠæŠ¾ 20 Š°Š²Š³ŃŃŃŠ° 1871 Š³. Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŠµ Š·Š°Š²Š¾Š“Ń Šø Š¼Š°ŃŃŠµŃŃŠŗŠøŠµ ŠæŠµŃŠµŠ“ŠµŠ»Š°Š»Šø 516 901 Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŃ ŠæŠ¾ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Šµ ŠŃŠ½ŠŗŠ°, Š° 125 067 ŃŠŗŠ·ŠµŠ¼ŠæŠ»ŃŃŠ¾Š² Š±ŃŠ»Š¾ ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Š¾ Š½Š¾Š²ŃŃ ŠæŠ¾ ŃŃŠ¾Š¹ Š¶Šµ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Šµ.
ŠŠµŃŠ²ŃŠ¹ Š“Š¾Š»Š³Š¾Š¶Š“Š°Š½Š½ŃŠ¹ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŠµŃ Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŠø ŃŠ¼ŠµŠ½ŃŃŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ° Šø Ń ŃŠ½ŠøŃŠ°ŃŠ½ŃŠ¼ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠ¼ ŠæŠ°ŃŃŠ¾Š½Š¾Š¼ ā ŃŠµŠ·ŃŠ»ŃŃŠ°Ń ŃŠ°Š±Š¾ŃŃ Š² ŠŠ¼ŠµŃŠøŠŗŠµ ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ Š²Š¾ŠµŠ½Š½ŃŃ Š°Š³ŠµŠ½ŃŠ¾Š² ā ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ¾Š²Š½ŠøŠŗŠ° Š.Š. ŠŠ¾ŃŠ»Š¾Š²Š° Šø ŠŗŠ°ŠæŠøŃŠ°Š½Š° Š.Š. ŠŃŠ½Š½ŠøŃŃŠ°. ŠŃŠ¾Š³Š¾Š¼ ŠøŃ ŃŠ°Š±Š¾ŃŃ ŃŃŠ°Š»Š° Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŠ° ŠŠµŃŠ“Š°Š½Š° Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŠ° 1868 Š³. Š 1869 Š³. Š„. ŠŠµŃŠ“Š°Š½ ŠæŃŠµŠ“Š»Š¾Š¶ŠøŠ» Š½ŠµŃŠŗŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ ŠøŠ·Š¼ŠµŠ½ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ Š²Š°ŃŠøŠ°Š½Ń ŃŠ¾ ŃŠŗŠ¾Š»ŃŠ·ŃŃŠøŠ¼ Š·Š°ŃŠ²Š¾ŃŠ¾Š¼, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹, Š“ŠµŠ¹ŃŃŠ²ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾, Š±ŃŠ» Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŃŠ¾Š²ŠµŃŃŠµŠ½Š½ŃŠ¼: Ā«ā¦ŃŠµŠ·ŃŠ»ŃŃŠ°ŃŃ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠ¹, ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²ŠµŠ“ŠµŠ½Š½ŃŃ Š² ŠæŠµŃ Š¾ŃŠ½Š¾Š¼ ŃŃŠµŠ±Š½Š¾Š¼ Š±Š°ŃŠ°Š»ŃŠ¾Š½Šµ ŃŠŗŠ°Š·Š°Š»Šø Š½Š° Š±ŠµŠ·ŃŃŠ»Š¾Š²Š½ŃŠµ ŠæŃŠµŠøŠ¼ŃŃŠµŃŃŠ²Š° ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń ŠŠµŃŠ“Š°Š½Š° ā 2Ā»12. Š ŠøŃŠ¾Š³Šµ Š±ŃŠ»Š° ŃŠ¾Š·Š“Š°Š½Š° ŠŗŃŃŠæŠ½Š°Ń ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠøŃ Š“Š»Ń ŃŃŠ°Š²Š½ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŃ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠ¹ ŠŠµŃŠ“Š°Š½Š° ā 1 Šø ā 2 Šø ŃŃŠ¶ŃŃ ŠøŠ· ŠŠ°Š²Š°ŃŠøŠø ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń ŠŠµŃŠ“ŠµŃŠ°. ŠŠ¾ŃŠ»Šµ ŃŃŠøŃ Š²ŃŠµŃŃŠ¾ŃŠ¾Š½Š½ŠøŃ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠ¹ ŃŃŠ°Š»Š¾ ŃŃŠ½Š¾, ŃŃŠ¾ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Š° ŠŠµŃŠ“Š°Š½Š° ā 2 Š»ŠøŠ“ŠøŃŃŠµŃ Šø ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ Š½Š°Š“Š¾ Š½Š°ŃŠøŠ½Š°ŃŃ ŠæŠ¾ ŃŃŠ¾Š¹ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Šµ.
2. ŠŠ¾Š²Š¾Šµ ŃŃŠ°Š»ŠµŠ»ŠøŃŠµŠ¹Š½Š¾Šµ Šø ŃŃŠ°Š»ŠµŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Šµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š°
ŠŃŠø ŠæŠµŃŠµŃ Š¾Š“Šµ Š½Š° ŃŃŃŠ½Š¾Šµ Š¾Š³Š½ŠµŃŃŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ Š¼ŠµŠ½ŃŃŠµŠ³Š¾ ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ° ŃŃŠ²Š¾Š»Ń ŠøŠ· Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š° Š½Šµ Š¼Š¾Š³Š»Šø ŠæŃŠ¾Š¹ŃŠø Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼ŃŃ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠ¹. ŠŠ¾ŃŠ½Š¾Šµ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾ Š² ŃŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¼ Š“Š°Š²Š°Š»Š¾ Š“Š¾ 60 % Š±ŃŠ°ŠŗŠ°. ŠŠ°Šŗ Š²Š°ŃŠøŠ°Š½Ń, ŃŠµŃŠøŠ»Šø ŠøŃŠæŃŃŠ°ŃŃ Š½Š° ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Š¾ ŠŗŠ¾Š½ŃŃŠ¾Š·ŃŠŗŠ¾Šµ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Šµ ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ°Š²Š»ŠøŠ²Š°Š»Šø Š½Š° ŠŠ¶ŠµŠ²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾Š“ŠµŠ»Š°ŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ Š±ŃŠ°ŃŃŃ ŠŃŠ°Š½Š“Š¼Š¾Š½ŃŠ°Š½. Š ŃŠ¾Š¼Ń Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Šø Š±ŃŠ»Š° ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½Š° ŃŃŠ°Š»Ń ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š°13 Šø ŠæŠ¾ŠŗŠ°Š·Š°Š»Š° Š½Š°ŠøŠ¼ŠµŠ½ŃŃŠµŠµ ŠŗŠ¾Š»ŠøŃŠµŃŃŠ²Š¾ Š±ŃŠ°ŠŗŠ°. Š¢ŠµŠ¼ Š±Š¾Š»ŠµŠµ, ŃŃŠ¾ Š¾Ń ŃŠ°ŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾Š»ŠøŃŠµŃŃŠ²Š° Š±ŃŠ°ŠŗŠ° ŃŠøŠ»ŃŠ½Š¾ ŃŃŃŠ°Š“Š°Š»Š° ŠŗŠ°Š·Š½Š° ā 30 % Š±ŃŠ°ŠŗŠ°, Š“Š²Š°Š¶Š“Ń Šø Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŠæŃŠøŃ Š¾Š“ŠøŃŃŃ ŠæŠ»Š°ŃŠøŃŃ Š·Š° ŃŃŠ²Š¾Š»Ń.
Š 1855 Š³. ŠæŃŠ¾Š²ŠµŠ»Šø ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² ŠøŠ· Š»ŠøŃŠ¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø14 ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ¾Š²Š½ŠøŠŗŠ° ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š° Šø Ā«Š½Š°ŃŠ»Šø, ŃŃŠ¾ Š¾Š½Šø Š¾Š±Š»Š°Š“Š°ŃŃ Š²ŃŠµŠ¼Šø ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Š°Š¼Šø Š½Š°ŠøŠ»ŃŃŃŠøŃ ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š², Š° ŠøŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾ ŃŠøŃŃŠ¾ŃŠ¾Ń, Š²ŃŠ·ŠŗŠ¾ŃŃŃŃ, Š¾Š“Š½Š¾ŃŠ¾Š“Š½Š¾ŃŃŃŃ Šø Š·Š½Š°ŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¹ ŃŠ²ŠµŃŠ“Š¾ŃŃŃŃ, ŃŠµŠ³Š¾ Š½Šµ Š“Š¾ŃŃŠøŠ³Š°Š»Š¾ŃŃ Š² ŃŠæŠ¾ŃŃŠµŠ±Š»ŃŠ²ŃŠµŠ¼ŃŃ Ń Š½Š°Ń Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Šµ; ŃŃŠ¾ Š½Š°ŃŠµŠ·ŠŗŠ° ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š², Š½ŠµŃŠ¼Š¾ŃŃŃ Š½Š° ŃŠ²ŠµŃŠ“Š¾ŃŃŃ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š°, Š±ŃŠ»Š° ŠøŃŠæŠ¾Š»Š½ŠµŠ½Š° Š³Š¾ŃŠ°Š·Š“Š¾ Š¾ŃŃŠµŃŠ»ŠøŠ²ŠµŠµ Šø ŃŠ“Š¾Š±Š½ŠµŠµ, ŃŠµŠ¼ Š¾Š±ŃŠŗŠ½Š¾Š²ŠµŠ½Š½Š°Ń Š½Š°ŃŠµŠ·ŠŗŠ° Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š²Ā»15. Š¢Š°ŠŗŠ¶Šµ, Š² ŃŃŠ¾Š¼ Š¶Šµ Š³Š¾Š“Ń, Š±ŃŠ»Š° ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½Š° ŃŃŠ°Š»Ń Š²ŠµŃŃŃŠ°Š»ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°Š½ŃŠ° ŠŃŃŠæŠæŠ°, Ń ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¼ ŠŗŠ¾Š½ŠŗŃŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š» ŠŠ±ŃŃ Š¾Š². ŠŠ±Š° Š²Š°ŃŠøŠ°Š½ŃŠ° Š±ŃŠ»Šø Š“Š¾ŃŃŠ°ŃŠ¾ŃŠ½Š¾Š“Š¾ŃŠ¾Š³ŠøŠ¼Šø. ŠŃŠ» ŠµŃŠµ Š¾Š“ŠøŠ½ Š²Š°ŃŠøŠ°Š½Ń ŃŃŠ°Š»Šø ā ŠµŠ³Š¾ ŠæŃŠµŠ“Š»Š°Š³Š°Š»Š¾ ŃŃŠ°Š»ŠµŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Šµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ Š³Š¾ŃŠ¾Š“Š° ŠŠ³ŠµŃ, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Šµ Š±ŃŠ»Š¾ ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²ŃŠøŠŗŠ¾Š¼ ŠæŃŃŃŃŠŗŠøŃ ŠŗŠ°Š·ŠµŠ½Š½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š² Š² ŠŠ¾Š¼Š¼ŠµŃŠ“Šµ Šø ŠØŠæŠ°Š½Š“Š°Ń: Ā«ā¦Š·Š° Š½ŠµŠæŃŠ¾ŃŠ²ŠµŃŠ»ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ ŃŃŠ²Š¾Š» Š¾ŠŗŠ¾Š»Š¾ 16 ā ŠŗŠ¾Šæ. ŃŠµŃ. Ń ŃŃŠ½ŃŠ° <ā¦> Š·Š° ŠæŃŠ¾ŃŠ²ŠµŃŠ»ŠµŠ½Š½ŃŠ¹, Š¾Š±ŃŠ¾ŃŠµŠ½Š½ŃŠ¹ Šø ŠæŠ¾Š“ŃŠ°Š¶ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ ŃŃŠ²Š¾Š» ŠæŠ¾ 4 Ń. 40 Šŗ. Š·Š° ŃŠŗŠ·ŠµŠ¼ŠæŠ»ŃŃĀ»16. Š 1856ā57 Š³Š³. Š² ŠŠŗŠ°ŃŠµŃŠøŠ½Š±ŃŃŠ³ŃŠŗŠ¾Š¼ Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾Š¼ Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½Š¾Š¼ Š¾ŃŠ“ŠµŠ»ŠµŠ½ŠøŠø ŠæŃŠøŠ³Š¾ŃŠ¾Š²ŠøŠ»Šø 12 ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² ŠøŠ· ŃŃŠ°Š»Šø ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š°, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ ŠæŃŠø ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠø Š²ŃŠ“ŠµŃŠ¶Š°Š»Šø 2 ŃŃŠ°Š½Š“Š°ŃŃŠ½ŃŃ Š·Š°ŃŃŠ“Š° Šø 28 ŃŃŠøŠ»ŠµŠ½Š½ŃŃ . ŠŃŠ“ŠµŃŠ¶Š°Š»Šø Š¾Š½Šø ŠøŃ , Š½Šµ ŃŠ°Š·Š¾ŃŠ²Š°Š²ŃŠøŃŃ. Š”ŃŠ°Š»Ń ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š° Š²ŃŠøŠ³ŃŃŠ²Š°Š»Š° Š² ŃŠµŠ½Šµ: Ā«ā¦Š¾Š½Š° ŃŃŠ¾ŠøŃ Š¾Ń 1 Ń. 60 Šŗ. Š“Š¾ 2 Ń. ŃŠµŃ., ŠŗŃŃŠæŠæŠ¾Š²ŃŠŗŠ°Ń Š¶Šµ Š±Š¾Š»ŠµŠµ 5 Ń. 50 Šŗ. ŃŠµŃ. Š·Š° ŠæŃŠ“, Š° ŃŃŠ°Š»Ń ŠŠ³ŠµŃŠ° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Š¾ŠŗŠ¾Š»Š¾ ŃŠ¾Š³Š¾ā¦Ā». ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ Š² 1863 Š³. ŃŃŠ²Š¾Š»Ń ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ°Š²Š»ŠøŠ²Š°Š»ŠøŃŃ Š²ŃŠµ ŃŠ°Š²Š½Š¾ ŠøŠ· Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š°, ŠæŠ¾ ŠæŃŠøŃŠøŠ½Šµ ŃŠøŠ»ŃŠ½Š¾Š¹ Š“Š¾ŃŠ¾Š³Š¾Š²ŠøŠ·Š½Ń ŃŃŠ°Š»Šø. ŠŠ½ŃŠµŃŠµŃ Š² ŠøŠ·ŃŃŠµŠ½ŠøŠø Š¾ŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŃŃŃ ŃŠµŠ·ŃŠ»ŃŃŠ°ŃŃ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠ¹ ŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š° Šø ŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø Š¼Š°ŃŃŠµŃŠ¾Š² ŠŠ¾Ń ŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¾Š±ŃŠµŠ“ŠøŠ½ŠµŠ½ŠøŃ17. Š”ŃŠ°Š»Ń ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š° Ń Š¾ŃŠ¾ŃŠ¾ ŠŗŠ¾Š²Š°Š»Š°ŃŃ, Š¾Ń ŃŠ“Š°ŃŠ° Š¼Š¾Š»Š¾ŃŠŗŠ¾Š¼ Š½Šµ Š±ŃŠ»Š¾ ŃŃŠµŃŠøŠ½, ŠøŠ·Š»Š¾Š¼ Š·Š°ŠŗŠ°Š»ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø Š±ŃŠ» Š¼ŠµŠ»ŠŗŠ¾Š·ŠµŃŠ½ŠøŃŃ, Š½Š¾ Š·ŠµŃŠ½Š° Š²ŠøŠ“Š½Ń Š±ŃŠ»Šø Š½ŠµŠ²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½Š½ŃŠ¼ Š³Š»Š°Š·Š¾Š¼. ŠŠ°Š»ŠµŠµ ŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š»Š¾ ŃŠ¶Šµ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½ŃŃ Š±Š¾Š»Š²Š°Š½Š¾Šŗ, ŠæŃŠø Š²ŃŃŠ²ŠµŃŠ»ŠøŠ²Š°Š½ŠøŠø Šø Š¾Š±ŃŠ¾ŃŠŗŠµ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ Š½Šµ Š±ŃŠ»Š¾ Š½ŠøŠŗŠ°ŠŗŠøŃ ŠæŃŠ¾Š±Š»ŠµŠ¼. Š ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ ŃŃŠ¾Š³Š¾ Š½Š°ŃŃŃŠæŠøŠ»Š° Š¾ŃŠµŃŠµŠ“Ń ŠæŠ¾ŃŠ¾Ń Š¾Š²Š¾Š¹ ŠæŃŠ¾Š±Ń. ŠŠ¾ŃŃŃŠøŠŗ Š ŃŃŠøŠ»Š¾Š²ŠøŃ, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ ŠæŃŠ¾Š²Š¾Š“ŠøŠ» ŃŃŠø ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ, ŃŠ“ŠµŠ»Š°Š» Š½ŠµŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ Š²ŃŠ²Š¾Š“Ń. ŠŃŠ»Šø Š±Ń ŃŃŠ°Š»Ń ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š°, ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Š½Š°Ń Š“Š»Ń ŃŃŠ¾Š³Š¾ Š¾ŠæŃŃŠ°, Š±ŃŠ»Š° ŃŠ“ŠµŠ»Š°Š½Š° ŃŠ°Š¼ŃŠ¼ ŃŃŠ°ŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠ¼ Š¾Š±ŃŠ°Š·Š¾Š¼, Š¾Š½Š° Š¾Š±Š¾ŃŠ»Š° Š±Ń ŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Šµ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾. ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ ŠŗŠ¾Š½ŠŗŃŠµŃŠ½Š¾ ŠæŃŠø ŃŃŠøŃ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń ŠøŠ· Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š° Š±ŃŠ»Šø Š²ŃŠ·ŃŠµ Šø ŃŠæŃŃŠ¶Šµ Š¾Š±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø. Š ŃŃŠ¾ ŠŗŠ°ŃŠ°ŠµŃŃŃ Š±Š¾Ń ŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø, ŃŠ¾ Š¾Š½Š° Š½Šµ Š²ŃŠ“ŠµŃŠ¶Š°Š»Š° ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠ¹, ŃŠ°Šŗ ŠŗŠ°Šŗ ŃŠ¶Šµ Š“Š¾ Š²Š°ŃŠ° Š½Š°Š³ŃŠµŠ²Š°Š»Š°ŃŃ Ń ŃŃŃŠ“Š¾Š¼, ŠæŃŠø ŠæŃŠ¾Š±ŠøŠ²ŠŗŠµ Š²Š°ŃŠ¾Š² ŃŃŠµŃŠŗŠ°Š»Š°ŃŃ, ŠŗŃŠ¾ŃŠøŠ»Š°ŃŃ.
Š§ŃŠ¾Š±Ń ŃŃŠæŠµŃ Š¾ŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠ°Š»ŠµŠ»ŠøŃŠµŠ¹Š½Š¾Š³Š¾ Šø ŃŃŠ°Š»ŠµŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š° ŃŠ°Š·Š²ŠøŠ²Š°Š»ŃŃ Š²ŠæŠµŃŠµŠ“, Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾ ŃŠ°ŃŃŠøŃŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ², Š½Š¾Š²Š¾Šµ Š¾Š±Š¾ŃŃŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµ, Š½Š¾Š²ŃŠµ Š¾ŠæŃŃŃ. Š 1858 Š³. Š.Š. ŠŠ±ŃŃ Š¾Š² ŠæŠ¾Š»ŃŃŠøŠ» ŃŠ°Š·ŃŠµŃŠµŠ½ŠøŠµ Š½Š° ŠæŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¹ŠŗŃ ŃŠ²Š¾ŠµŠ¹ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠø, ŠŠ½ŃŠ·Šµ-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹. Ā«Š ŠŗŠ¾Š½ŃŃ 1861 Š³. Š½Š° ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŃ Š±ŃŠ»Šø Š“Š¾ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½Ń ŃŠ²ŠµŃŠ»ŠøŠ»ŃŠ½ŃŠµ, ŃŠ¾ŠŗŠ°ŃŠ½ŃŠµ Šø ŃŃŃŠ¾Š³Š°Š»ŃŠ½ŃŠµ ŃŃŠ°Š½ŠŗŠø, Š²Š¾Š·Š“ŃŃ Š¾Š“ŃŠ²Š½ŃŠµ ŃŠøŠ»ŠøŠ½Š“ŃŃ Š±Š¾Š»ŃŃŠøŃ ŃŠ°Š·Š¼ŠµŃŠ¾Š² Šø ŃŠµŃŃŃŠµ ŠæŠ°ŃŠ¾Š²ŃŃ Š¼Š¾Š»Š¾ŃŠ° ŃŠ°Š·Š»ŠøŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š²ŠµŃŠ°, Š¾Š“ŠøŠ½ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń ŠŠ¾Š½Š“Šø, Š¾ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ ŠŠµŃŠ¼ŠøŃŠ°Ā»18. ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ ŠŠ½ŃŠ·Šµ-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ°Ń ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ° Š·Š°Š½ŠøŠ¼Š°Š»Š°ŃŃ Š±Š¾Š»ŃŃŠµ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠ¼Šø ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Š¼Šø, ŠæŠ¾ŃŃŠ¾Š¼Ń Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Ń Š±ŃŠ»Šø ŠµŃŠµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š°. Ā«Š 1861 Š³. ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠ¶ŃŠŗŠøŠ¹ ŃŠ¾Š²ŠµŃŠ½ŠøŠŗ ŠŃŃŠøŠ»Š¾Š², ŠæŠ¾Š»ŃŃŠøŠ² Š¾Ń ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ¾Š²Š½ŠøŠŗŠ° ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š° ŠæŃŠ°Š²Š¾ Š½Š° ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ ŃŃŠ°Š»Šø ŠæŠ¾ ŠµŠ³Š¾ ŃŠæŠ¾ŃŠ¾Š±Ń Š½Š° ŃŠ°ŃŃŠ½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°Ń , ŃŠµŃŠøŠ»ŃŃ Š½Š° ŃŃŃŃŠ¾Š¹ŃŃŠ²Š¾ ŃŃŠ°Š»ŠµŠ»ŠøŃŠµŠ¹Š½Š¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š° ŠæŠ¾Š“ ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³Š¾Š¼Ā»19. Š”ŃŃŠ¾ŠøŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“ ŃŠµŃŠµŠ½Š¾ Š±ŃŠ»Š¾ Š²Š±Š»ŠøŠ·Šø ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°ŠµŠ²ŃŠŗŠ¾Š¹ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½Š¾Š¹ Š“Š¾ŃŠ¾Š³Šø. Š”Š°Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“ Š±ŃŠ» Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š°Š½ Š² 1863ā64 Š³Š³. ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾, ŃŃŠ“Ń ŠæŠ¾ ŠøŠ½ŃŠ¾ŃŠ¼Š°ŃŠøŠø ŠøŠ· ŃŃŃŠ“Š° Š. ŠŠ¾Š»ŃŠ°ŠŗŠ°20, ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Š“Š»Ń Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²Š¾Šŗ Š·Š°Š²Š¾Š“ Š½Š°ŃŠ°Š» Š²ŃŠ“ŠµŠ»ŃŠ²Š°ŃŃ Š»ŠøŃŃ Ń 1871 Š³. ŠæŠ¾ Š·Š°ŠŗŠ°Š·Š°Š¼ ŠŠ¾ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ Š²ŠµŠ“Š¾Š¼ŃŃŠ²Š°.
ŠŠ°Š³ŃŠ°Š½ŠøŃŠ½ŃŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Š²ŠæŠ¾Š»Š½Šµ ŃŠ“Š¾Š²Š»ŠµŃŠ²Š¾ŃŃŠ»Šø ŠŠŠ£, Š·Š°ŠŗŠ°Š·Ń ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ°Š»Šø Š² Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š½Š¾Š¼ Š² Š.-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŃŃ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŃ, Š° Ń 1864 Š³. Šø Š½Š° ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠøŠ¹ Šø ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹21 Š·Š°Š²Š¾Š“Ń. Ā«ŠŃŠ¾Š¼Šµ ŃŠ¾Š³Š¾, Š“Š¾ ŃŠøŃ ŠæŠ¾Ń ŠæŠ¾ŃŃŠµŠ±Š½Š¾ŃŃŃ Š² ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Ń Š±ŃŠ»Š° Š½ŠµŠ·Š½Š°ŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š°, ŠøŠ±Š¾ ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š¾Š“Š½Š° ŃŠµŃŠ²ŠµŃŃŠ°Ń ŃŠ°ŃŃŃ Š²ŃŠµŃ , ŠµŠ¶ŠµŠ³Š¾Š“Š½Š¾ ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŃŠµŠ¼ŃŃ ŃŃŠ¶ŠµŠ¹ ŠøŠ¼ŠµŠ»Š° ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµŃŃŠ²Š¾Š»Ń; ŠæŃŠøŃŠµŠ¼ Š² ŃŠ»ŃŃŠ°Šµ ŃŠŗŃŃŃŠµŠ½Š½Š¾Š¹ Š½Š°Š“Š¾Š±Š½Š¾ŃŃŠø, ŠøŃ Š²ŃŠµŠ³Š“Š° Š¼Š¾Š¶Š½Š¾ Š±ŃŠ»Š¾ Š·Š°Š¼ŠµŠ½ŠøŃŃ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½ŃŠ¼Šø, ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ Š² ŠæŠ¾ŃŠ»ŠµŠ“Š½ŠµŠµ Š²ŃŠµŠ¼ŃŠ½Šµ Š²ŃŃŃŠµŃŠ°Š»Š¾ Š·Š°ŃŃŃŠ“Š½ŠµŠ½ŠøŠ¹Ā»22. ŠŠ°ŃŠø ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠø Š½ŃŠ¶Š“Š°Š»ŠøŃŃ Š² ŃŠ°Š±Š¾ŃŠµ, Šø Š³Š¾ŃŠ¾Š²Ń Š±ŃŠ»Šø ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ°Š²Š»ŠøŠ²Š°ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Š½Šµ Ń ŃŠ¶Šµ Šø Š½Šµ Š“Š¾ŃŠ¾Š¶Šµ. ŠŃŠø ŃŃŠ¾Š¼ Š¾Š½Šø Š½ŃŠ¶Š“Š°Š»ŠøŃŃ Š²Š¾ Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Šø Š½Š° Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼ŃŠµ Š¾ŠæŃŃŃ, Š²ŃŠæŠøŃŠŗŃ Šø ŃŃŃŠ°Š½Š¾Š²ŠŗŃ ŃŃŠ°Š½ŠŗŠ¾Š², Šø Š²ŃŠŗŠ¾ŃŠµ Š¾Š½Šø ŃŠ¼Š¾Š³Š»Šø Š±Ń ŠæŃŠøŃŃŃŠæŠøŃŃ Šŗ ŃŠ°Š±Š¾ŃŠµ. ŠŃŠ¾Š¼Šµ ŃŠ¾Š³Š¾, Ā«ā¦ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃ ŃŃŠø Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾ ŠæŃŠ¾Š²ŠµŃŃŠø Š½Šµ ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š½Š°Š“ ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Š¼Šø, Š“Š¾ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½Š½ŃŠ¼Šø Ń Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š² ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Šø ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Šø Ń ŠŠ½ŃŠ·Šµ-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠø, Š½Š¾ Šø Ń ŠŠ¶ŠµŠ²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°, Š³Š“Šµ ŃŠ¶Šµ ŃŃŃŠµŃŃŠ²ŃŠµŃ, Ń Š¾ŃŃ Šø Š½Šµ Š² Š·Š½Š°ŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¼ ŃŠ°Š·Š¼ŠµŃŠµ, ŃŠ²Š¾Š¹ ŃŠæŠ¾ŃŠ¾Š± ŠæŠ¾Š»ŃŃŠµŠ½ŠøŃ Š»ŠøŃŠ¾Š¹ ŃŃŠ°Š»ŠøĀ»23. ŠŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ Š½Š° ŠŠ¶ŠµŠ²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾Š“ŠµŠ»Š°ŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¼ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Šµ Š¼Š¾Š¶Š½Š¾ Š±ŃŠ»Š¾ ŠæŠµŃŠµŠæŃŠ¾ŃŠøŠ»ŠøŃŠ¾Š²Š°ŃŃ Š² ŃŃŠ°Š»ŠµŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Šµ, ŃŠµŠ¼ Š±Š¾Š»ŠµŠµ, ŃŃŠ¾ Ā«Š·Š° ŃŃŠæŠµŃŠ½Š¾Šµ ŃŠ°Š·Š²ŠøŃŠøŠµ Š“ŠµŠ» Š² ŠŠ¶ŠµŠ²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ ŃŃŃŠ°Š»Š¾ŃŃ ŠŗŃŠ¾Š¼Šµ ŃŠ¾Š³Š¾ ŃŃŠ°ŃŃŠøŠµ Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠøŠŗŠ° ŠŠµŃŠ³ŠµŃŠ° ŠøŠ· ŠŠøŃŃŠµŠ½Š°, Š»ŠøŃŠ½Š¾ Š² Š“ŠµŠ»Šµ Š·Š°ŠøŠ½ŃŠµŃŠµŃŠ¾Š²Š°Š½Š½Š¾Š³Š¾Ā»24.
ŠŠ±ŃŃŠ°Š½Š¾Š²ŠŗŠ° Š¼ŠµŠ½ŃŠµŃŃŃ, ŠŗŠ¾Š³Š“Š° Ń Š½Š°Ń Š½Š° Š²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŃŠøŠ½ŠøŠ¼Š°ŃŃ ŃŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠµ ŃŃŠ¶ŃŃ Š¼Š°Š»Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ° (Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŠ° ŠŠµŃŠ“Š°Š½Š° ā 1 Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŠ° 1868 Š³.) ā Š“Š»Ń Š½ŠøŃ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½ŃŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Š½Šµ ŠæŠ¾Š“Ń Š¾Š“ŠøŠ»Šø, ŃŠ°Šŗ ŠŗŠ°Šŗ Š½Šµ Š¾ŠŗŠ°Š·ŃŠ²Š°Š»Šø Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾Šµ ŃŠ¾ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŠ¾Š³ŠøŠ±Š¾Š¼. ŠŃŠ¾ Š±ŃŠ»Š¾ ŃŃŠµŠ²Š°ŃŠ¾ Š·Š°Š²ŠøŃŠøŠ¼Š¾ŃŃŃŃ Š¾Ń Š·Š°ŠæŠ°Š“Š½ŃŃ ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²Š¾Šŗ. ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ Š½Š°ŃŠø Š·Š°Š²Š¾Š“Ń Š³Š¾ŃŠ¾Š²Ń Š±ŃŠ»Šø ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ°Š²Š»ŠøŠ²Š°ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Š½Šµ Š“Š¾ŃŠ¾Š¶Šµ Š·Š°Š³ŃŠ°Š½ŠøŃŠ½ŃŃ . Š 1869 Š³. Š³Š¾ŃŠ½ŃŠ¹ Š½Š°ŃŠ°Š»ŃŠ½ŠøŠŗ ŠŠ»Š°ŃŠ¾ŃŃŃŠ¾Š²ŃŠŗŠøŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š² ŠæŠµŃŠµŠ“Š°ŠµŃ Š“Š¾Š½ŠµŃŠµŠ½ŠøŠµ Š¾Ń 6 ŃŠµŠ²ŃŠ°Š»Ń Š³Š¾ŃŠæŠ¾Š“ŠøŠ½Ń Š¼ŠøŠ½ŠøŃŃŃŃ ŃŠøŠ½Š°Š½ŃŠ¾Š², ŃŃŠ¾ ŠµŠ³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Ń ŠøŠ¼ŠµŃŃ Š²ŃŠµ ŃŃŠµŠ“ŃŃŠ²Š° Š“Š»Ń ŠŗŠ¾Š²ŠŗŠø Šø Š¾ŃŠ»ŠøŠ²ŠŗŠø Š±Š¾Š»Š²Š°Š½Š¾Šŗ. Š Š¾Š½Šø Š±ŃŠ“ŃŃ Š³Š¾ŃŠ¾Š²Ń Šŗ ŃŠµŃŠøŠ¹Š½Š¾Š¹ Š²ŃŠ“ŠµŠ»ŠŗŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Š½Šµ ŠæŠ¾Š·Š“Š½ŠµŠµ 1 ŃŠ½Š²Š°ŃŃ 1870 Š³.
Š 1870 Š³. Š³Š»Š°Š²Š½Š¾Š¹ Š·Š°Š“Š°ŃŠµŠ¹ ŃŠ²Š»ŃŠ»Š¾ŃŃ ŃŃŠ°Š²Š½ŠµŠ½ŠøŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š², ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Š½ŃŃ Š½Š° ŃŠ°Š·Š½ŃŃ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°Ń : ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ, ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š¼, ŠŠ½ŃŠ·Šµ-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠµ, ŠŠ¶ŠµŠ²ŃŠŗŠ¾Š¼, Š½Š° Š½ŠµŠ¼ŠµŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠµ ŠŠµŃŠ³ŠµŃŠ°, ŃŃŠ¾Š±Ń ŃŃŠ²ŠµŃŠ“ŠøŃŃ Š¾ŠŗŠ¾Š½ŃŠ°ŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾ Š“Š¾Š¼ŠøŠ½Š°Š½ŃŃ Š½Š° ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Šµ. Š” ŠŗŠ°Š¶Š“Š¾Š¹ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠø Š“Š»Ń ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠ¹ ŠæŠ¾ŃŃŠµŠ±Š¾Š²Š°Š»Šø ŠæŠ¾ 50 Š³Š»ŃŃ ŠøŃ ŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½ŃŃ Š±Š¾Š»Š²Š°Š½Š¾Šŗ Šø 50 ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š². Ā«Š¤Š°Š±ŃŠøŠŗŠ° ŠæŃŠøŠ³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŃŠµŃ 150 Š³Š»ŃŃ ŠøŃ Š¾Š±ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ°Š½Š½ŃŃ Š±Š¾Š»Š²Š°Š½Š¾Šŗ, ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠµŃ ŠøŃ Š²ŃŠµ Š²Š¼ŠµŃŃŠµ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¼Ń Š¾ŃŠøŃŠµŃŃ, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹, Š²ŃŠ±ŃŠ°Š² ŠøŠ· ŃŃŠ¾Š³Š¾ ŃŠøŃŠ»Š° 50 ŃŠŗŠ·ŠµŠ¼ŠæŠ»ŃŃŠ¾Š², ŃŠ¾ŃŠ¾Šŗ Š¾ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŃŠµŃ Š“Š»Ń ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃ Š² Š”ŠµŃŃŃŠ¾ŃŠµŃŠŗ Š½Š° ŠæŠ¾Š³ŠøŠ±, Š½Š° Š±ŠµŠ»ŃŠ³ŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¼ ŃŃŠ°Š½ŠŗŠµ Šø ŃŠ°Š·ŃŠ°Š±Š¾ŃŠŗŠµ Š² ŃŃŠ²Š¾Š»Ń, Š° 10 Š¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠµŃ Š½Š° Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ Š“Š»Ń Š¼ŠµŃ Š°Š½ŠøŃŠµŃŠŗŠøŃ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠ¹, Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ Š±ŃŠ“ŠµŃ Š¾Š³Š¾Š²Š¾ŃŠµŠ½Š¾ Š½ŠøŠ¶Šµ; Š¾ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ 100 Š±Š¾Š»Š²Š°Š½Š¾Šŗ Š½Š°Š·Š½Š°ŃŠ°ŃŃŃŃ Š“Š»Ń ŠæŃŠøŠ³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ ŠøŠ· Š½ŠøŃ ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ 50 ŃŠµŃŠ½Š¾Š²ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Š½Š° ŃŠ°Š¼Š¾Š¹ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠµ Š² ŃŠ¾Š¼ ŠæŃŠµŠ“ŠæŠ¾Š»Š¾Š¶ŠµŠ½ŠøŠø, ŃŃŠ¾ ŠæŃŠø ŃŠ²ŠµŃŠ»ŠµŠ½ŠøŠø Š¼Š¾Š¶ŠµŃ Š¾ŠŗŠ°Š·Š°ŃŃŃŃ Š·Š½Š°ŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠ¹ Š±ŃŠ°Šŗ Š¾Ń Š½ŠµŠæŃŠøŠ²ŃŃŠŗŠø ŃŠ°Š±Š¾ŃŠøŃ ŃŠ²ŠµŃŠ»ŠøŃŃ Š¼Š°Š»Š¾ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŠµŃŠ½ŃŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»ŃĀ»25.
ŠŠæŃŃŃ Š½Š°Š“ ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Š¼Šø Šø ŃŃŠ°Š»ŃŃ Š±ŃŠ»Šø Š½ŠµŠæŃŠ¾ŃŃŃŠµ, Š¾Š½Šø ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŠøŠ»ŠøŃŃ Š² Š½ŠµŃŠŗŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ ŃŃŠ°Š“ŠøŠ¹: Š¾ŠæŃŠµŠ“ŠµŠ»ŃŠ»Šø ŃŠ¾ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š° ŃŠ¶Š°ŃŠøŃ, Š¾ŠæŃŠµŠ“ŠµŠ»ŠµŠ½ŠøŠµ ŃŠ°ŃŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŃ ŃŃŠ°Š»Šø ŠæŠ¾ Š½Š°ŠæŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ Š“Š»ŠøŠ½Ń ŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Š¹ Š±Š¾Š»Š²Š°Š½ŠŗŠø, Š¾ŠæŃŠµŠ“ŠµŠ»ŠµŠ½ŠøŠµ ŃŠ¾ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ²Š»ŠµŠ½ŠøŃ ŃŃŠ°Š»Šø Š“ŠµŠ¹ŃŃŠ²ŠøŃ ŃŠ“Š°ŃŠ¾Š². ŠŠ°Š»ŠµŠµ, Š“Š¾ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½Š½ŃŠµ Ń Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š² Š² ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³ 40 Š³Š»ŃŃ ŠøŃ Š±Š¾Š»Š²Š°Š½Š¾Šŗ ŠøŃŠæŃŃŃŠ²Š°Š»ŠøŃŃ Š½Š° ŠæŠ¾Š³ŠøŠ± Ń ŠæŠ¾Š¼Š¾ŃŃŃ Š±ŠµŠ»ŃŠ³ŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŃŠ°Š½ŠŗŠ° Š² Š”ŠµŃŃŃŠ¾ŃŠµŃŠŗŠµ, ŠæŠ¾ŃŠ¾Š¼ ŃŠ°Š·ŃŠ°Š±Š°ŃŃŠ²Š°Š»ŠøŃŃ ŃŠ°Š¼ Š¶Šµ Š² ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Šø ŠæŃŠµŠ“Š¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠ»ŠøŃŃ Š“Š»Ń ŠæŠ¾ŃŠ¾Ń Š¾Š²Š¾Š¹ ŠæŃŠ¾Š±Ń: 20 ŃŠµŃŠ½Š¾Š²ŃŃ Šø 20 Š¾ŠŗŠ¾Š½ŃŠ°ŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾ Š¾ŃŠ“ŠµŠ»Š°Š½Š½ŃŃ . Š”Š½Š¾Š²Š° ŠæŃŠ¾Ń Š¾Š“ŠøŠ»Šø ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃ Š½Š° ŠæŠ¾Š³ŠøŠ±. 25/50 (ŃŠµŃŠ½Š¾Š²ŃŃ ) ā ŠæŠ¾ŃŠ¾Ń Š¾Š²Š°Ń ŠæŃŠ¾Š±Š° Šø ŠæŠ¾Š³ŠøŠ±, 25/50 ā Š¾ŠŗŠ¾Š½ŃŠ°ŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾ Š¾ŃŠ“ŠµŠ»ŃŠ²Š°Š»ŠøŃŃ Š² Š”ŠµŃŃŃŠ¾ŃŠµŃŠŗŠµ Šø ŠæŃŠ¾Š±Š¾Š²Š°Š»ŠøŃŃ ŃŃŃŠµŠ»ŃŠ±Š¾Ń Šø ŠæŠ¾Š³ŠøŠ±Š¾Š¼. ŠŠ¾ŃŠ¾Ń Š¾Š²Š°Ń ŠæŃŠ¾Š±Š° ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŠøŠ»Š¾ŃŃ Š“Š²ŃŠ¼Ń Š²ŃŃŃŃŠµŠ»Š°Š¼Šø, ŠæŃŠøŃŠµŠ¼ Š½Š° ŃŠ°Š·ŃŃŠ² ŠøŃŠæŃŃŃŠ²Š°Š»ŠøŃŃ 10 % ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š². ŠŠ¾ŃŠ»Šµ ŠæŠ¾ŃŠ¾Ń Š¾Š²Š¾Š¹ ŠæŃŠ¾Š±Ń Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾ Š±ŃŠ»Š¾ ŃŠ¾Š¾Š±ŃŠøŃŃ Š²ŠµŠ»ŠøŃŠøŠ½Ń Š³ŃŃŠ·Š°, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ ŃŠµŃŠ½Š¾Š²ŃŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Š²ŃŠ“ŠµŃŠ¶ŠøŠ²Š°Š»Šø ŠæŃŠø ŠæŃŠ¾Š±Šµ Š½Š° ŠæŠ¾Š³ŠøŠ±, ŠæŃŠø ŃŃŠ¾Š¼ Š·Š° Š½Š°ŠøŠ¼ŠµŠ½ŃŃŃŃ Š½Š¾ŃŠ¼Ń ŠæŃŠøŠ½ŃŃŃ ŃŠ¾Ń Š³ŃŃŠ·, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ Š²ŃŠ“ŠµŃŠ¶ŠøŠ²Š°ŠµŃ Š²ŃŠµŃŠ½Šµ Š²ŃŃŠ²ŠµŃŠ»ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½ŃŠ¹ ŃŃŠ²Š¾Š» 6-Š»ŠøŠ½ŠµŠ¹Š½Š¾Š¹ Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŠø. Š”Š»ŠµŠ“ŃŃŠ²ŠøŠµŠ¼ ŃŠ°ŠŗŠøŃ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠ¹ ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Š¼Š¾Š¶Š½Š¾ ŃŃŠøŃŠ°ŃŃ Š¾ŃŠŗŠ°Š· Š¾Ń ŃŃŠ°Š»ŠµŠæŠ»Š°Š²ŠøŠ»ŃŠ½ŃŃ Š³Š¾ŃŠ½Š¾Š², ŃŠ°Šŗ ŠŗŠ°Šŗ ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠøŃ Š²ŃŃŠŗŠ°Š·Š°Š»Š°ŃŃ Š·Š° Š·Š°Š¼ŠµŠ½Ń ŠøŃ ŠæŠµŃŠ°Š¼Šø Š”ŠøŠ¼ŠµŠ½ŃŠ°, ŃŃŠ¾ ŠŗŠ°ŃŠ°ŠµŃŃŃ ŠæŃŠ¾ŃŠµŃŃŠ° Š²ŃŠæŠ»Š°Š²ŠŗŠø, ŃŠ¾ ŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°ŃŃ ŃŠæŠ¾ŃŠ¾Š±Ń ŠŠ°ŃŃŠµŠ½Š°26, Š·Š°ŠŗŠ°Š·Š°Š² ŠµŠ¼Ń ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń ŠøŠ»Šø ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ Š±Š¾Š»Š²Š°Š½ŠŗŠø Š“Š»Ń ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠ¹ Š² ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³Šµ Šø Š”ŠµŃŃŃŠ¾ŃŠµŃŠŗŠµ Šø Š“Š»Ń ŃŃŠ°Š²Š½ŠµŠ½ŠøŃ ŃŠ¾ ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Š¼Šø ŠŠµŃŠ³ŠµŃŠ°.
ŠŃŃŠ¾ŃŠøŃ ŃŃŠ°Š»ŠµŠ»ŠøŃŠµŠ¹Š½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š° Š½Šµ Š¼Š¾Š¶ŠµŃ Š¾Š±Š¾Š¹ŃŠøŃŃ Š±ŠµŠ· ŃŠæŠ¾Š¼ŠøŠ½Š°Š½ŠøŃ Š¾ Ā«ŃŃŠ°Š»Šø ŠŠ°ŃŠ°ŃŠ°ŠµŠ²Š°Ā», ŃŃŠµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ Š±ŃŃŃŃŠ¾ ŃŠ»Š¾ Š²Š²ŠµŃŃ Š² ŃŠµŃŠµŠ“ŠøŠ½Šµ 1860-Ń Š³Š³. ŠŠ°ŃŠ°ŃŠ°ŠµŠ² ā ŃŃŠ°Š±Ń-ŠŗŠ°ŠæŠøŃŠ°Š½, ŠæŠ¾Š¼Š¾ŃŠ½ŠøŠŗ ŃŃŠ°Š±-Š¾ŃŠøŃŠµŃŠ° ŠæŠ¾ ŠøŃŠŗŃŃŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ ŃŠ°ŃŃŠø ŠæŠ¾Š»ŠµŠ²Š¾Š¹ ŠŗŠ¾Š½Š½Š¾Š¹ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠø, ŠøŠ·ŃŃŠ°Š» Š½ŠµŃŠŗŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š»ŠµŃ ŃŃŠ°Š»ŠµŠ»ŠøŃŠµŠ¹Š½Š¾Šµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾. ŠŠ·ŃŃŠµŠ½ŠøŠµ ŠµŠ³Š¾ Š² 1862ā1865 Š³Š³. Š²ŃŠ»ŠøŠ»Š¾ŃŃ Š² Š“Š¾Š²Š¾Š»ŃŠ½Š¾ Š²ŃŃŠ¾ŠŗŠøŠµ ŃŠµŠ·ŃŠ»ŃŃŠ°ŃŃ. ŠŠ½ ŠæŠ¾Š±ŃŠ²Š°Š» Š½Š° Š½Š°ŃŠøŃ ŃŃŠ°Š»ŃŃŠŗŠøŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°Ń , ŃŠ±ŠµŠ“ŠøŠ»ŃŃ Š² Š³ŃŠ¾Š¼Š°Š“Š½Š¾ŃŃŠø Š±ŃŠ°ŠŗŠ° Šø ŠæŠ¾Š½ŃŠ», ŃŃŠ¾ Š²ŃŠµ Š“ŠµŠ»Š¾ Š² Š²ŃŠæŠ»Š°Š²ŠŗŠµ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š°. Š ŃŠ²Š¾Ń Š¾ŃŠµŃŠµŠ“Ń, Š¾Š½ ŠøŠ·ŃŃŠ°Š» ŃŃŠ°Š»Ń ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ¾Š²Š½ŠøŠŗŠ° ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š° Š½Š° ŠŠ»Š°ŃŠ¾ŃŃŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ. ŠŠµŃŠ½ŃŠ²ŃŠøŃŃ Š² Š”ŠµŃŃŃŠ¾ŃŠµŃŠŗ, Š¾Š½ Š½Š°ŃŠ°Š» Š“Š¾ŃŠŗŠ¾Š½Š°Š»ŃŠ½Š¾ ŠøŠ·ŃŃŠ°ŃŃ ŃŃŠ°Š»ŠµŠ»ŠøŃŠµŠ¹Š½Š¾Šµ Š“ŠµŠ»Š¾, ŃŠ°ŃŃŠ¾ ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ°Ń ŃŠµŠ»ŃŠ¼Šø Š½Š¾ŃŠ°Š¼Šø. Š ŠæŠµŃŠ²ŃŃ Š¾ŃŠµŃŠµŠ“Ń, Š¾Š½ ŠæŠµŃŠµŠ“ŠµŠ»Š°Š» Š³Š¾ŃŠ½ Š“Š»Ń Š¼ŠµŠ“Š½Š¾Š³Š¾ Š»ŠøŃŃŃ Š² ŃŃŠ°Š»ŠµŠ»ŠøŃŠµŠ¹Š½ŃŠ¹. ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾ŠøŠ² ŠµŠ³Š¾, ŃŠµŃŠøŠ» Š·Š°ŠŗŃŠæŠøŃŃ Š°Š½Š³Š»ŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ Š³ŃŠ°ŃŠøŃŠ¾Š²ŃŠµ ŃŠøŠ³Š»Šø, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ Š±ŃŠ»Šø Š“Š¾Š²Š¾Š»ŃŠ½Š¾ Š“Š¾ŃŠ¾Š³ŠøŠ¼Šø. Š Š°Š²Š³ŃŃŃŠµ 1863 Š³. ŠøŠ½ŃŠæŠµŠŗŃŠ¾Ń Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š² Š²ŃŠ“Š°Š» ŠŠ°ŃŠ°ŃŠ°ŠµŠ²Ń 600 ŃŃŠ±Š»ŠµŠ¹ ŃŠµŃŠµŠ±ŃŠ¾Š¼ Š² Š¾Š±Š¼ŠµŠ½ Š½Š° ŠæŠ¾ŃŠ»ŠµŠ“ŃŃŃŃŃ ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²ŠŗŃ ŠæŃŠ°Š²ŠøŃŠµŠ»ŃŃŃŠ²Ń 50 ŠæŃŠ“Š¾Š² Š»ŠøŃŠ¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø. ŠŠ¾Š³Š“Š° ŠæŃŠøŃŠ»Š° ŠøŠ· ŠŠ½Š³Š»ŠøŠø ŠæŠ¾ŃŃŠ»ŠŗŠ°, Š² Š½ŠµŠ¹ Š¾Š½ Š¾Š±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠøŠ» Š»ŠøŃŃ Š³ŃŠ°ŃŠøŃŠ¾Š²ŃŠµ Š¾ŃŠŗŠ¾Š»ŠŗŠø Ń ŃŠµŃŠµŠæŠŗŠ°Š¼Šø. ŠŠ°ŃŠ°ŃŠ°ŠµŠ² ŠæŃŠøŃŃŃŠæŠøŠ» Šŗ ŃŠ¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŃ ŠæŃŠµŃŃŠ° Š“Š»Ń ŃŠøŠ³Š»ŠµŠ¹ Šø Šŗ ŃŠ¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŃ ŃŃŃŠøŠ»ŃŠ½Šø. ŠŃŠ½Š¾Š²Ń Š“Š»Ń ŠæŃŠµŃŃŠ° Š²ŃŠ±ŃŠ°Š» ŠøŠ· Š½ŠµŠ³Š¾Š“Š½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠøŃ Š²ŠµŃŠµŠ¹, Š° Š²ŠøŠ½Ń ŠŗŃŠæŠøŠ» Š½Š° ŃŠ¾Š»ŠŗŃŃŠŗŠµ. Š Š“ŠµŠŗŠ°Š±ŃŠµ 1863 Š³. ŠæŃŠµŃŃ Š±ŃŠ» Š¾ŠŗŠ¾Š½ŃŠµŠ½, ŠæŠ¾ŃŃŠ¾Š¼Ń ŃŃŠ°Š·Ń ŠæŃŠøŃŃŃŠæŠøŠ»Šø Šŗ ŃŠøŠ³ŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¼Ń ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Ń27, Šŗ ŃŃŃŠŗŠµ, Š° ŃŠ¶Šµ Š² Š°ŠæŃŠµŠ»Šµ 1864 Š³. ŃŠøŠ³ŠµŠ»ŃŠ½Š¾Šµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ Š“Š¾ŃŃŠøŠ³Š»Š¾ Š±Š»ŠµŃŃŃŃŠøŃ ŃŠµŠ·ŃŠ»ŃŃŠ°ŃŠ¾Š². ŠŠ°ŃŠµŃŃŠ²Š¾ Š±ŃŠ»Š¾ Š»ŃŃŃŠµ Š°Š½Š³Š»ŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š³Š¾, ŠæŠ¾ŃŃŠ¾Š¼Ń ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ Š·Š°ŃŠ°Š³Š°Š»Š¾ Š²ŠæŠµŃŠµŠ“. Š ŠæŠ¾ŃŠ¾Š¼ ŃŠ»ŃŃŠøŠ»Š¾ŃŃ Š½ŠµŠæŃŠµŠ“Š²ŠøŠ“ŠµŠ½Š½Š¾Šµ ā Š² 1865 Š³. ŠŠ°ŃŠ°ŃŠ°ŠµŠ² ŃŠ¼ŠµŃ Š² Š²Š¾Š·ŃŠ°ŃŃŠµ 35 Š»ŠµŃ. ŠŠ³Š¾ ŠæŃŠµŠ¶Š“ŠµŠ²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š½Š°Ń ŃŠ¼ŠµŃŃŃ ŃŃŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾ Š·Š°Š¼ŠµŠ“Š»ŠøŠ»Š° Š“Š¾ŃŃŠøŠ¶ŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŃŠ¾Š³ŃŠµŃŃŠ° Š² ŃŃŠ°Š»ŠµŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Š¼ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Šµ.
Š 1860-Ń Š³Š³. Š±ŃŠ»Šø ŠæŃŠ¾Š²ŠµŠ“ŠµŠ½Ń Š¼Š°ŃŃŠ¾Š²ŃŠµ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃ ŃŠ°Š·Š½ŃŃ Š²ŠøŠ“Š¾Š² ŃŃŠ°Š»Šø Š½Š° Š¾ŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°Ń . ŠŃŠø ŃŠµŠ·ŃŠ»ŃŃŠ°ŃŃ Š¼Ń Š¼Š¾Š¶ŠµŠ¼ Š²ŠøŠ“ŠµŃŃ Š² 3-Š¼ Š½Š¾Š¼ŠµŃŠµ ŠŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½Š¾Š³Š¾ ŃŠ±Š¾ŃŠ½ŠøŠŗŠ° Š·Š° 1871 Š³. Š„Š°ŃŠ°ŠŗŃŠµŃŠøŃŃŠøŠŗŠø ŃŃŠ°Š»Šø Ń Š·Š°Š²Š¾Š“Š° ŠŠµŃŠ³ŠµŃŠ° ā ŃŃŠ¾ Š²ŃŃŠ¾ŠŗŠ°Ń ŃŠæŃŃŠ³Š¾ŃŃŃ, ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Š¾, Š½Š¾ ŠøŠ·Š»ŠøŃŠ½ŃŃ ŃŠ²ŠµŃŠ“Š¾ŃŃŃ, Šø ŠæŠ¾ŃŃŠ¾Š¼Ń Š½ŠµŠ±ŠµŠ·Š¾ŠæŠ°ŃŠ½Š° ŠæŃŠø ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š½ŠøŠø Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ; ŃŃŠ°Š»Ń Ń ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š° ŠæŠ¾ ŃŠ²ŠµŃŠ“Š¾ŃŃŠø ŠæŃŠµŠ²Š¾ŃŃ Š¾Š“ŠøŠ»Š° ŃŃŠ°Š»Ń ŠŠµŃŠ³ŠµŃŠ°, Š±ŃŠ»Š° ŃŠøŃŠµ, Š»ŃŃŃŠµ ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ²Š¾ŃŃŠ¾ŃŠ»Š° Š“ŠµŠ¹ŃŃŠ²ŠøŃ Š²ŃŃŃŃŠµŠ»Š¾Š². ŠŠ²ŃŠ¾Ń ŃŃŠ°ŃŃŠø Š“ŠµŠ»Š°ŠµŃ ŃŠ“Š°ŃŠµŠ½ŠøŠµ Š½Š° ŃŠ¾, ŃŃŠ¾ Š·Š°Š²Š¾Š“ ŃŃŠ¾Ń Š½Šµ ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š²ŠæŠµŃŠ²ŃŠµ Š³Š¾ŃŠ¾Š²ŠøŠ» ŃŃŠ°Š»Ń, Š½Š¾ Šø Š±ŃŠ°Š» ŠŗŠ°Šŗ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŠµŃ ŃŃŠ°Š»Ń ŠŠµŃŠ³ŠµŃŠ°; ŃŃŠ°Š»Ń ŠŠ½ŃŠ·Šµ-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠø Š·Š°Š½ŠøŠ¼Š°Š»Š° ŃŃŠµŠ“Š½ŠµŠµ Š¼ŠµŃŃŠ¾ Š¼ŠµŠ¶Š“Ń ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ¾Š¹ ŠŠµŃŠ³ŠµŃŠ° Šø ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠøŠ¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š¼, Šø ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ¾Š¹ ŠŠ°ŃŃŠµŠ½Š° Šø ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š¼. ŠŠ½Š° Ń ŃŠ¶Šµ Š²ŃŠµŃ ŠæŠ¾ ŃŃŠµŠæŠµŠ½Šø ŃŠ²ŠµŃŠ“Š¾ŃŃŠø Šø ŠæŠ¾ Š¾Š±ŃŠ°Š±Š¾ŃŠŗŠµ, Š½Š¾ ŠøŠ¼ŠµŠµŃ Š²ŃŃŠ¾ŠŗŃŃ ŃŠ¾ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ²Š»ŃŠµŠ¼Š¾ŃŃŃ ŠøŠ·Š³ŠøŠ±Ń, ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Š° ŠøŠ· Ń Š¾ŃŠ¾ŃŠøŃ Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Š¾Š² ŠæŃŠø ŠæŠ»Š¾Ń Š¾Š¹ Š¾Š±ŃŠ°Š±Š¾ŃŠŗŠµ ā ŃŃŠ²Š¾Š»Ń ŠæŃŠ°ŠŗŃŠøŃŠµŃŠŗŠø Š½Šµ ŃŠ°Š·ŃŃŠ²Š°ŃŃŃŃ ŠæŃŠø Š±Š¾Š»ŃŃŠ¾Š¼ ŠŗŠ¾Š»ŠøŃŠµŃŃŠ²Šµ Š²ŃŃŃŃŠµŠ»Š¾Š²; ŃŃŠ°Š»Ń Š·Š°Š²Š¾Š“Š° ŠŠ°ŃŃŠµŠ½Š° Š±ŃŠ»Š° Š¼ŃŠ³ŠŗŠ¾Š¹ Šø ŃŠøŃŃŠ¾Š¹, Ń Š½ŠµŠµ Š±ŃŠ»Š° Ń Š¾ŃŠ¾ŃŠ°Ń ŃŠ¾ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ²Š»ŃŠµŠ¼Š¾ŃŃŃ Š“ŠµŠ¹ŃŃŠ²ŠøŃ Š²ŃŃŃŃŠµŠ»Š¾Š², Š½Š¾ Š±ŃŠ»Š° ŃŠ»Š°Š±Š¾ Š¾Š±ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ°Š½Š°. ŠŠ¾Š»ŠµŠµ ŃŠ¾Š³Š¾, ŃŃŠ°Š»Ń ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠ»Š° ŃŠ¾Š±Š¾Š¹ ŃŠ¼ŠµŃŃ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š° Ń ŠæŃŠ¾Š¶ŠøŠ»ŠŗŠ°Š¼Šø ŃŃŠ°Š»Šø, ŠæŃŠø ŠæŠµŃŠµŃŠ°Š±Š¾ŃŠŗŠµ Š±Š¾Š»Š²Š°Š½Š¾Šŗ Š² ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Š²Š¾Š·Š½ŠøŠŗŠ°Š»Šø Š±Š¾Š»ŃŃŠøŠµ ŃŃŃŠ“Š½Š¾ŃŃŠø; ŃŃŠ°Š»Ń ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š° Š¾Š±Š»Š°Š“Š°Š»Š° Š²ŃŃŠ¾ŠŗŠøŠ¼ ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Š¾Š¼, Š½Š¾ ŃŠµŠ½Š° Š±ŃŠ»Š° Š·Š°Š²ŃŃŠµŠ½Š°, ŃŠ°Š¼Š° ŃŃŠ°Š»Ń Š±ŃŠ»Š° Ń ŠæŃŠøŠ¼ŠµŃŃŠ¼Šø, Š¾ŃŃŃŠ“Š° Š²Š¾Š·Š½ŠøŠŗŠ½Š¾Š²ŠµŠ½ŠøŠµ Š±Š¾Š»ŃŃŠ¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾Š»ŠøŃŠµŃŃŠ²Š° ŃŠ°Š·ŃŃŠ²Š¾Š².
ŠŠ²ŃŠ¾Ń Š² ŃŠ²Š¾ŠµŠ¹ ŃŃŠ°ŃŃŠµ ŠæŃŠøŠ²Š¾Š“ŠøŃ Š»ŃŠ±Š¾ŠæŃŃŠ½ŃŃ ŃŃŠ°ŃŠøŃŃŠøŠŗŃ, ŠæŃŠøŃŠµŠ¼ Š¾ŃŠµŠ½Ń Š½Š°Š³Š»ŃŠ“Š½ŃŃ. ŠŃ ŃŃŠ°Š»Šø ŃŃŠµŠ±ŃŃŃ Š¼Š½Š¾Š³Š¾ Ń Š°ŃŠ°ŠŗŃŠµŃŠøŃŃŠøŠŗ, Šø Š²ŃŠµ ŃŃŠø Ń Š°ŃŠ°ŠŗŃŠµŃŠøŃŃŠøŠŗŠø Š“Š¾Š»Š¶Š½Ń Š±ŃŃŃ ŃŠ²Š¾Š¹ŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Ń ŃŠ°Š¼Š¾Š¼Ń Š»ŃŃŃŠµŠ¼Ń Š²Š°ŃŠøŠ°Š½ŃŃ ŃŃŠ°Š»Šø, Š° Š²ŠæŠ¾ŃŠ»ŠµŠ“ŃŃŠ²ŠøŠø Šø ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Š¼ ŠøŠ· Š½ŠµŠµ. ŠŠ¾Š»Š½ŃŃ Š±ŠµŠ·Š¾ŠæŠ°ŃŠ½Š¾ŃŃŃ ŠæŃŠø ŃŃŃŠµŠ»ŃŠ±Šµ Š¾Š±ŠµŃŠæŠµŃŠøŠ²Š°Š»Šø ŃŃŠ²Š¾Š»Ń ŠŠ½ŃŠ·Šµ-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠø; Š½Š°ŠøŠ¼ŠµŠ½ŃŃŃŃ Š“ŠµŃŠ¾ŃŠ¼Š°ŃŠøŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š° ŠæŃŠø ŠæŠ¾ŃŠ¾Ń Š¾Š²Š¾Š¹ ŠæŃŠ¾Š±Šµ Š¾Š±ŠµŃŠæŠµŃŠøŠ²Š°Š» ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“; ŃŠ¾ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ ŠøŠ·Š³ŠøŠ±Š°Š¼, ŠæŃŠøŃŠµŠ¼ Š½Šµ ŃŃŃŃŠæŠ°ŃŃŠµŠµ ŠæŃŠµŠ¶Š½ŠøŠ¼ 7-Š»ŠøŠ½ŠµŠ¹Š½ŃŠ¼ ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Š¼, Š¾Š±ŠµŃŠæŠµŃŠøŠ²Š°Š»Šø ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹ ŃŃŠ°Š»ŠµŠæŃŃŠµŃŠ½ŃŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“ Šø ŠŠ½ŃŠ·Šµ-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ°Ń ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°; Š¾Š“Š½Š¾ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń, ŃŠ°Š·ŃŠ°Š±Š¾ŃŠŗŠ° ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ Š½Šµ Š²ŃŃŃŠµŃŠ°Š»Š° ŠæŃŠµŠæŃŃŃŃŠ²ŠøŠ¹ Š½Š° Š¾ŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š¼ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Šµ, Š¾Š±ŠµŃŠæŠµŃŠøŠ²Š°Š»Šø ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“ Šø Š½ŠµŠ¼ŠµŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“ ŠŠµŃŠ³ŠµŃŠ°; Šø, Š½Š°ŠŗŠ¾Š½ŠµŃ, Š²Š¾ŠæŃŠ¾Ń ŃŠµŠ½Ń Š±ŃŠ» ŃŠ¼ŠµŃŠµŠ½Š½ŃŠ¼ Š·Š° Š³ŃŠ°Š½ŠøŃŠµŠ¹ (2,50 ŃŃŠ±. Ń Š·Š°Š²Š¾Š“Š° ŠŠµŃŠ³ŠµŃŠ°), ŃŠ°Š¼ŃŠ¼ Š“Š¾ŃŠ¾Š³ŠøŠ¼ Š½Š° ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š¼ Šø ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°Ń (4 ŃŃŠ±Š»Ń) Šø ŃŃŠµŠ“Š½ŠøŠ¼ Š½Š° ŠŠ½ŃŠ·Šµ-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠµ (3 ŃŃŠ±Š»Ń, ŠæŃŠø Š¶ŠµŃŃŠ²Šµ Š² ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Šµ).
Ā«Š Š¾ŃŃŠøŃ ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠµŃ Š²ŃŠµ ŃŃŠµŠ“ŃŃŠ²Š° Š“Š»Ń ŃŠ°Š·Š²ŠøŃŠøŃ ŃŃŠ°Š»ŠµŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š° ā Šø ŃŃŃŠ“Š½Š¾ Š½Š°Š¼, ŠøŠ¼ŠµŃ Ń ŃŠµŠ±Ń Š“Š¾ 7-Š¼Šø ŃŃŠ°Š»ŠµŠ»ŠøŃŠµŠ¹Š½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š² (ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹, ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠøŠ¹, ŠŠ½ŃŠ·Šµ-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ°Ń ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°, Š”Š¾ŃŠ¼Š¾Š²ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“ Š³-Š½Š° ŠŠµŠ½Š°ŃŠ“Š¾ŠŗŠø, ŠŠ»Š°ŠæŠ°ŠµŠ²ŃŠŗŠøŠ¹, Š”ŠµŃŠµŠ±ŃŃŠ½ŃŠŗŠøŠ¹ Šø ŠŠ°Š¼ŃŠŗŠ¾-ŠŠ¾ŃŠŗŠøŠ½ŃŠŗŠøŠ¹; ŠŗŃŠ¾Š¼Šµ ŃŠ¾Š³Š¾, Š²ŃŠæŠ»Š°Š²ŠŗŠ° Š»ŠøŃŠ¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø ŃŃŃŠµŃŃŠ²Š¾Š²Š°Š»Š° Šø Š½Š° ŠŠ¶ŠµŠ²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ), ŃŠ°ŃŠæŠ¾Š»Š°Š³Š°ŃŃŠøŃ ŠæŃŠµŠ²Š¾ŃŃ Š¾Š“Š½ŃŠ¼Šø ŃŃŃŃŠ¼Šø Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Š°Š¼Šø, Š²Š¾Š·ŠøŃŃ ŠøŠ·&Š·Š° Š³ŃŠ°Š½ŠøŃŃ ŃŃŠ°Š»Ń ŠæŠ¾ŃŃŠµŠ“ŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Š°Ā»28.
ŠŠ° 1871 Š³. ŠµŃŃŃ Š¾ŠæŠøŃŠ°Š½ŠøŠµ29 ŠµŃŠµ Š¾Š“Š½ŠøŃ Š¾ŠæŃŃŠ¾Š², ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŠøŠ²ŃŠøŃ ŃŃ Š½Š°Š“ ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Š¼Šø ŃŠ¶Šµ Š²ŃŃŠµŃŠŗŠ°Š·Š°Š½Š½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š². ŠŠæŃŃŠ½ŃŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Š±ŃŠ»Šø Š·Š°ŠŗŠ°Š·Š°Š½Ń ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°Š½ŃŃ ŠŠµŃŠ³ŠµŃŃ Š² ŠŃŃŃŃŠøŠø, ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°Š½ŃŃ ŠŠ°ŃŃŠµŠ½Ń Š²Š¾ Š¤ŃŠ°Š½ŃŠøŠø, ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¼Ń Š·Š°Š²Š¾Š“Ń Š¾ŠŗŠ¾Š»Š¾ Š”Š°Š½ŠŗŃ-ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³Š°, ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š¼Ń ŃŃŠ°Š»ŠµŠæŃŃŠµŃŠ½Š¾Š¼Ń Š·Š°Š²Š¾Š“Ń, ŠŠ¶ŠµŠ²ŃŠŗŠ¾Š¼Ń Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾Š“ŠµŠ»Š°ŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¼Ń Š·Š°Š²Š¾Š“Ń, ŠŠ½ŃŠ·Šµ-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠµ Š² Š³Š¾ŃŠ¾Š“Šµ ŠŠ»Š°ŃŠ¾ŃŃŃ Šø Š”Š¾ŃŠ¼Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¼Ń Š·Š°Š²Š¾Š“Ń. ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ Š½Šµ Š²ŃŠµ Š·Š°Š²Š¾Š“Ń ŃŠ¼Š¾Š³Š»Šø ŃŃŠø Š·Š°ŠŗŠ°Š·Ń Š²ŃŠæŠ¾Š»Š½ŠøŃŃ. ŠŠ¶ŠµŠ²ŃŠŗŠøŠ¹ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾Š“ŠµŠ»Š°ŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“ Š¾ŃŠŗŠ°Š·Š°Š»ŃŃ Š¾Ń Š²ŃŠæŠ¾Š»Š½ŠµŠ½ŠøŃ, Š”Š¾ŃŠ¼Š¾Š²ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“ Š½Šµ ŃŠ»Š¾Š¶ŠøŠ»ŃŃ Š² ŃŃŠ¾ŠŗŠø, ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ ŠŗŠ°Šŗ Šø ŠŠ½ŃŠ·Šµ-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ°Ń ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°. ŠŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ 4 Š·Š°Š²Š¾Š“Š° Š·Š°ŠŗŠ°Š·Ń Š²ŃŠæŠ¾Š»Š½ŠøŠ»Šø Š² ŃŃŠ¾Šŗ, Šø Šŗ ŃŃŠøŠ¼ Š·Š°ŠŗŠ°Š·Š°Š¼ ŠæŃŠøŃŠ¾ŠµŠ“ŠøŠ½ŠøŠ»ŠøŃŃ ŠµŃŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń ŠøŠ· Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½Š¾Š¹ ŠæŃŠ¾Š²Š¾Š»Š¾ŠŗŠø ŠøŃŠæŃŃŠ°ŃŠµŠ»Ń ŠŃŠ²Š¾Š²Š°, Š°Š½Š³Š»ŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Šø ŃŃŠ²Š¾Š»Ń ŠŠµŃŠ“Š°Š½Š° ŠøŠ· ŠŠ¼ŠµŃŠøŠŗŠø. ŠŠ°Š²Š¾Š“ŃŠøŠŗŠø ŠŠµŃŠ³ŠµŃ Šø ŠŠ°ŃŃŠµŠ½ ŠæŃŠøŃŠ»Š°Š»Šø ŃŃŠ²Š¾Š»Ń ŃŠ¶Šµ ŠæŃŠ¾ŃŠ²ŠµŃŠ»ŠµŠ½Š½ŃŠµ, ŃŠ¾Š³Š“Š° ŠŗŠ°Šŗ ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠøŠ¹ Šø ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“Ń ŠæŃŠøŃŠ»Š°Š»Šø Š±Š¾Š»Š²Š°Š½ŠŗŠø, ŠæŃŠ¾ŃŠ²ŠµŃŠ»ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŃŠ¶Šµ Š½Š° Š”ŠµŃŃŃŠ¾ŃŠµŃŠŗŠ¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ. ŠŠ°Š²Š¾Š“ŃŠøŠŗ ŠŠµŃŠ³ŠµŃ Š“Š»Ń Š¾ŃŠ»ŠøŠ²ŠŗŠø ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š» ŃŠøŠ³ŠµŠ»ŃŠ½ŃŠ¹ ŃŠæŠ¾ŃŠ¾Š±, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ Š“Š°Š» Š²ŃŠµŠ³Š¾ 5 % Š±ŃŠ°ŠŗŠ°, Š½Š¾ Š¾ŠŗŠ°Š·Š°Š»ŃŃ ŃŃŃŠ“Š½ŃŠ¼ Š² ŃŠ°Š·ŃŠ°Š±Š¾ŃŠŗŠµ. ŠŠ±ŃŠ°Š·ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠøŠŗŠ° ŠŠ°ŃŃŠµŠ½Š° Š“Š°Š»Šø 92 % Š±ŃŠ°ŠŗŠ°. ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“ Š·Š° Š¾Š±ŃŠ°Š·ŠµŃ ŃŃŠ°Š»Šø Š“Š»Ń ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Š²Š·ŃŠ» ŃŃŠ°Š»Ń ŠæŠ¾Ń Š¾Š¶ŃŃ Š½Š° Š¼Š°ŃŃŠµŠ½Š¾Š²ŃŠŗŃŃ, Š½Š¾ Š²ŠøŠ“ŠøŠ¼Š¾ ŃŃŠ¾Š²ŠµŃŃŠµŠ½ŃŃŠ²Š¾Š²Š°Š½Š½ŃŃ. ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŠµŃ Š“Š°Š» Š»ŃŃŃŠµŠµ ŃŠ¾Š¾ŃŠ½Š¾ŃŠµŠ½ŠøŠµ Š² ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Šµ/ŠæŃŠ¾ŃŃŠ¾ŃŠµ Šø Š²ŃŠµŠ³Š¾ Š»ŠøŃŃ 10 % Š±ŃŠ°ŠŗŠ°. ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“ ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²ŠøŠ» Š¾Š±ŃŠ°Š·ŠµŃ, ŠøŠ¼ŠµŃŃŠøŠ¹ ŃŃ Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ Ń Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŠ°Š¼Šø ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°Š½ŃŠ° ŠŠµŃŠ³ŠµŃŠ°, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ Š“Š°Š» 22,5 % Š±ŃŠ°ŠŗŠ°. ŠŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾ ŃŠæŠ¾Š¼ŃŠ½ŃŃŃ Š¾ ŃŠ¾Š¼, ŃŃŠ¾ ŃŃŠ°Š»ŃŃ ŠŠµŃŠ³ŠµŃŠ° Šø ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Š¼Šø ŠøŠ· Š½ŠµŠµ Š±ŃŠ» Š½ŠµŠ“Š¾Š²Š¾Š»ŠµŠ½ Š“Š°Š¶Šµ ŃŠ°Š¼ Š¼ŠøŠ½ŠøŃŃŃ ŠŠµŠ»ŃŠ³ŠøŠø, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ Š² 1872 Š³. Š¾ŃŠŗŠ°Š·Š°Š»ŃŃ Š¾Ń ŃŃŠ¾Š³Š¾ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°Š½ŃŠ° Šø Š½Š°ŃŠ°Š» Š“ŠµŠ»Š°ŃŃ Š·Š°ŠŗŠ°Š·Ń Š·Š°Š²Š¾Š“Ń ŠŠ¾ŠŗŠµŃŠøŠ»Š»Ń Š² Š”ŠµŃŠµŠ½Šµ30.
ŠŃŠ°Šŗ, Š¼Ń Š¼Š¾Š¶ŠµŠ¼ Š²ŃŠ“ŠµŠ»ŠøŃŃ 2 Š·Š°Š²Š¾Š“Š°, ŃŃŠµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ ŃŃŠ°Š»Šø Šø ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² ŠøŠ· Š½ŠµŠµ Š½ŠµŠøŠ·Š¼ŠµŠ½Š½Š¾ ŃŠ“Š¾Š²Š»ŠµŃŠ²Š¾ŃŃŠ»Š¾ ŠŠ»Š°Š²Š½Š¾Šµ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Šµ ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ: ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“ Šø ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹ ŃŃŠ°Š»ŠµŠæŃŃŠµŃŠ½ŃŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“. ŠŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾ ŠæŠ¾ŃŃŠ¾Š¼Ń Š½Š°Š·Š²Š°Š½ŠøŠµ ŃŃŠøŃ Š“Š²ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š² Š¼Ń Š¼Š¾Š¶ŠµŠ¼ Š²ŠøŠ“ŠµŃŃ Š² Š¾ŃŃŠµŃŠ°Ń ŠŠŠ£ Š·Š° 1873ā1875 Š³Š³. ŠŃŠ¾Ń ŠæŠµŃŠøŠ¾Š“ ŠŗŠ°Šŗ ŃŠ°Š· Š¾Š±Š¾Š·Š½Š°ŃŠµŠ½ ŠŗŠ¾Š½ŃŠ¾Š¼ Š±Š¾Š»ŃŃŠøŠ½ŃŃŠ²Š° Š¾ŠæŃŃŠ¾Š² Š½Š°Š“ ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Š¼Šø Š“Š»Ń Š¼Š°Š»Š¾ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŠµŃŠ½ŃŃ Š¾ŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŃŃ Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²Š¾Šŗ. Š Š¾ŃŃŠµŃŠ°Ń Š¼Ń Š½Š°Ń Š¾Š“ŠøŠ¼ ŃŠ»ŠµŠ“ŃŃŃŃŃ Š¾ŃŃŠµŃŠ½ŃŃ ŠøŠ½ŃŠ¾ŃŠ¼Š°ŃŠøŃ Š² Š¾ŃŠ½Š¾ŃŠµŠ½ŠøŠø ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°: Ā«Š 1873 Š³Š¾Š“Ń Š·Š°Š²Š¾Š“ Š¾ŠŗŠ¾Š½ŃŠøŠ» ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²ŠŗŃ 25000 ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Ń ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š±ŠŗŠ°Š¼Šø, Š“Š°Š½Š½ŃŃ ŠµŠ¼Ń Š² Š½Š°ŃŃŠ“ Š½Š° Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š°Š½ŠøŠø ŠŃŃŠ¾ŃŠ°Š¹ŃŠµ ŃŃŠ²ŠµŃŠ¶Š“ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ 14-Š³Š¾ Š°Š²Š³ŃŃŃŠ° 1871 Š³. ŠæŠ¾Š»Š¾Š¶ŠµŠ½ŠøŃ ŠŠ¾ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŃŠ¾Š²ŠµŃŠ° Šø ŠæŠ¾Š»ŃŃŠøŠ» Š½Š¾Š²ŃŠ¹ Š·Š°ŠŗŠ°Š· Š² 25000 ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Ń ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š±ŠŗŠ°Š¼Šø, Ń ŃŃŠ»Š¾Š²ŠøŠµŠ¼ ŃŠ“Š°ŃŃ ŠøŃ Š² 1874 Š³.Ā»31. Š Š¾ŃŠ½Š¾ŃŠµŠ½ŠøŠø ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°: Ā«ŠŠ· ŃŠøŃŠ»Š° Š½ŠµŃŠ“Š°Š½Š½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š¼ ŠæŠ¾ ŃŃŠ¾ŠŗŃ 1872 Š³Š¾Š“Š° 10000 Š¼Š°Š»Š¾ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŠµŃŠ½ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Ń ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š±ŠŗŠ°Š¼Šø ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½Š¾ 2000 ŃŠŗŠ·ŠµŠ¼ŠæŠ»ŃŃŠ¾Š²Ā»32. ŠŃ Š²ŠøŠ“ŠøŠ¼, ŃŃŠ¾ ŃŃŠ¾Ń Š½Š°ŃŃŠ“ ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“ ŃŠøŠ»ŃŠ½Š¾ Š·Š°Š“ŠµŃŠ¶Š°Š» Š²ŠæŠ»Š¾ŃŃ Š“Š¾ 1874 Š³. ŠŠ° 1874 Š³. Š¼Ń Š²ŠøŠ“ŠøŠ¼ Š½Š¾Š²ŃŠ¹ Š¾ŃŃŠµŃ Š¾ Š“ŠµŃŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾ŃŃŠø ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°: Ā«Š 1874 Š³Š¾Š“Ń Š·Š°Š²Š¾Š“ ŠæŠ¾Š»ŃŃŠøŠ» Š½Š°ŃŃŠ“ Š² 25000 ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Ń ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š±ŠŗŠ°Š¼Šø, Ń ŃŃŠ»Š¾Š²ŠøŠµŠ¼ ŃŠ“Š°ŃŃ ŠøŃ Š² ŃŠ¾Š¼ Š¶Šµ Š³Š¾Š“Ń, Šø Š¾ŠŗŠ¾Š½ŃŠøŠ» ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²ŠŗŃ Š² ŃŃŠ¾ŠŗĀ»33. Š, Š½Š°ŠŗŠ¾Š½ŠµŃ, 1875 Š³. ā ŃŃŠ¾ Š±ŃŠ» ŠæŠ¾ŃŠ»ŠµŠ“Š½ŠøŠ¹ Š³Š¾Š“, ŠŗŠ¾Š³Š“Š° Š·Š°ŠŗŠ°Š·Ń Š²ŃŠæŠ¾Š»Š½ŃŠ»Šø Š¾Š±Š° Š·Š°Š²Š¾Š“Š°, ŃŠ½Š°ŃŠ°Š»Š° ŃŠµŃŃ ŠøŠ“ŠµŃ Š¾Š± ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ, Š·Š°ŃŠµŠ¼ Š¾ ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š¼: Ā«Š 1875 Š³Š¾Š“Ń ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¼Ń Š·Š°Š²Š¾Š“Ń Š“Š°Š½ Š±ŃŠ» Š½Š°ŃŃŠ“ Š² 25 000 ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Ń ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š±ŠŗŠ°Š¼Šø, Š² ŃŃŠµŃ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Š³Š¾ ŃŠ“Š°Š½Š¾ 20000. <ā¦> ŠŠ· ŃŠøŃŠ»Š° Š½ŠµŃŠ“Š°Š½Š½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š¼ ŠæŠ¾ ŃŃŠ¾ŠŗŃ 1872 Š³Š¾Š“Š° 10000 Š¼Š°Š»Š¾ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŠµŃŠ½ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Ń ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š±ŠŗŠ°Š¼Šø, Šŗ 2000 ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Š¼, ŃŠ“Š°Š½Š½ŃŠ¼ Š² 1874 Š³Š¾Š“Ń, Š·Š°Š²Š¾Š“ ŃŠ“Š°Š» ŠµŃŠµ 7246 ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Šø 2197 ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š±Š¾Šŗ Šŗ Š½ŠøŠ¼Ā»34.
ŠŠ°ŠŗŠ»ŃŃŠµŠ½ŠøŠµ
ŠŠ¾Š“Š²Š¾Š“Ń ŠøŃŠ¾Š³Šø Šø Š²Š¾Š·Š²ŃŠ°ŃŠ°ŃŃŃ Š½Š° ŠøŃŃ Š¾Š“Š½ŃŃ ŠæŠ¾Š·ŠøŃŠøŃ, Ń.Šµ. ŠŗŠ¾ Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Šø Š²Š²ŠµŠ“ŠµŠ½ŠøŃ Ń Š½Š°Ń Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŠø ŃŠ¼ŠµŠ½ŃŃŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ° ā Š·Š½Š°Š¼ŠµŠ½ŠøŃŠ¾Š¹ Ā«ŃŠµŃŃŠøŠ»ŠøŠ½ŠµŠ¹ŠŗŠøĀ» Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŠ° 1856 Š³., Š¼Š¾Š¶Š½Š¾ Ń ŃŠ²ŠµŃŠµŠ½Š½Š¾ŃŃŃŃ ŃŠŗŠ°Š·Š°ŃŃ, ŃŃŠ¾ Š¾ŠæŃŃŃ Š½Š°Š“ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š¾Š¼ Š“Š»Ń ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² ŃŃŃŠµŃŃŠ²Š¾Š²Š°Š»Šø ŠµŃŠµ ŃŠ°Š½ŃŃŠµ. ŠŃŠ¾ Š“Š»ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠ¹ ŠæŃŠ¾ŃŠµŃŃ, ŃŠµŠ·ŃŠ»ŃŃŠ°ŃŃ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Š³Š¾ ŃŃŠ°Š»Šø Š¾Š“Š½Š¾Š¹ ŠøŠ· Š²Š°Š¶Š½ŠµŠ¹ŃŠøŃ Š²ŠµŃ Š² ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Š² 1850ā1870 Š³Š³. ŠŠ¾ŃŠ½Š¾Šµ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Šµ Š“Š¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠ»Šø Ń Š£ŃŠ°Š»Š°, Š½Šµ ŃŠ“Š¾Š²Š»ŠµŃŠ²Š¾ŃŃŠ»Š¾ ŠŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Šµ Š²ŠµŠ“Š¾Š¼ŃŃŠ²Š¾ ŠøŠ·-Š·Š° Š±Š¾Š»ŃŃŠ¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŃŠµŠ½ŃŠ° Š±ŃŠ°ŠŗŠ°. ŠŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š° Š“Š»Ń ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Š½Š°ŃŠ°Š»ŠøŃŃ Š² Š½Š°ŃŠ°Š»Šµ 1850-Ń Š³Š³. ŠŃŠæŃŃŃŠ²Š°Š»Šø Š³Š¾ŃŠ½Š¾Šµ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾ Šø ŠŗŠ¾Š½ŃŃŠ°Š·ŃŠŗŠ¾Šµ. ŠŠ¾ŃŠ»ŠµŠ“Š½ŠµŠµ ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ°Š²Š»ŠøŠ²Š°Š»Š¾ŃŃ Š±ŃŠ°ŃŃŃŠ¼Šø ŠŃŠ°Š½Š“Š¼Š¾Š½ŃŠ°Š½ Š½Š° ŠŠ¶ŠµŠ²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ. ŠŠ¾Š½ŃŃŠ°Š·ŃŠŗŠ¾Šµ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾ Š“Š°Š²Š°Š»Š¾ Š¼ŠµŠ½ŃŃŠµ Š±ŃŠ°ŠŗŠ°, Š¾Š“Š½Š°ŠŗŠ¾ ŃŠ¶Šµ ŃŠ¾Š³Š“Š° Š±ŃŠ»Š° ŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠ½Š° Š»ŠøŃŠ°Ń ŃŃŠ°Š»Ń ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š°, ŠŗŠ°Šŗ Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŃŠøŃŃŃŠ¹ Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š», Š½ŠµŠ¶ŠµŠ»Šø Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾. Š”ŃŠ²Š¾Š»Ń ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š° Š±ŃŠ»Šø ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½Ń ŠµŃŠµ Š² 1855 Š³. ŠŠ°ŃŠµŠ¼ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃ ŠæŃŠ¾ŃŠ»Šø Š² 1856ā57 Š³Š³. Š² ŠŠŗŠ°ŃŠµŃŠøŠ½Š±ŃŃŠ³ŃŠŗŠ¾Š¼ Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾Š¼ Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½Š¾Š¼ Š¾ŃŠ“ŠµŠ»ŠµŠ½ŠøŠø, Šø ŠæŃŠøŠ¼ŠµŃŠ½Š¾ ŃŠ¾Š³Š“Š°, Š²ŠµŃŠ½Š¾Š¹ 1857 Š³., 1000 ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Š“Š¾ŃŃŠ°Š²ŠøŠ»Šø Š“Š»Ń ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠ¹ Š² ŠŠ¶ŠµŠ²ŃŠŗŠøŠ¹ Šø Š”ŠµŃŃŃŠ¾ŃŠµŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“Ń. Š Š² 1859 Š³. Š“Š¾Š²Š¾Š»ŃŠ½Š¾ ŠŗŃŃŠæŠ½Š°Ń ŠæŠ°ŃŃŠøŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² ŠøŠ· ŃŃŠ¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø Šø Š±Š¾Š»Š²Š°Š½Š¾Šŗ, ŃŠ°Š·ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ°Š½Š½ŃŃ Š½Š° ŠŠ¶ŠµŠ²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ Š² ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Š“Š°Š»Š° Š²ŃŠµŠ³Š¾ Š»ŠøŃŃ 11 % Š±ŃŠ°ŠŗŠ°. ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ ŠŠ±ŃŃ Š¾Š² Š½Šµ Š±ŃŠ» Š¾Š“Š½ŠøŠ¼ Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠøŠŗŠ¾Š¼, Š¶ŠµŠ»Š°Š²ŃŠøŠ¼ ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŃŃ Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼ŃŠ¹ Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š» Š“Š»Ń Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š². ŠŠ¾Š½ŠŗŃŃŠµŠ½ŃŠøŃ ŠµŠ¼Ń ŃŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠ» ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°Š½Ń ŠŃŃŠæŠæ ŠøŠ· ŠŠµŃŃŃŠ°Š»ŠøŠø, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š½ŃŠµ ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²ŃŠøŠŗŠø ŠæŃŃŃŃŠŗŠøŃ ŠŗŠ°Š·ŠµŠ½Š½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š² Š² ŠŠ¾Š¼Š¼ŠµŃŠ“Šµ Šø ŠØŠæŠ°Š½Š“Š°Ń ā ŃŃŠ°Š»ŠµŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Šµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ Š² Š³Š¾ŃŠ¾Š“Šµ ŠŠ³ŠµŃ. ŠŠ¾Š½ŠµŃŠ½Š¾ Š¶Šµ, Š½Š° Š¾ŃŠ½Š¾Š²Šµ ŃŃŠ¾Š¹ ŠŗŠ¾Š½ŠŗŃŃŠµŠ½ŃŠøŠø ŠæŃŠ¾ŠøŃŃ Š¾Š“ŠøŠ»Šø ŃŠ¾Š²Š¼ŠµŃŃŠ½ŃŠµ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃ ŃŃŠ°Š»Šø ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š°, ŠŃŃŠæŠæŠ°, ŠŠ³ŠµŃŠ°, Š° Š²Š¼ŠµŃŃŠµ Ń Š½ŠøŠ¼Šø Šø Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š°. Š”ŃŠ°Š»Ń ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š° ŃŠ²ŠµŃŠµŠ½Š½Š¾ Š²ŃŠøŠ³ŃŃŠ²Š°Š»Š° Š² ŃŠµŠ½Šµ Šø Š² 90 % ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠ¹ Š² ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Šµ.
ŠŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Šµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ ŃŠ»Š¾ Š²ŠæŠµŃŠµŠ“, ŃŃŃŠ¾ŠøŠ»ŠøŃŃ Š½Š¾Š²ŃŠµ Š·Š°Š²Š¾Š“Ń ā Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š° ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š°. Š 1859ā60 Š³Š³. Š±ŃŠ»Š° ŠæŠ¾ŃŃŃŠ¾ŠµŠ½Š° ŠŠ½ŃŠ·Šµ-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ°Ń ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°, Š“ŠµŃŠøŃŠµ Š.Š. ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š°. Š 1861 Š³. ŃŠ°Š¼ Š±ŃŠ»Š¾ ŃŠ¶Šµ Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾Šµ Š¾Š±Š¾ŃŃŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµ. ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ° Š±ŃŠ»Š° Š“Š¾Š²Š¾Š»ŃŠ½Š¾ Š“Š°Š»ŠµŠŗŠ¾ Š¾Ń Š”Š°Š½ŠŗŃ-ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³Š°. ŠŠ¾ŃŃŠ¾Š¼Ń Š² 1861 Š³. Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠøŠŗŠ¾Š¼ ŠŃŃŠøŠ»Š¾Š²ŃŠ¼ Š±ŃŠ»Š¾ ŠæŠ¾Š»ŃŃŠµŠ½Š¾ ŃŠ°Š·ŃŠµŃŠµŠ½ŠøŠµ Š¾Ń Š²Š»Š°ŃŃŠµŠ¹ Š½Š° ŠæŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¹ŠŗŃ Š²Š±Š»ŠøŠ·Šø Š¾Ń Š”Š°Š½ŠŗŃ-ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³Š° Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š°, Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŃŠ¾Š³Š¾, Š±ŃŠ»Š¾ ŃŠ¾Š³Š»Š°ŃŠ¾Š²Š°Š½Š¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ ŃŠ°Š¼ Š»ŠøŃŠ¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š°. ŠŃŠ¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ ā ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“, ŠæŠ¾ŃŃŃŠ¾ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ Š² 1863ā64 Š³Š³. Š ŃŃŠ¾ Š¶Šµ Š²ŃŠµŠ¼Ń ŃŠ»Š° ŠæŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¹ŠŗŠ° ŠµŃŠµ Š¾Š“Š½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠ°Š»ŠµŠ»ŠøŃŠµŠ¹Š½Š¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š° ā ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾.
ŠŠµŃŠ¼Š¾ŃŃŃ Š½Š° ŃŠ¾, ŃŃŠ¾ Š“Š¾ 1863 Š³. Š°Š±ŃŠ¾Š»ŃŃŠ½Š¾Šµ Š±Š¾Š»ŃŃŠøŠ½ŃŃŠ²Š¾ Š² ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Šµ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² ŠæŃŠøŠ½Š°Š“Š»ŠµŠ¶Š°Š»Š¾ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Ń, ŠŗŠ°Šŗ ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š½Š¾Š²ŃŠµ Š¾ŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŃŠµ Š·Š°Š²Š¾Š“Ń ŠæŠ¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Ń ŃŃŠ°Š»Šø Š±ŃŠ»Šø ŠæŠ¾ŃŃŃŠ¾ŠµŠ½Ń, Š² Š½ŠøŃ Ń Š»ŃŠ½ŃŠ»Šø ŠøŃŠæŃŃŠ°ŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠµ ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠøŠø Ń Š·Š°ŠŗŠ°Š·Š°Š¼Šø. ŠŠ¾Š½ŠŗŃŃŠµŠ½ŃŠøŃ Š¾ŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š¼Ń ŃŃŠ°Š»ŠµŠ»ŠøŃŠµŠ¹Š½Š¾Š¼Ń Šø ŃŃŠ°Š»ŠµŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Š¼Ń ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Ń ŃŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠ» ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°Š½Ń ŠŠµŃŠ³ŠµŃ ŠøŠ· ŠŠøŃŃŠµŠ½Š° Š² ŠŃŃŃŃŠøŠø. Š ŠŗŠ¾Š½ŃŠµ 1860-Ń Š³Š³. ŃŠøŃŃŠ°ŃŠøŃ ŠŗŠ°ŃŠ“ŠøŠ½Š°Š»ŃŠ½Š¾ Š¼ŠµŠ½ŃŠµŃŃŃ, Š²ŠµŠ“Ń Ń Š½Š°Ń ŠæŃŠøŠ½ŃŃŠ° Š½Š° Š²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŠµ Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŠ° ŠŠµŃŠ“Š°Š½Š° ā 1 Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŠ° 1868 Š³. Ń ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ¾Š¼ Š² 4,2 Š»ŠøŠ½ŠøŠø. ŠŠµŠ»ŠµŠ·Š½ŃŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Šŗ ŃŃŠ¾Š¼Ń Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Š°Š±ŃŠ¾Š»ŃŃŠ½Š¾ Š½Šµ ŠæŠ¾Š“Ń Š¾Š“ŃŃ, Š¾Š½Šø Š½Šµ Š²ŃŠ“ŠµŃŠ¶ŠøŠ²Š°ŃŃ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃ ŠæŠ¾Š³ŠøŠ±Š¾Š¼ Š½Š° ŃŠæŃŃŠ³Š¾ŃŃŃ. Š Š½Š°ŃŠø Š·Š°Š²Š¾Š“Ń ŠøŠ·ŃŃŠ²Š»ŃŃŃ Š¶ŠµŠ»Š°Š½ŠøŠµ ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŃŃ Š²ŃŠµ Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾Šµ. ŠŠ°ŃŠøŠ½Š°ŠµŃŃŃ ŠµŃŠµ Š¾Š“ŠøŠ½ ŃŃŠ°Šæ Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼ŃŃ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠ¹ Š² 1870 Š³. Š ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃŃ ŃŃŠ°ŃŃŠ²ŃŃŃ ŃŠ¶Šµ ŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠ½ŃŠµ Š½Š°Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Ń: ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠøŠ¹, ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹, ŠŠ½ŃŠ·Šµ-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ°Ń ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°, ŠŠ¶ŠµŠ²ŃŠŗŠøŠ¹, Š·Š°Š²Š¾Š“ ŠŠµŃŠ³ŠµŃŠ°. ŠŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃ ŠæŃŠ¾Ń Š¾Š“ŠøŠ»Šø ŃŠ»Š¾Š¶Š½ŠµŠ¹ŃŠøŠµ: Š½Š° ŃŠ¾ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š° ŃŠ¶Š°ŃŠøŃ, Š½Š° ŃŠ°ŃŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŠµ, Š½Š° ŃŠ¾ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ ŃŠ“Š°ŃŠ°Š¼, Š½Š° ŃŠæŃŃŠ³Š¾ŃŃŃ. ŠŠ¾ŃŠ¾Š¼ ŃŠ¶Šµ Š³Š¾ŃŠ¾Š²ŃŠµ Š±Š¾Š»Š²Š°Š½ŠŗŠø ŠæŃŠµŠ“Š¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠ»ŠøŃŃ Š“Š»Ń ŠæŠ¾ŃŠ¾Ń Š¾Š²Š¾Š¹ ŠæŃŠ¾Š±Ń Šø ŃŠ½Š¾Š²Š° ŠæŃŠ¾Š²Š¾Š“ŠøŠ»ŠøŃŃ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃ Š½Š° ŠæŠ¾Š³ŠøŠ±. ŠŠ° ŃŃŠøŠ¼ ŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š»Š° Š¾ŠŗŠ¾Š½ŃŠ°ŃŠµŠ»ŃŠ½Š°Ń Š¾ŃŠ“ŠµŠ»ŠŗŠ° Šø ŃŠ½Š¾Š²Š° ŠøŃŠæŃŃŃŠ²Š°Š»ŠøŃŃ ŠæŠ¾ŃŠ¾Ń Š¾Š²Š¾Š¹ ŠæŃŠ¾Š±Š¾Š¹ Šø ŠæŠ¾Š³ŠøŠ±Š¾Š¼. ŠŠ¾ŃŠ»Šµ ŃŃŠøŃ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠ¹ ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠøŠø Š¾ŃŠŗŠ°Š·Š°Š»ŠøŃŃ Š¾Ń ŃŃŠ°Š»ŠµŠæŠ»Š°Š²ŠøŠ»ŃŠ½ŃŃ Š³Š¾ŃŠ½Š¾Š² Šø Š·Š°Š¼ŠµŠ½ŠøŠ»Šø ŠøŃ ŠæŠµŃŠ°Š¼Šø Š”ŠøŠ¼ŠµŠ½ŃŠ°, ŠŗŠ°Šŗ Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŃŠ¾Š²ŠµŃŃŠµŠ½Š½ŃŠ¼Šø. Š Š² Š¾ŃŠ½Š¾ŃŠµŠ½ŠøŠø ŠæŃŠ¾ŃŠµŃŃŠ° Š²ŃŠæŠ»Š°Š²ŠŗŠø Š¾Š±ŃŠ°ŃŠøŠ»ŠøŃŃ Šŗ ŃŠæŠ¾ŃŠ¾Š±Ń ŠŠ°ŃŃŠµŠ½Š°35, ŠæŠµŃŠµŠ“ ŃŃŠøŠ¼ ŠøŃŠæŃŃŠ°Š² ŠµŠ³Š¾ ŃŠŗŠ·ŠµŠ¼ŠæŠ»ŃŃŃ. ŠŠ°Š²Š¾Š“Ń Š½Š°ŃŠ°Š»Šø ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°ŃŃ ŃŠ°Š·Š»ŠøŃŠ½ŃŠµ ŃŠøŠæŃ ŃŃŠ°Š»Šø, ŃŠ¼ŠµŃŠøŠ²Š°Š»Šø Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŃ, ŃŠ»ŃŃŃŠ°Š»Šø ŠøŃ . Š 1871 Š³Š¾Š“Ń Š¾ŠæŃŃŃ ŠæŃŠ¾ŃŠ»Šø ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŃ, Š° ŃŠ¾ŃŃŠ°Š² Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š² Š±ŃŠ» Š½ŠµŠ¼Š½Š¾Š³Š¾ Š¾Š±Š½Š¾Š²Š»ŠµŠ½: ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°Š½Ń ŠŠµŃŠ³ŠµŃ, ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°Š½Ń ŠŠ°ŃŃŠµŠ½, ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“, ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹, ŠŠ¶ŠµŠ²ŃŠŗŠøŠ¹, ŠŠ½ŃŠ·Šµ&ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ°Ń ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°, Š”Š¾ŃŠ¼Š¾Š²ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“. ŠŠ¾ŃŠ»ŠµŠ“Š½ŠøŠµ ŃŃŠø Š½Šµ ŃŠ¼Š¾Š³Š»Šø ŠæŠ¾ŃŃŠ°ŃŃŠ²Š¾Š²Š°ŃŃ Š² ŠøŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠø. Š ŠæŠ¾ ŃŠµŠ·ŃŠ»ŃŃŠ°ŃŠ°Š¼ Š»ŠøŠ“ŠµŃŠ¾Š¼ Š±ŃŠ» ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹ ŃŃŠ°Š»ŠµŠæŃŃŠµŃŠ½ŃŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ Š“Š°Š» Š²ŃŠµŠ³Š¾ Š»ŠøŃŃ 5 % Š±ŃŠ°ŠŗŠ°, ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š²ŃŠøŠ¹ Š¼Š°ŃŃŠµŠ½Š¾Š²ŃŠŗŃŃ ŃŃŠ°Š»Ń ŃŠ¾Š±ŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ Š¾Š±ŃŠ°Š±Š¾ŃŠŗŠø, Ń.Šµ. ŃŠ»ŃŃŃŠµŠ½Š½ŃŃ. ŠŃŠ¾ŃŃŠ¼ Š±ŃŠ» ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“. Š ŠøŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾ ŃŃŠø Š“Š²Š° Š·Š°Š²Š¾Š“Š° Š¼Ń Š²ŃŃŃŠµŃŠ°ŠµŠ¼ Š½Š° ŃŃŃŠ°Š½ŠøŃŠ°Ń ŠŃŃŠµŃŠ¾Š² ŠŠŠ£ Š·Š° 1873ā75 Š³Š³., ŠŗŠ°Šŗ Š³Š»Š°Š²Š½ŃŃ ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²ŃŠøŠŗŠ¾Š² ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Š“Š»Ń Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š². ŠŠ·Š²ŠµŃŃŠ½Š¾, ŃŃŠ¾ ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹ ŃŃŠ°Š»ŠµŠæŃŃŠµŃŠ½ŃŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“ Š±ŃŠ» ŃŠøŠ»ŃŠ½Š¾ Š·Š°Š½ŃŃ ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²ŠŗŠ°Š¼Šø Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ Š¾ŃŃŠ“ŠøŠ¹ Šø ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Šŗ Š½ŠøŠ¼. Š”ŠŗŠ¾ŃŠµŠµ Š²ŃŠµŠ³Š¾, ŠøŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾ ŠæŠ¾ ŃŃŠøŠ¼ ŠæŃŠøŃŠøŠ½Š°Š¼ ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń, ŃŃŠ“Ń ŠæŠ¾ Š¾ŃŃŠµŃŠ°Š¼ ŠŠŠ£, ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ 1875 Š³. ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠ» ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“.
1 ŠŠ°ŃŠ°Š½ŃŠ¾Š² ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“Ń ŠŠ»ŠµŠŗŃŠµŠµŠ²ŠøŃ (1810ā1882), Š³ŃŠ°Ń, Š³ŠµŠ½ŠµŃŠ°Š»-Š°Š“ŃŃŃŠ°Š½Ń, Š³ŠµŠ½ŠµŃŠ°Š» Š¾Ń Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠø. Š” 1862 Š³. ā Š½Š°ŃŠ°Š»ŃŠ½ŠøŠŗ ŠŠ»Š°Š²Š½Š¾Š³Š¾ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ, ŃŠ¾Š²Š°ŃŠøŃ (Š·Š°Š¼ŠµŃŃŠøŃŠµŠ»Ń) Š³ŠµŠ½ŠµŃŠ°Š»&ŃŠµŠ»ŃŠ“ŃŠµŠ¹Ń Š¼ŠµŠ¹ŃŃŠµŃŠ° (Š½Š°ŃŠ°Š»ŃŠ½ŠøŠŗŠ° ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠø). Š” 1863 Š³. Š½Š° Š½ŠµŠ³Š¾ Š±ŃŠ»Š¾ Š²Š¾Š·Š»Š¾Š¶ŠµŠ½Š¾ Š½ŠµŠæŠ¾ŃŃŠµŠ“ŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Šµ ŃŃŠŗŠ¾Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ Š²ŃŠµŠ¹ ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠµŠ¹. Š”Š¼.: ŠŃŃ ŠøŠ² ŠŠŠŠŠŠŠøŠŠ”. Š¤. 25. ŠŠæ. 102. Š. 5. Š. 148ā174.
2 ŠŠŠ£ ā ŠŠ»Š°Š²Š½Š¾Šµ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Šµ ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ. Š”Š¾Š·Š“Š°Š½Š¾ Š² 1862 Š³. Š Š½ŠµŠ¼ ŃŠ¾ŃŃŠµŠ“Š¾ŃŠ¾ŃŠµŠ½Ń ŃŠµŃ Š½ŠøŃŠµŃŠŗŠ°Ń, ŃŃŠµŠ½Š°Ń, ŃŃŠµŠ±Š½Š°Ń Šø Ń Š¾Š·ŃŠ¹ŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š°Ń ŃŠ°ŃŃŠø Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ Š²ŠµŠ“Š¾Š¼ŃŃŠ²Š°, ŃŠ½Š°Š±Š¶ŠµŠ½ŠøŠµ Š²Š¾Š¹ŃŠŗ Šø ŠŗŃŠµŠæŠ¾ŃŃŠµŠ¹ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµŠ¼ Šø Š±Š¾ŠµŠæŃŠøŠæŠ°ŃŠ°Š¼Šø. Š”Š¼.: ŠŃŠøŠŗŠ°Š· Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ Š¼ŠøŠ½ŠøŃŃŃŠ° ā 375 Š¾Ń 28 Š“ŠµŠŗŠ°Š±ŃŃ 1862 Š³.; ŠŠ¾ŠµŠ½Š½Š°Ń ŃŠ½ŃŠøŠŗŠ»Š¾ŠæŠµŠ“ŠøŃ Š.Š. Š”ŃŃŠøŠ½Š°. Š¢. 8. Š”ŠŠ±., 1912. Š”. 334.; Š”ŃŃŃŠŗŠ¾Š² Š.Š. ŠŠ»Š°Š²Š½Š¾Šµ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Šµ ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ: ŠŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠ¹ Š¾ŃŠµŃŠŗ. Š”ŠŠ±., 1902.
3 ŠŃŠµŃŠŗ ŠæŃŠµŠ¾Š±ŃŠ°Š·Š¾Š²Š°Š½ŠøŠ¹ Š² Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠø Š² ŠæŠµŃŠøŠ¾Š“ ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ Š³ŠµŠ½ŠµŃŠ°Š»Š°-Š°Š“ŃŃŃŠ°Š½ŃŠ° ŠŠ°ŃŠ°Š½ŃŠ¾Š²Š° (1863ā1877). Š”ŠŠ±., 1877.
4 ŠŃŠµŠ¹Š·Šµ ŠŠ¾Š³Š°Š½Š½ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°ŠµŠ²ŠøŃ (1787ā1867) ā Š½ŠµŠ¼ŠµŃŠŗŠøŠ¹ ŠøŠ·Š¾Š±ŃŠµŃŠ°ŃŠµŠ»Ń-Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŠøŠŗ. Š£ŃŠøŠ»ŃŃ Š²Š¾ Š¤ŃŠ°Š½ŃŠøŠø. Š 1817 Š³. Š²ŠµŃŠ½ŃŠ»ŃŃ Š² ŠŠµŃŠ¼Š°Š½ŠøŃ. ŠŠ·Š¾Š±ŃŠµŠ» ŠŗŠ°Š·Š½Š¾Š·Š°ŃŃŠ“Š½Š¾Šµ ŃŃŠ¶ŃŠµ ŠøŠ³Š¾Š»ŃŃŠ°ŃŠ¾Š¹ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Šµ ŠæŠ¾ŃŠ¾Š¼ ŃŃŠ¾Š²ŠµŃŃŠµŠ½ŃŃŠ²Š¾Š²Š°Š» Š“Š»Ń Š°ŃŠ¼ŠµŠ¹ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ. Š”Š¼. Š¾ Š½ŠµŠ¼: ŠŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŠ¹ ŃŠ±Š¾ŃŠ½ŠøŠŗ. 1864. ā 4. ŠŃŠ“. 3. Š”. 25.
5 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ. Š”. 285.
6 ŠŃŠ±ŠøŠ½ ŠŃŃŠ¾ŃŠøŃ Š¢ŃŠ»ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠøŠ¼ŠæŠµŃŠ°ŃŠ¾ŃŠ° ŠŠµŃŃŠ° ŠŠµŠ»ŠøŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½Š¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°. Š.: ŃŠøŠæ. Š.Š. ŠŃŃŠ·ŃŠ½Š¾Š² Šø ŠŠ¾, 1912. Š”. 25.
7 Š¤ŃŠ“Š¾ŃŠ¾Š² Š.Š. ŠŠ¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŠµ ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŠ¼ŠøŠø Š·Š° XIX ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŠµ. Š”ŠŠ±., 1911. Š”. 154ā155.
8 ŠŠøŠ»ŃŃŠøŠ½ ŠŠ¼ŠøŃŃŠøŠ¹ ŠŠ»ŠµŠŗŃŠµŠµŠ²ŠøŃ (1816ā1912) ā Š³ŠµŠ½ŠµŃŠ°Š»-Š°Š“ŃŃŃŠ°Š½Ń (1855), Š³ŠµŠ½ŠµŃŠ°Š»-ŃŠµŠ»ŃŠ“Š¼Š°ŃŃŠ°Š» (1898). ŠŠ¾ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ Š¼ŠøŠ½ŠøŃŃŃ (1861ā1881). ŠŠ¾ŃŠµŃŠ½ŃŠ¹ ŃŠ»ŠµŠ½ Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠŠŗŠ°Š“ŠµŠ¼ŠøŠø Š½Š°ŃŠŗ, Š“Š¾ŠŗŃŠ¾Ń ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŠø Š”.-ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŠ½ŠøŠ²ŠµŃŃŠøŃŠµŃŠ°. Š”Š¼. Š¾ Š½ŠµŠ¼: ŠŠ»ŃŠøŠ½Š° Š¢.Š. ŠŠ¾ŠµŠ½Š½ŃŠµ Š°Š³ŠµŠ½ŃŃ Šø ŃŃŃŃŠŗŠ¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ. Š”ŠŠ±.: ŠŃŠ»Š°Š½Ń, 2008. Š”. 291.
9 Š¤ŃŠ“Š¾ŃŠ¾Š² Š.Š. ŠŠ¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŠµ Š ŃŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŠ¼ŠøŠø Š·Š° XIX ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŠµ. Š”ŠŠ±., 1911. Š”. 171ā172.
10 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ. Š”. 192ā193.
11 Š ŠµŠ·Š²Š¾Š¹ ŠŃŠµŃŃ ŠŠ°Š²Š»Š¾Š²ŠøŃ (1811ā1904) ā ŠæŃŠµŠ“ŃŠµŠ“Š°ŃŠµŠ»Ń ŠŃŠæŠ¾Š»Š½ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¹ ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠøŠø ŠæŠ¾ ŠæŠµŃŠµŠ²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŃ Š°ŃŠ¼ŠøŠø. ŠŠ¾ŃŃŠ¾ŃŠ½Š½ŃŠ¹ ŃŠ»ŠµŠ½ ŠŃŃŠŗŠ¾Š¼Š° ŠŠŠ£. Š§Š»ŠµŠ½ ŠŠ¾ŠµŠ½Š½Š¾-ŃŃŠµŠ±Š½Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŠµŃŠ°. Š”Š¼. Š¾ Š½ŠµŠ¼: ŠŠ»ŃŠøŠ½Š° Š¢.Š. Š£ŠŗŠ°Š·. ŃŠ¾Ń. Š”. 295.
12 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ. Š”. 239.
13 ŠŠ±ŃŃ Š¾Š² ŠŠ°Š²ŠµŠ» ŠŠ°ŃŠ²ŠµŠµŠ²ŠøŃ ā Š³Š¾ŃŠ½ŃŠ¹ ŠøŠ½Š¶ŠµŠ½ŠµŃ, ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ¾Š²Š½ŠøŠŗ ŠŗŠ¾ŃŠæŃŃŠ° Š³Š¾ŃŠ½ŃŃ ŠøŠ½Š¶ŠµŠ½ŠµŃŠ¾Š². ŠŠ¼Ń ŠæŃŠøŠ½Š°Š“Š»ŠµŠ¶Š°Š»Š° ŃŠµŃŃŃ Š²Š²ŠµŠ“ŠµŠ½ŠøŃ ŃŃŠ°Š»ŠµŠæŃŃŠµŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š“ŠµŠ»Š° Š² Š Š¾ŃŃŠøŠø. Š„Š¾ŃŃ ŠæŠµŃŠ²ŃŠ¼, ŠŗŃŠ¾ Š½Š°ŃŠ°Š» Š·Š°Š½ŠøŠ¼Š°ŃŃŃŃ ŠæŠ¾Š»ŃŃŠµŠ½ŠøŠµŠ¼ Š»ŠøŃŠ¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø, Š±ŃŠ» Š³Š¾ŃŠ½ŃŠ¹ Š½Š°ŃŠ°Š»ŃŠ½ŠøŠŗ ŠŠ»Š°ŃŠ¾ŃŃŃŠ°, Š³ŠµŠ½ŠµŃŠ°Š»-Š¼Š°Š¹Š¾Ń ŠŠ½Š¾ŃŠ¾Š². Š”Š°Š¼ Š.Š. ŠŠ±ŃŃ Š¾Š² Š½Š°ŃŠ°Š» ŠæŠ¾Š»ŃŃŠ°ŃŃ ŃŠøŠ³ŠµŠ»ŃŠ½ŃŃ ŃŃŠ°Š»Ń, ŠøŠ· ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Š¹ ŠæŠµŃŠ²Š¾Šµ Š²ŃŠµŠ¼Ń Š³Š¾ŃŠ¾Š²ŠøŠ» ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠø, ŠŗŠøŃŠ°ŃŃ Šø ŃŃŠ²Š¾Š»Ń, Š° Š² 1855 Š³. ŠæŠ¾Š“Š°Š» ŠæŃŠ¾ŠµŠŗŃ Š¾ ŠæŃŠøŠ³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŠø Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ Š¾ŃŃŠ“ŠøŠ¹. Š 1857 Š³. ŠµŠ³Š¾ Š¾ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŃŃŃ Š·Š°Š³ŃŠ°Š½ŠøŃŃ Š“Š»Ń ŠøŠ·ŃŃŠµŠ½ŠøŃ Šø Š¾ŃŠ¼Š¾ŃŃŠ° Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š², Šø ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ Š²Š¾Š·Š²ŃŠ°ŃŠµŠ½ŠøŃ Š¾Š½ ŃŃŠ°Š» Š½Š°ŃŠ°Š»ŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š¼ ŠŠ»Š°ŃŠ¾ŃŃŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š³Š¾ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾ŠŗŃŃŠ³Š°. Š 1858 Š³. ŠæŠ¾Š»ŃŃŠøŠ» ŃŠ°Š·ŃŠµŃŠµŠ½ŠøŠµ Š½Š° ŠæŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¹ŠŗŃ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠø, Š½Š°Š·Š²Š°Š½Š½Š¾Š¹ ŠŠ½ŃŠ·Šµ-ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹. Š”Š°Š¼Š° ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ° ā ŃŃŠ°Š»ŠµŠ»ŠøŃŠµŠ¹Š½Š°Ń, Ń Š½ŠµŠ¹ ŃŠ²ŃŠ·Š°Š½Š° ŃŠµŠ»Š°Ń ŃŠµŃŃ ŃŃŠ°Š»ŠµŠæŃŃŠµŃŠ½ŃŃ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ².
14 Š”ŃŠ°Š»Ń ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²Š° ā ŃŠ¾ŃŃŠ°Š² ŃŠøŃŠ¾Šŗ: ŠæŃŠ“Š»ŠøŠ½Š³Š¾Š²Š°Ń ŃŃŠ°Š»Ń, ŃŠ°ŃŠøŠ½ŠøŃŠ¾Š²Š°Š½Š½ŃŠ¹ ŃŃŠ³ŃŠ½ Šø Š¼Š°Š³Š½ŠøŃŠ½ŃŠ¹ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½ŃŠŗ. ŠŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾ Š½Š° ŠæŃŠøŠ³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ ŃŃŠ°Š»Šø ŠøŠ· ŃŃŠøŃ Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Š¾Š² ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠ¼ Š±ŃŠ»Š° Š²Š·ŃŃŠ° ŠæŃŠøŠ²ŠøŠ»ŠµŠ³ŠøŃ Š² 1857 Š³. ŠŃŠ¾Ń Š¶Šµ ŃŠæŠ¾ŃŠ¾Š± Š²Š²ŠµŠ» Š¾ŠŗŠ¾Š»Š¾ 1865 Š³. Š² Š¾Š±Š¾ŃŠ¾Ń ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ¾Š²Š½ŠøŠŗ ŠŠ¾ŃŠ¾Š½ŃŠ¾Š² Š½Š° ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š¼ ŃŃŠ°Š»ŠµŠæŃŃŠµŃŠ½Š¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ. ŠŃŠøŃŠµŠ¼ ŃŠ°Š¼Š° ŠæŃŠ“Š»ŠøŠ½Š³Š¾Š²Š°Ń ŃŃŠ°Š»Ń Š·Š°ŠŗŠ°Š·ŃŠ²Š°Š»Š°ŃŃ ŠøŠ· Š¤ŠøŠ½Š»ŃŠ½Š“ŠøŠø Ń Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠøŠŗŠ° ŠŃŃŠøŠ»Š¾Š²Š°, Š½Š¾ Š¾ŠŗŠ¾Š»Š¾ Š² 1865 Š³. Š±ŃŠ»Š¾ ŃŠ¶Šµ ŃŠµŃŠµŠ½Š¾ Š³Š¾ŃŠ¾Š²ŠøŃŃ ŠµŠµ Ń ŃŠµŠ±Ń. Š”Š¼.: ŠŠøŃŠµŠµŠ² Š. ŠŃŠ°ŃŠŗŠ¾Šµ Š¾ŠæŠøŃŠ°Š½ŠøŠµ ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŃŠ°Š»ŠµŠ»ŠøŃŠµŠ¹Š½Š¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š° // ŠŃŃŠ½Š°Š» Š¼Š°Š½ŃŃŠ°ŠŗŃŃŃ Šø ŃŠ¾ŃŠ³Š¾Š²Š»Šø. 1865. Š¢. 5. Š”. 589ā600.
15 ŠŠµŃŃŃŠ¶ŠµŠ²-Š ŃŠ¼ŠøŠ½ Š.Š. ŠŠµŃŠŗŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ ŃŠ»Š¾Š² Š¾ Š²Š²ŠµŠ“ŠµŠ½ŠøŠø Ń Š½Š°Ń Š»ŠøŃŠ¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø Š“Š»Ń ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² // ŠŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŠ¹ ŃŠ±Š¾ŃŠ½ŠøŠŗ. 1863. ā 1. Š”. 142.
16 Š ŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń ŠøŠ· Š»ŠøŃŠ¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø // ŠŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠ¹ Š¶ŃŃŠ½Š°Š». 1857. ā 1. Š”. 69.
17 ŠŠ¾Ń ŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Šµ ŃŃŠ°Š»ŠµŠ»ŠøŃŠµŠ¹Š½Š¾Šµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ ā Š¾Š“Š½Š¾ ŠøŠ· ŠæŠµŃŠ²ŃŃ Š² Š¼ŠøŃŠµ, Š² Š³Š¾ŃŠ¾Š“Šµ ŠŠ¾Ń ŃŠ¼. ŠŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾ Š·Š“ŠµŃŃ, ŃŃŠøŃŠ°ŠµŃŃŃ, Š½Š°ŃŠ°Š»Šø ŠøŠ· Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½Š¾Š¹ ŃŃŠ“Ń Š»ŠøŃŃ ŃŃŠ°Š»Ń ŠµŃŠµ Š² 1844 Š³. ŠŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾ Ń Š±Š¾Ń ŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¼Šø Š¼Š°ŃŃŠµŃŠ°Š¼Šø ŠŗŠ¾Š½ŠŗŃŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š» ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠ°Š½Ń ŠŃŃŠæŠæ.
18 Š¦ŠøŃ. ŠæŠ¾: ŠŠ¾Š»ŃŠ°Šŗ Š. ŠŃŃŠ¾ŃŠøŃ ŠŠ±ŃŃ Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š° Š² ŃŠ²ŃŠ·Šø Ń ŠæŃŠ¾Š³ŃŠµŃŃŠ¾Š¼ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠµŃ Š½ŠøŠŗŠø. Š”ŠŠ±.: Š¢ŠøŠæ&Ń ŠŠ¾ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼ŠøŠ½ŠøŃŃŠµŃŃŃŠ²Š°, 1903. Š”. 12.
19 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ. Š”. 3.
20 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ.
21 Š ŠæŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¹ŠŗŠµ ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŃŠ°Š»ŠµŠæŃŃŠµŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š° ŠæŃŠøŃŃŃŠæŠøŠ»Šø Š² 1863 Š³. Š² Š·Š°Š¼ŠµŠ½Ń ŠŠ¾ŃŠ¾Š²ŠøŠ»ŠøŃ ŠøŠ½ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼ŠµŠ“ŠµŠæŠ»Š°Š²ŠøŠ»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š° Š½Š° Š±ŠµŃŠµŠ³Ń ŃŠµŠŗŠø ŠŠ°Š¼Ń. Š£ŠæŃŠ°Š²Š»ŃŃŃŠøŠ¹ ā Š.Š. ŠŠ¾ŃŠ¾Š½ŃŠ¾Š².
22 Š Š²Š¾Š“Š²Š¾ŃŠµŠ½ŠøŠø Š² Š Š¾ŃŃŠøŠø ŃŃŠ°Š»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š° // ŠŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŠ¹ ŃŠ±Š¾ŃŠ½ŠøŠŗ. 1869. ā 4. 2 Š¾ŃŠ“. Š”. 2.
23 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ. Š”. 3.
24 ŠŃŠµŃŠŗ ŠæŃŠµŠ¾Š±ŃŠ°Š·Š¾Š²Š°Š½ŠøŠ¹ Š² Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠø Š² ŠæŠµŃŠøŠ¾Š“ ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ Š³ŠµŠ½ŠµŃŠ°Š»-Š°Š“ŃŃŃŠ°Š½ŃŠ° ŠŠ°ŃŠ°Š½ŃŠ¾Š²Š°: 1863ā1877. Š”ŠŠ±., 1877. Š”. 305.
25 Š Š²Š¾Š“Š²Š¾ŃŠµŠ½ŠøŠø Š² Š Š¾ŃŃŠøŠø ŃŃŠ°Š»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š° // ŠŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŠ¹ ŃŠ±Š¾ŃŠ½ŠøŠŗ. 1869. ā 4. 2 Š¾ŃŠ“. Š”. 4ā5.
26 ŠŃŠµŃ ŠŠ°ŃŃŠµŠ½ ā ŃŃŠ°Š½ŃŃŠ·ŃŠŗŠøŠ¹ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»ŃŃŠ³, ŠæŠµŃŠ²Š°Ń ŠæŠµŃŃ Š² 1864 Š³.
27 Š¢ŠøŠ³ŠµŠ»Ń ā Š³ŃŠ°ŃŠøŃŠ½ŃŠ¹ Š³Š¾ŃŃŠ¾Šŗ, Š² ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Š¼ ŠæŠ»Š°Š²ŃŃ ŃŃŠ°Š»Ń. Š”Š¼.: ŠŠ°Š²Š¾Š“Ń Š. ŠŃŃŠøŠ»Š¾Š²Š°: 1857ā1870. Š”ŠŠ±, 1870; Š”Š¾ŃŃŠ°Š² ŃŠøŠ³Š»ŠµŠ¹, ŃŠ¾ ŠµŃŃŃ ŃŠ¾ŃŃŠ°Š² Š¼Š°ŃŃŃ, ŠøŠ· ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Š¹ Š¾Š½Šø Š³Š¾ŃŠ¾Š²ŃŃŃŃ ā Š¾Š³Š½ŠµŠæŠ¾ŃŃŠ¾ŃŠ½Š½Š°Ń Š³Š»ŠøŠ½Š°, ŃŠµŃŠµŠæŠŗŠø Š¾Ń ŃŃŠ°ŃŃŃ ŃŠøŠ³Š»ŠµŠ¹, ŃŠµŠ¹Š»Š¾Š½ŃŠŗŠøŠ¹ Š³ŃŠ°ŃŠøŃ, ŃŠøŠ±ŠøŃŃŠŗŠøŠ¹ Š³ŃŠ°ŃŠøŃ, Š±ŠµŃŠµŠ·Š¾Š²ŃŠ¹ ŃŠ³Š¾Š»Ń (Š”Š¼.: ŠŠøŠŗŠ»Š°ŃŠµŠ²ŃŠŗŠøŠ¹ Š.Š. ŠŠµŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹ ŃŃŠ°Š»ŠµŠæŃŃŠµŃŠ½ŃŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“. Š”ŠŠ±., 1874). Š¢ŠøŠ³ŠµŠ»ŃŠ½Š°Ń ŃŃŠ°Š»Ń ŠæŠ¾Š»ŃŃŠ°ŠµŃŃŃ ŃŠøŠ³ŠµŠ»ŃŠ½ŃŠ¼ ŃŠæŠ¾ŃŠ¾Š±Š¾Š¼ ŠøŠ· Š±ŠµŃŃŠµŠ¼ŠµŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹ (ŃŃŠ°Š»Ń Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŃŠæŃŃŠ³Š°Ń Šø ŃŠ²ŠµŃŠ“Š°Ń, ŠæŠ¾Š»ŃŃŠµŠ½Š½Š°Ń Š¼ŠµŃŠ¾Š“Š¾Š¼ ŠæŃŠ¾Š“ŃŠ²ŠŗŠø ŃŠµŃŠµŠ· ŃŃŠ³ŃŠ½ ŃŠ¶Š°ŃŠ¾Š³Š¾ Š²Š¾Š·Š“ŃŃ Š°) Šø Š¼Š°ŃŃŠµŠ½Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹ (Š¼ŠµŠ½ŠµŠµ ŃŠæŃŃŠ³Š°Ń Šø ŃŠ²ŠµŃŠ“Š°Ń, ŠæŠ¾Š»ŃŃŠ°ŠµŠ¼Š°Ń Š² Š¼Š°ŃŃŠµŠ½Š¾Š²ŃŠŗŠøŃ ŠæŠµŃŠ°Ń ŃŠµŃŠµŠ· Š²Š“ŃŠ²Š°Š½ŠøŠµ ŃŠ°ŃŠŗŠ°Š»ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ ŃŠ¼ŠµŃŠø Š³Š¾ŃŃŃŠµŠ³Š¾ Š³Š°Š·Š°) ŃŃŠ°Š»Šø.
28 ŠŠ°Š»Š°ŠŗŃŃŠŗŠøŠ¹ Š. ŠŃŠæŃŃŠ°Š½ŠøŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø Šø Š¾ŠæŃŃŃ Š½Š°Š“ Š¼Š°Š»Š¾ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŠµŃŠ½ŃŠ¼Šø ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Š¼Šø ŃŠ°Š·Š½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š² // ŠŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŠ¹ ŃŠ±Š¾ŃŠ½ŠøŠŗ. 1871. ā 3. Š”. 81.
29 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ.
30 ŠŠøŠ½Š“ŠµŃŠ»ŠøŠ½Š³ Š. ŠŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ, ŠæŃŠøŠµŠ¼ Šø ŠæŃŠ¾Š±Š° ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² ŃŠæŠ¾ŃŃŠµŠ±Š»ŃŠµŠ¼ŃŃ Š“Š»Ń Š±ŠµŠ»ŃŠ³ŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ // ŠŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŠ¹ ŃŠ±Š¾ŃŠ½ŠøŠŗ. 1872. ā 4. 2 Š¾ŃŠ“. Š”. 1ā6.
31 ŠŃŃŠµŃ ŠŠŠ£ Š·Š° 1873 Š³. // ŠŃŃŠµŃŃ ŠŠŠ£: 1871ā1912. Š”. 3.
32 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ.
33 ŠŃŃŠµŃ ŠŠŠ£ Š·Š° 1874 Š³. // ŠŃŃŠµŃŃ ŠŠŠ£: 1871ā1912. Š”. 3.
34 ŠŃŃŠµŃ ŠŠŠ£ Š·Š° 1875 Š³. // ŠŃŃŠµŃŃ ŠŠŠ£: 1871ā1912. Š”. 3.
35 Š”ŠæŠ¾ŃŠ¾Š± ŠŠ°ŃŃŠµŠ½Š° ā ŠæŠ»Š°Š²ŠŗŠ° ŃŃŠ°Š»Šø Š½Š° ŠæŠ¾Š“Šµ ŠæŠµŃŠµŠ¹ Š”ŠøŠ¼ŠµŠ½ŃŠ°. Š 1869 Š³. ŃŃŠ¾Ń ŃŠæŠ¾ŃŠ¾Š± Š²Š²ŠµŠ“ŠµŠ½ ŠøŠ»Šø Š²Š²Š¾Š“ŠøŠ»ŃŃ Š½Š° Š¼Š½Š¾Š³ŠøŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°Ń Š² ŠŠ¼ŠµŃŠøŠŗŠµ, ŠŠ½Š³Š»ŠøŠø, Š¤ŃŠ°Š½ŃŠøŠø, ŠŠ²ŃŃŃŠøŠø, ŠŃŃŃŃŠøŠø. Š”Š¼.: Š Š²Š¾Š“Š²Š¾ŃŠµŠ½ŠøŠø ŃŃŠ°Š»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š° // ŠŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŠ¹ ŃŠ±Š¾ŃŠ½ŠøŠŗ. 1869. ā 4. Š¾ŃŠ“. 2. Š”. 2.









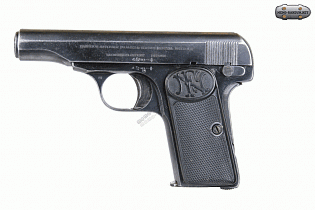
ŠŠ¾Š¼Š¼ŠµŠ½ŃŠ°ŃŠøŠø