–°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤–∞ –Є —З–µ—А—В–µ–ґ–Є –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є 1805 –≥–Њ–і–∞, –Ш–≥–Њ—И–Є–љ –Ъ.–У. (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞), —З–∞—Б—В—М 1
–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –І–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 15вАУ17 –Љ–∞—П 2013 –≥–Њ–і–∞
–І–∞—Б—В—М II–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥
–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2013
¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2013
¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2013
–°–Ю–У–Ы–Р–°–Э–Ю —Г—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–Љ—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ, –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є–љ –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Њ—А—Г–і–Є—П –љ–µ–Ї–Њ–є ¬Ђ—Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л 1805 –≥–Њ–і–∞¬ї, –Є–ї–Є ¬Ђ–∞—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є¬ї, –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–є –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —А–∞–±–Њ—В—Л —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –≤ 1802 –≥. –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –≥—А–∞—Д–∞ –Р.–Р. –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤–∞. –Т —А—П–і–µ —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–∞–є—В–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є. –Т –љ–µ–µ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є: –≠–є–ї–µ—А, –С–∞–Ј–Є–љ, –°–Є–≤–µ—А—Б, –†–µ–Ј–≤–Њ–є, –У–Њ–≥–µ–ї—М, –Ъ—Г—В–∞–є—Б–Њ–≤, –Я–ї–Њ—В—В–Њ, –Ь–∞—А–Ї–µ–≤–Є—З, –Р–њ—А–µ–ї–µ–≤.
–°–њ–Є—Б–Њ–Ї –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –ї—О–і–Є, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—Л–≥—А–∞–≤—И–Є–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –љ–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ (–њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ) –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –∞ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, —П–Ї–Њ–±—Л —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–µ–є —Б 1802 –њ–Њ 1805 –≥–≥. –Я–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –і–≤—Г—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –Є –Є–Љ–µ–ї–Є –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–µ—А–∞–≤–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Г—Б.
–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л –Р.–Ю. –С–∞–Ј–Є–љ (1743вАУ1816) –Є –•.–Ы. –≠–є–ї–µ—А (1743вАУ1808) –±—Л–ї–Є —Г–ґ–µ —Б 1799 –≥. –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ. –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Є –≥—А–∞—Д –ѓ.–Ъ. –°–Є–≤–µ—А—Б (1773вАУ1810), –Ш.–У. –У–Њ–≥–µ–ї—М (1770вАУ1834) –Є –Љ–∞–є–Њ—А –±–∞—А–Њ–љ –Т.–Ъ. –Я–ї–Њ—В—В–Њ (?вАУ1810) –±—Л–ї–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —А–Њ—В. –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –≥—А–∞—Д –Р.–Ш. –Ъ—Г—В–∞–є—Б–Њ–≤ (1784вАУ1812) –±—Л–ї –∞–і—К—О—В–∞–љ—В–Њ–Љ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –≤—Б–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Р.–Ш. –Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є —О–љ–Њ—И–∞ —Б—В–∞–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, –Ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –µ–≥–Њ –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞ –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є. –Я—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М 2-–≥–Њ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Р.–Ш. –Ь–∞—А–Ї–µ–≤–Є—З (1771вАУ1832) –Ї 1802 –≥. —Г–ґ–µ —Г—Б–њ–µ–ї –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –Є –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –љ–Њ –µ—Й–µ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї —В–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—Б–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –±—Л –µ–Љ—Г –Ј–∞—Б–µ–і–∞—В—М –≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є. –Ґ–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л –Ф.–Я. –†–µ–Ј–≤–Њ–є (1762вАУ1823) –Є –§.–Ш. –Р–њ—А–µ–ї–µ–≤ (1764вАУ1837) –Є–Љ–µ–ї–Є —И–∞–љ—Б—Л –≤–Њ–є—В–Є –≤ –µ–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞.
–С–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Н—В—Г –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Г—О, –љ–Њ –ї–Њ–ґ–љ—Г—О –≤–µ—А—Б–Є—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є. –Ъ—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞—Б –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –≤—Л—П–≤–Є—В—М —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—И–Є–±–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–Є –Њ–±—Й–µ–њ—А–Є–љ—П—В—Г—О –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–µ—А—Б–Є—О.
–Я–µ—А–≤—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –љ–∞–є—В–Є –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ —Г—В–Њ—З–љ—П—О—Й–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —А–∞–±–Њ—В–µ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, –∞ –≤ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ —Б–ї–µ–і—Л –њ—А–Є–љ—П—В—Л—Е —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–µ–є —А–µ—И–µ–љ–Є–є. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–µ XIX –≤. –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤—Б–µ, –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–µ —З–∞—Б—В–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –∞—А–Љ–Є–Є, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Н—В–∞–њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–≥–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В–∞–Ї–Њ–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ —Ж–µ–ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є—В–Є —Б–≤–Њ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–µ –Є–Љ—П –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –µ–≥–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –±—Л–ї–Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ 1830 –≥. –≤ ¬Ђ–Я–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є¬ї1. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Є–Ј –і—О–ґ–Є–љ—Л –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —В–∞–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –Ј–∞ 1805 –≥., —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –љ–µ—В –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –≥–і–µ –±—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–Є –љ–Њ–≤–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ –Ј–∞ 1805 –Є–ї–Є –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ –≥–Њ–і—Л, –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е, –Є–ї–Є –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ —В–µ—Е, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П –≤ –Э–∞—Г—З–љ–Њ–Љ –∞—А—Е–Є–≤–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Є–ї–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Е–Є–≤–µ, –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П —В–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ—Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ 1805 –≥–Њ–і–∞¬ї. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –Є–ї–Є –Є—Е –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П ¬Ђ–љ—Л–љ–µ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–Є–Љ—Л–Љ–Є¬ї, –Є–ї–Є ¬Ђ–љ–Њ–≤—Л–Љ–Є¬ї, ¬Ђ–љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П¬ї, –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–µ—Б ¬Ђ–њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е¬ї, ¬Ђ–њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ –Љ–∞–љ–Є—А–∞¬ї, ¬Ђ–њ—А–µ–ґ–љ–µ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л¬ї, ¬Ђ–њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ –ї–Є—В—М—П¬ї –Є —В. –і., –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤ —А–∞–≤–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –≤—Б–µ —Г—Б—В–∞—А–µ–≤—И–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –µ–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є, –њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –Є –∞–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е.
–Э–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ ¬Ђ—Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ 1805 –≥–Њ–і–∞¬ї –≤ —В–∞–Ї–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є—Е –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є XIX –≤. —В—А—Г–і–∞—Е, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ –≤ 1816 –≥. —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Г—З–µ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ ¬Ђ–Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є¬ї2, —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –≤ –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤ 1820вАУ1824 –≥–≥. –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–Љ –Р.–Ш. –Ь–∞—А–Ї–µ–≤–Є—З–µ–Љ —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–µ –і–ї—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є ¬Ђ–†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г¬ї3. –Р –≤–µ–і—М –∞–≤—В–Њ—А—Л —Н—В–Є—Е –Ї–љ–Є–≥, —П–≤–ї—П—П—Б—М —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є –£—З–µ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –ї—Г—З—И–µ –њ—А–Њ—З–Є—Е –Ј–љ–∞–ї–Є –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –Є –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –≤ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ–Є–љ–≤–µ–љ—Ж–Є–є¬ї. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Є –Ь–∞—А–Ї–µ–≤–Є—З, –Є –У–Њ–≥–µ–ї—М —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г—О—В –≤ –≤—Л—И–µ–њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤, —П–Ї–Њ–±—Л —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ —Н—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л.
–° —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ —А–∞–±–Њ—В–µ ¬Ђ–Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є 1802вАУ1805 –≥–≥.¬ї –Є –Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–Є –≤ 1805 –≥. –љ–Њ–≤–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г—В—М—Б—П, –µ—Б–ї–Є –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞—Б –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞: ¬Ђ–Ъ—А–∞—В–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–љ–Є—О —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є —Б 1798 –њ–Њ 1848 –≥–Њ–і¬ї, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї 50-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є –У–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞, –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –µ–Љ—Г –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1848 –≥. –Ю–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ 1852вАУ1853 –≥–≥. –≤ ¬Ђ–Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ¬ї –Є –≤ 1853 –≥. –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Њ –≤ –≤–Є–і–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є4.
–°–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤—Л—Б—И–Є—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є (–∞—А—Е–Є–≤–Њ–≤ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤) ¬Ђ–Ъ—А–∞—В–Ї–Њ–µ –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ¬ї –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л—Е –Є —В–Њ—З–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤ –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XIX –≤. –†–∞–Ј–і–µ–ї ¬Ђ–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П¬ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —В—А–µ—В—М –Њ—В –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Љ–∞ —Н—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Є–Љ—П –∞–≤—В–Њ—А–∞ (–Є–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–∞ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞) –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–Њ –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –љ–∞–і ¬Ђ–Ъ—А–∞—В–Ї–Є–Љ –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ¬ї –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –†–∞—В—З.
–Т.–§. –†–∞—В—З —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ —А—П–і–∞ —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Я–µ—В—А–∞ I –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є–љ. –С–µ–Ј –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Т –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л—Е –ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е, ¬Ђ—З–Є—В–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є¬ї –≤ 1859вАУ1861 –≥–≥. –Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –≤ 1860вАУ1861 –≥–≥.5, –Њ–љ, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –∞—А—Е–Є–≤–Њ–≤ –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –∞—А—Е–Є–≤–∞ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є –љ–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –µ–Љ—Г –ґ–Є–≤—Л–Љ–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є–є), –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л—Е –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVIII вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ XIX –≤–≤.
–Т.–§. –†–∞—В—З –≤—Л–і–µ–ї—П–µ—В 1805 –≥. —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –≥–Њ–і –∞—Г—Б—В–µ—А–ї–Є—Ж–Ї–Њ–є –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –Є—Б–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –і–µ–ї–µ, –Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ—Л —Г—А–Њ–Ї–Є, –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–µ –њ–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є, –љ–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–Є –≤ 1805 –≥. —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Ю–љ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –≤–µ—Б—М –њ–µ—А–Є–Њ–і 1797вАУ1815 –≥–≥. –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ—Л—Е, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ –≤–і—А—Г–≥ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М —Б—В—А–Њ–є–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П –Є–Љ ¬Ђ—Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤–∞¬ї. ¬Ђ–Т –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е, –ї–Є—И—М —Б —З–∞—Б—В–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є, —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –і–Њ–ї–≥–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Є —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–∞–≤–ї–∞, –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—П –Ї –µ–і–Є–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—О –Є —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–љ—Л—П –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤—Л–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б 1803 –≥–Њ–і–∞ –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ —Б—В–∞–ї –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П; –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б 1807 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П –і–Њ–ї–≥–Њ –±—Л–≤—И–Є—П –≤ –±—А–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤¬ї6.
–У–Њ–≤–Њ—А—П –Њ–± –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —А–Њ–ї–Є –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤–∞ –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –≥–Њ–і—Л —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ I, –Т.–§. –†–∞—В—З –њ–Є—И–µ—В: ¬Ђ–Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ –µ—Й–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В –≥—А–∞—Д–∞ –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤–∞ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ 1815 –≥–Њ–і—Г –љ–∞—И–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –≥–Њ—А–і–Є–ї–∞—Б—М —Б–≤–Њ–µ—О –∞—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ—О. –Ю–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П —Н–њ–Њ—Е–∞ –љ–∞–Љ –µ—Й–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–∞, —З—В–Њ–±—Л –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –≥—А–∞—Д–∞ –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤–∞ –Ї–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –љ–∞—И–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –њ—А–Є –≤—Б–µ—Е –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ—Л—Е –Є–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–љ–∞—Е¬ї7. –Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –†–∞—В—З —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –µ—Й–µ —Б–∞–Љ–Є–Љ –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤—Л–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї —Б–≤–Њ—О —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—Й—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Э–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ —В–Њ–љ–Ї–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Г—З–µ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Ш.–У. –У–Њ–≥–µ–ї—М –≤ 1816 –≥. –≤ –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–Є –Ї ¬Ђ–Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є¬ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≥—А–∞—Д–∞ –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤–∞ ¬Ђ–Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–Љ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –љ–∞—И–µ–є¬ї8.
–Т–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ –ї–µ–Ї—Ж–Є–є –†–∞—В—З–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ–µ—А–≤—Л–є —И–∞–≥ –≤ —А–∞–Ј–≥–∞–і–Ї–µ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Є–Ј –і–µ—Б—П—В–Є –њ–µ—А—Б–Њ–љ. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Њ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –≥—А–∞—Д–∞ –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤–∞, –Њ–љ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Є—И–µ—В: ¬Ђ–Ь—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —А–∞–Ј–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л—П –Љ–љ–µ–љ–Є—П –Њ –≥—А–∞—Д–µ –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤–µ, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –љ–∞—И–Є—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є; –µ—Б–ї–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—В –≤—Б–µ —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л—П –≤ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –µ–Љ—Г –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г, —В–Њ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Є —В–∞–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Є –≥—А–∞—Д–∞ –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –µ–Љ—Г –Њ–і–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ, вАУ —Г–Љ–µ—В—М —З—Г–ґ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –ґ–∞—А –Ј–∞–≥—А–µ–±–∞—В—М; –Њ–љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –С–∞–Ј–Є–љ, –≠–є–ї–µ—А, –≥—А–∞—Д –°–Є–≤–µ—А—Б, –†–µ–Ј–≤—Л–є, –У–Њ–≥–µ–ї—М, –Ъ—Г—В–∞–є—Б–Њ–≤, –Я–ї–Њ—В–Њ, –Ь–∞—А–Ї–µ–≤–Є—З, –Р–њ—А–µ–ї–µ–≤ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –Є —З—В–Њ –≤—Б–µ –Є—Е —В—А—Г–і—Л –њ–Њ—И–ї–Є –Ј–∞ —В—А—Г–і—Л –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤–∞¬ї9. –Ч–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї! –Я—А–∞–≤–і–∞, —Н—В–Є –ї—О–і–Є —Г –†–∞—В—З–∞ –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –љ–Є –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є. –Э–Њ –Ј–∞—В–Њ –Љ—Л —В–µ–њ–µ—А—М –Ј–љ–∞–µ–Љ, –Ї—В–Њ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Б–Њ–±—А–∞–ї —Н—В–Є—Е –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVIII вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XIX –≤–≤. –≤ –Њ–і–Є–љ —А—П–і.
–Ш–Љ–µ—О—В—Б—П —Г –†–∞—В—З–∞ –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є. ¬Ђ–Я—А–Є –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–µ, –≤ 1802 –≥–Њ–і—Г, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ї–Њ–Љ–Љ–Є—Б–Є—П –і–ї—П –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –±—Л–ї –≤—Л–Ј–≤–∞–љ –Є –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤. –Х—Б–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Ї–Њ–Љ–Љ–Є—Б–Є–Є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ъ–∞—А—Б–∞–Ї–Њ–≤–∞ —Б–Њ—З–ї–Є –Є–Ј–ї–Є—И–љ–Є–Љ, —В–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Е–Њ—В—П —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї–Є—Б—М –Њ–± –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–Є. –Я—А–Њ–µ–Ї—В, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ –Є –Њ—В—Б—В–∞–≤–љ—Л–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–Љ –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤—Л–Љ, –±—Л–ї –њ–Њ–і–љ–µ—Б–µ–љ –љ–∞ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—П¬ї10. –≠—В–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –Њ—В –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–є –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –≤–µ—А—Б–Є–Є. –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –љ–Є –Њ —Б—А–Њ–Ї–∞—Е –µ–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, –љ–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–∞–і–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤–љ—П—В–µ–љ –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –љ–µ—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї ¬Ђ–Ъ—А–∞—В–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–љ–Є—О —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є¬ї –Є –њ–Њ–Є—Б–Ї –≤ ¬Ђ–Я–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤¬ї –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М, –Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Є –Њ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–µ –Є–і–µ—В —А–µ—З—М.
24 –Є—О–љ—П 1801 –≥. –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А I –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї –Т–Њ–Є–љ—Б–Ї—Г—О (–Т–Њ–µ–љ–љ—Г—О) –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Њ–є—Б–Ї –Є —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Њ–љ—Л—Е11. –Т —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —А–∞–±–Њ—В—Л –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –≤–Њ—И–ї–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є –Ї–љ—П–Ј—М –Я—А–Њ–Ј–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ы–∞–Љ–±, –Ґ–∞—В–Є—Й–µ–≤, –У–Њ–ї–µ–љ–Є—Й–µ–≤-–Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–њ—А–Њ–≤–Є–∞–љ—В–Љ–µ–є—Б—В–µ—А –°–≤–µ—З–Є–љ, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Л –Ґ–Њ—А–Љ–∞—Б–Њ–≤, –Ї–љ—П–Ј—М—П –Т–Њ–ї–Ї–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –Ф–Њ–ї–≥–Њ—А—Г–Ї–Є–є. –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Љ–µ–љ—П–ї—Б—П, –љ–Њ –≤—Б–µ —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Є, –њ–Њ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ –Њ—В –µ–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л, –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї –≤—Л—Б—И–µ–Љ—Г –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1802 –Є–ї–Є –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1803 –≥. –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —А—П–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–∞ –±—Л–ї –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ, –∞ —Б 14 –Љ–∞—П 1803 –≥. –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–Є–љ—П—В—Л–є –≤ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –Ш–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤.
–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л —А–∞–±–Њ—В—Л –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї–Є—Б—М –≤ —А—П–і–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г I –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї –Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і ¬Ђ–Ю —И—В–∞—В–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є 19 –Љ–∞—А—В–∞ 1803 –≥. –±—Л–ї –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ12.
–Ф–Њ–Ї–ї–∞–і —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї –≤ —Б–µ–±–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ—Л–µ —И—В–∞—В—Л –Є —В–∞–±–µ–ї–Є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞–Љ –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є –Є –Њ—Б–∞–і–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Ј–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –љ–Њ–≤—Л–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —П–≤–Є–ї—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤—И–Є—Е –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ –µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –љ–∞ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ 3вАУ4 –≥–Њ–і–∞, –∞ –њ–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ –Є –і–Њ–ї–µ–µ. –Я–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є—В—М –Њ–±—Й–µ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —А–Њ—В –Є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤, –≤–µ—А–љ—Г—В—М –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ (–љ–∞ –љ–Њ–≤—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е) –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Г—О –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—О, —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є—В—М –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л—Е –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є. –°–Њ—Б—В–∞–≤ —А–Њ—В –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –∞—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї –≤—Б—О —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є–љ.
–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ш—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –±–∞—В–∞—А–µ–є–љ—Л—Е —А–Њ—В –љ–µ–Ї–Є—Е 3-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е –µ–і–Є–љ–Њ—А–Њ–≥–Њ–≤ –і–ї—П –µ–≥–µ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ (–њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —Г–ґ–µ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л—Е –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е), –і–µ–Ї–ї–∞—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –Ј–∞—А—П–і–љ—Л—Е —Д—Г—А –Є –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Ї –Ј–∞—А—П–і–љ—Л–Љ —П—Й–Є–Ї–∞–Љ (–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –µ—Й–µ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М), –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М —И–Њ—А–љ—Г—О –Ј–∞–њ—А—П–ґ–Ї—Г —Е–Њ–Љ—Г—В–Њ–≤–Њ–є. –Я–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–µ–є, —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ —Г–≥–ї—Г–±–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –Є –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤—Л—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Б–Њ–±—Л—В–Є–є. –Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ —П—Б–љ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞ ¬Ђ–∞—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤—Б–Ї–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П¬ї, –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Є–і–µ—В —А–µ—З—М, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Ј—П–ї—Б—П –Є —З—В–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ —Н–њ–Њ—Е–Є –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤–∞. –Э–Њ –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –њ—А–µ—Б–ї–Њ–≤—Г—В–∞—П ¬Ђ—Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ 1805 –≥–Њ–і–∞¬ї –Є –Ї—В–Њ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –Р—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤–∞¬ї –Є–Ј –і–µ—Б—П—В–Є –њ–µ—А—Б–Њ–љ, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И—Г—О—Б—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є —Н—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л?
–Ґ–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ—Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ 1805 –≥–Њ–і–∞¬ї, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XIX –≤. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—Л. –Т 1838 –≥. –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Њ—А—Г–і–Є—П (—Б—В–≤–Њ–ї—Л) –љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, –∞ –≤ 1840вАУ1846 –≥–≥. –љ–Њ–≤—Л–µ –ї–∞—Д–µ—В—Л, –њ–µ—А–µ–і–Ї–Є –Є –њ—А. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞—В—М —Г—Б—В–∞—А–µ–≤—И–Є–µ, –љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–≤—И–Є–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л ¬Ђ–њ—А–µ–ґ–љ–Є–Љ–Є¬ї, –∞ –љ–Њ–≤–Њ–њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л ¬Ђ–љ–Њ–≤—Л–Љ–Є¬ї, –љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ13. –Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –љ–Њ–≤–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–ї–∞—Б—М, –Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞—В—М –Є —Г—Б—В–∞—А–µ–≤—И–Є–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ї –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –і–∞—В–µ.
–°–∞–Љ–Њ–µ —А–∞–љ–љ–µ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –і–∞—В—Л ¬Ђ1805 –≥–Њ–і¬ї, –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –њ—А–Є–љ—П—В–Є—О –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–є—В–Є, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї 1851 –≥. –Т —Б–≤–Њ–µ–Љ —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–µ –њ–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –і–ї—П –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Х.–•. –Т–µ—Б—Б–µ–ї—М14 –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—А—Г–і–Є–є–љ—Л—Е —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤, –љ–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А—П –Њ –ї–∞—Д–µ—В–∞—Е ¬Ђ–њ—А–µ–ґ–љ–µ–є¬ї –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –і–∞—В—Г –Є—Е –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. ¬Ђ–Э—Л–љ–µ —Г –љ–∞—Б –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –і–≤–∞ —А–Њ–і–∞ –њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –ї–∞—Д–µ—В–Њ–≤: –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ, –≤–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –љ—Л–љ–µ—И–љ—П–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П (–≤ 1805) –Є –ї–∞—Д–µ—В—Л –љ–Њ–≤–∞–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ –≤ 1846 –≥–Њ–і—Г¬ї15.
–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –Є–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ, –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ –љ–∞—З–∞–≤—И—Г—О —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–Њ–≤—Г—О —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Б—В–∞–≤—И—Г—О –Њ–±—Й–µ–њ—А–Є–љ—П—В–Њ–є. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –µ–µ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї, –∞ —Г—З–µ–љ—Л–є-–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –Ї—Г—А—Б–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –љ–µ –≤–і–∞–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П.
–Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –і–ї—П –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞ –Х.–•. –Т–µ—Б—Б–µ–ї—П –Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є¬ї –і–∞—В—Л ¬Ђ1805 –≥–Њ–і¬ї, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–∞–ї —В–Є—В—Г–ї—М–љ—Л–є –ї–Є—Б—В –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–љ–Є—П 1817 –≥. ¬Ђ–І–µ—А—В–µ–ґ–µ–є –≤—Б–µ–Љ –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ –Є –±–∞—В–∞—А–µ–є–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–і–Є—П–Љ, –Є—Е –ї–∞—Д–µ—В–∞–Љ, –њ–µ—А–µ–і–Ї–∞–Љ, –Ј–∞—А—П–і–љ–Њ–Љ—Г —П—Й–Є–Ї—Г —Б –≥–љ–µ–Ј–і–∞–Љ–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤ –Є –≤—Б–µ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є¬ї16, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ –≥–Њ–і –Є—Е –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П вАУ 1805. –Э–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ—Г —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –Є –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–љ–Є—П —Н—В–Є—Е —З–µ—А—В–µ–ґ–µ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ –≥–Њ–і –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –љ–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є (—Б—А. —А–Є—Б. 1 –Є 2).
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —Г–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–µ —З–µ—А—В–µ–ґ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤—Л–Љ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Т –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е —З–µ—А—В–µ–ґ–µ–є –±—Л–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ—Л–Љ. –І—В–Њ–±—Л –Є—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є —Б—В–∞–ї–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є—Е —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ.






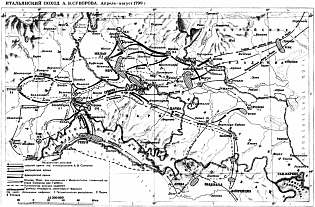



–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є