ąźąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ą▓ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĄ ą▓ ąśąĮą┤ąĖąĖ ą▓ 1500ŌĆō1800 ą│ąŠą┤ą░čģ, ąÜčāčĆąŠčćą║ąĖąĮ ąÉ.ą«. (ą£ąŠčüą║ą▓ą░)
ą£ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ążąĄą┤ąĄčĆą░čåąĖąĖ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąÉą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖčÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĮą░čāą║ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝čāąĘąĄą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ čüą▓čÅąĘąĖ ąÆąŠą╣ąĮą░ ąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąØąŠą▓čŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ąóčĆčāą┤čŗ ą¤čÅč鹊ą╣ ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖąĖ 14ŌĆō16 ą╝ą░čÅ 2014 ą│ąŠą┤ą░
ą¦ą░čüčéčī IIąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│
ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ 2014
┬® ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ, 2014
┬® ąÜąŠą╗ą╗ąĄą║čéąĖą▓ ą░ą▓č鹊čĆąŠą▓, 2014
ąĀąĢąōąśą×ąØ ąśąØąöąśąś ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗čüčÅ ą▓ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ XVIŌĆōXIX ą▓ą▓. ą▓ čüč乥čĆąĄ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ąĖąĮą┤ąŠ-ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ. ąóąĄčĆą╝ąĖąĮ ┬½ąĖąĮą┤ąŠ-ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ą░čÅ ą║čāą╗čīčéčāčĆą░┬╗, čāčüč鹊čÅą▓čłąĖą╣čüčÅ ą▓ ąĘą░čĆčāą▒ąĄąČąĮąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĄ, ąĮąĄ ąŠą▒ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮ ąĖ ą╝ą░ą╗ąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāąĄčéčüčÅ ą▓ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĄ. ąöą╗čÅ čåąĄą╗ąĄą╣ ąĮą░čüč鹊čÅčēąĄą╣ čüčéą░čéčīąĖ čŹč鹊čé č鹥čĆą╝ąĖąĮ ą▒čāą┤ąĄčé ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅčéčīčüčÅ ą▓ ąĄą│ąŠ čüą▓čÅąĘąĖ čü ą╝ąŠą│ąŠą╗čīčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆąŠą╣, ą║čāą╗čīčéčāčĆąŠą╣ ąöąĄą║ą░ąĮčüą║ąĖčģ ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║ąĖčģ čüčāą╗čéą░ąĮą░č鹊ą▓ ąĖ ą║čāą╗čīčéčāčĆąŠą╣ ą╝ą░čĆą░čéčģąŠą▓, ąĖčüą┐čŗčéą░ą▓čłąĖčģ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ą║ą░ą║ ą╝ąŠą│ąŠą╗ąŠą▓, čéą░ą║ ąĖ ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║ąĖčģ čüčāą╗čéą░ąĮą░č鹊ą▓ ą”ąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮąŠą╣ ąśąĮą┤ąĖąĖ. ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ą│ąĄąŠą│čĆą░čäąĖč湥čüą║ąĖąĄ čĆą░ą╝ą║ąĖ ą┤ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮčŗ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÅą╝ąĖ ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą╣, ąŚą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠą╣, ąÆąŠčüč鹊čćąĮąŠą╣ ąĖ ą”ąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮąŠą╣ ąśąĮą┤ąĖąĖ ą▓ č鹊ą╣ čćą░čüčéąĖ, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ąŠąĮąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ąŠą▓ą╗ąĄč湥ąĮčŗ ą▓ čüč乥čĆčā ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ąĖąĮą┤ąŠ-ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ.
ąźčĆąŠąĮąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ čĆą░ą╝ą║ąĖ čüčéą░čéčīąĖ ąŠą▒čāčüą╗ąŠą▓ą╗ąĄąĮčŗ ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ąŠą╝, ą▓ čüą▓ąŠčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅąĄą╝čŗą╝ ąĮą░ą╗ąĖčćąĖąĄą╝ ą┤ąŠčüč鹊ą▓ąĄčĆąĮčŗčģ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąĘąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓. ą¤ąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąĘąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓, ąĖą╗ą╗čÄčüčéčĆąĖčĆčāčÄčēąĖčģ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮčŗąĄ ąĖ čüąŠčåąĖą░ą╗čīąĮčŗąĄ (ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗąĄ) ą░čüą┐ąĄą║čéčŗ ąČąĖąĘąĮąĖ ą▓ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą▓ąĄą║ąŠą▓ąŠą╣ ąśąĮą┤ąĖąĖ, čüą▓čÅąĘą░ąĮąŠ čü ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ąĮąĖąĄą╝ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ąĖ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄą╝ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠą│ąŠ čÅąĘčŗą║ą░. ą×ą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖąĄ čģčĆąŠąĮąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ąŠą▒čāčüą╗ąŠą▓ą╗ąĄąĮąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝ čāą│ą░čüą░ąĮąĖčÅ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗčģ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║, ą▓čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĄ ą▓ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░ą┤ą╝ąĖąĮąĖčüčéčĆą░čåąĖąĄą╣ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēąĖčģ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖą╣ ąĖ ąĘą░ą┐čĆąĄč鹊ą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą┐ąŠą┤ą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĪąĖą┐ą░ą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮąĖčÅ ąĖ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĖčÅ ąĖą╝ąĖ ą▓ąŠ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮąĄ XIX ą▓. ąŠčéč湥čéą╗ąĖą▓ąŠ čĆą░ąĘą▓ą╗ąĄą║ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąĖ čäąĖąĘą║čāą╗čīčéčāčĆąĮąŠą│ąŠ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆą░.
ąØąĖ ą▓ ąĘą░čĆčāą▒ąĄąČąĮčŗčģ, ąĮąĖ ą▓ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ čĆą░ą▒ąŠčéą░čģ č鹥ą╝ą░ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ą▓ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĄ ą▓ čĆąĄą│ąĖąŠąĮąĄ ąĮąĄ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ą╗ą░čüčī. ąŁč鹊 ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ąĘą░ą╝ąĄčéąĮąŠ ąĮą░ č乊ąĮąĄ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░ čĆą░ą▒ąŠčé ą┐ąŠ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗą╝ ą┤čĆą░ą▓ąĖą┤čüą║ąĖą╝ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅą╝ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ ą▓ ą«ąČąĮąŠą╣ ąśąĮą┤ąĖąĖ1. ąÜ čüąŠąČą░ą╗ąĄąĮąĖčÄ, ą▓ čŹčéąĖčģ čĆą░ą▒ąŠčéą░čģ ą▓ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ ąĘą░čéčĆąŠąĮčāčéčŗ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčŗ čüąŠąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ ąĖ ąĖčģ ą▓ąŠčüčéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ąĮąĮąŠčüčéąĖ ą▓ čĆąĄą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĄ, ą░ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ čāą┤ąĄą╗ąĄąĮąŠ ąĮąĄąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą╝ąĄčüč鹊. ąÆ čüą╗čāčćą░ąĄ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ ąĪąĄą▓ąĄčĆąŠ-ąÆąŠčüč鹊čćąĮąŠą╣ ąśąĮą┤ąĖąĖ čüąĖčéčāą░čåąĖčÅ ąĖąĮą░čÅ ŌĆō ąŠą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░ąĮčŗ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ, ąŠčéčĆą░ąČą░čÄčēąĖąĄ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗąĄ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéčŗ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗčģ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░ ąĪąĄą▓ąĄčĆąŠ-ąÆąŠčüč鹊čćąĮąŠą╣ ąśąĮą┤ąĖąĖ ąĖ čüą▓čÅąĘą░ąĮąĮąŠą│ąŠ čü ąĮąĖą╝ąĖ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ2.
ąÆąŠąĘą▓čĆą░čēą░čÅčüčī ą║ čĆąĄą│ąĖąŠąĮčā, čÅą▓ą╗čÅčÄčēąĄą╝čāčüčÅ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄč鹊ą╝ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▓ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╣ čüčéą░čéčīąĄ, čüčĆąĄą┤ąĖ čĆą░ą▒ąŠčé, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čćą░čüčéąĖčćąĮąŠ ąĘą░čéčĆą░ą│ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą░čüą┐ąĄą║čéčŗ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ ąĖ čüą▓čÅąĘą░ąĮąĮąŠą│ąŠ čü ąĮąĖą╝ąĖ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ, ą▓ ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī, ąĮčāąČąĮąŠ ąŠčéą╝ąĄčéąĖčéčī čüą░ą╝čŗąĄ ą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ ąĖąĘ ąĮąĖčģ: Egerton, Lord of Tatton, Indian and Oriental Arms and Armour, London, 1896 ąĖ Irvine, W., The Army of the Indian Moghuls, London, 1903.
ąÆčüąĄ ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ, čāą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÄčēąĖąĄ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖąĄ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĖ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░, ąŠčüąĮąŠą▓čŗą▓ą░čÄčéčüčÅ ąĮą░ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅčģ ąĖąĘ ą┤ą▓čāčģ ąŠčĆąĖą│ąĖąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ čĆą░ą▒ąŠčé, ąŠ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą▒čāą┤ąĄčé čüą║ą░ąĘą░ąĮąŠ ąĮąĖąČąĄ. ą¤ąŠą║ą░ ąŠčéą╝ąĄčéąĖą╝ čüčĆąĄą┤ąĖ ą▓ą░ąČąĮąĄą╣čłąĖčģ ąĖ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖą╣ ą┐ąŠ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖą╝ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅą╝ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝ąŠą│ąŠ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░ čĆą░ą▒ąŠčéčā Kolff, Dirk H.A., Naukar, Rajput, and Sepoy: The Ethnohistory of the Military Labour Market of Hindustan, 1450ŌĆō1850, Cambridge University Press, 2002, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠčüčéčāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮ ąĖ ą┐čĆąŠąĖą╗ą╗čÄčüčéčĆąĖčĆąŠą▓ą░ąĮ č鹥ąĘąĖčü ąŠ ┬½ą║čĆąĄčüčéčīčÅąĮą░čģ-čüąŠą╗ą┤ą░čéą░čģ┬╗, čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮą░čÅ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ą░čÅ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ą░ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅą╗ą░ ąĖą╝ čüąŠą▓ą╝ąĄčēą░čéčī čéčĆčāą┤ ąĘąĄą╝ą╗ąĄą┤ąĄą╗čīčåą░ čü ąĘą░čĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ą╝ąĖ čüąŠą╗ą┤ą░čéą░-ąĮą░ąĄą╝ąĮąĖą║ą░. ąÆ čüą▒ąŠčĆąĮąĖą║ąĄ čüčéą░č鹥ą╣ Gommans, Jos J.L., Kolff, Dirk H.A., Warfare and Weaponry in South Asia 1000ŌĆō1800, Oxford University Press India, 2003, ą┐ąŠą╝ąĖą╝ąŠ ąŠą▒čēąĖčģ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖą╣ ąŠ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéąĖ ą▓ čĆąĄą│ąĖąŠąĮąĄ ąĖ čüą▓čÅąĘą░ąĮąĮčŗčģ čü ąĮąĄą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮčŗčģ ąĖ čüąŠčåąĖą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖą╣, čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ąŠčéą╝ąĄčéąĖčéčī čüčéą░čéčīčÄ Orr, W.G., Armed Religious Ascetics in Northern India, čüąŠą┤ąĄčƹȹ░čēčāčÄ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąŠ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĄ ą░čüą║ąĄč鹊ą▓ ąĖ ąĖčģ ąĮą░ąĄą╝ąĮąĖč湥čüą║ąŠą╣ čüą╗čāąČą▒ąĄ. ąóą░ą║ąČąĄ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ąŠčéą╝ąĄčéąĖčéčī čāą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĮąĖąĄ ąŠ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĄ ą▓ ąśąĮą┤ąĖąĖ ą▒ąĄąĘ čāą║ą░ąĘą░ąĮąĖčÅ ą╗ąŠą║ą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░ (ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą╗ąĄą│ą║ąŠ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖčéčī, ąĘąĮą░čÅ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ čŹčéąĖčģ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖą╣) ą▓ ą║ąĮąĖą│ąĄ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ąĮąĮąŠą│ąŠ 菹║čüą┐ąĄčĆčéą░ ą┐ąŠ ą░ąĘąĖą░čéčüą║ąĖą╝ ą▒ąŠąĄą▓čŗą╝ ąĖčüą║čāčüčüčéą▓ą░ą╝ ąö. ąöčĆ菹│ąĄčĆą░ (Draeger, Donn F., Smith, Robert W., Comprehensive Asian Fighting Arts, Kodansha International, 1980.
ąöą▓ąĄ ąŠčĆąĖą│ąĖąĮą░ą╗čīąĮčŗąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ, ąĖąĘ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ č湥čĆą┐ą░čÄčé čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą░ą▓č鹊čĆčŗ, čŹč鹊: Sharar, Ablul Halim, Lucknow: the last phase of an oriental culture, Oxford University Press, 1994 ąĖ Mujumdar, D.C. ed., Encyclopedia of Indian physical culture, Baroda: Good Companions, 1950. ą¤ąĄčĆą▓ą░čÅ ąĖąĘ čāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗčģ čĆą░ą▒ąŠčé ąĮą░ą┐ąĖčüą░ąĮą░ ąĖčüč鹊čĆąĖą║ąŠą╝ ąĖ ą┐ąĖčüą░č鹥ą╗ąĄą╝ ąÉą▒ą┤čāą╗ ąźą░ą╗ąĖą╝ ą©ą░čĆą░čĆąŠą╝ (1860ŌĆō1926), ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ą▓ ąøą░ą║čģąĮą░čā ąĮą░ čüčéčŗą║ąĄ XIX ąĖ XX ą▓ą▓. ąÜ čŹč鹊ą╝čā ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ą▓ ąøą░ą║čģąĮą░čā čāąČąĄ ąĮąĄ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ąĮąĖą║ą░ą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║, ąĖ ą©ą░čĆą░čĆ čü čéčĆčāą┤ąŠą╝ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ ą║ąŠą│ąŠ-ą╗ąĖą▒ąŠ, ą║č鹊 ą╝ąŠą│ ą┐čĆąŠą╗ąĖčéčī čüą▓ąĄčé ąĮą░ čŹč鹊čé ą▓ąŠą┐čĆąŠčü. ąóąĄą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ, ąĄą╝čā čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī ą┐ąŠą╗čāčćąĖčéčī čāąĮąĖą║ą░ą╗čīąĮčŗąĄ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ąŠčé ą┐ąŠč鹊ą╝ą║ąŠą▓ ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆąŠą┤ąŠą▓, ą┐ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖčÅ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖčÅ čŹčéąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║. ąÆč鹊čĆąŠą╣ čéčĆčāą┤ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé čüąŠą▒ąŠą╣ ą░ąĮą│ą╗ąŠčÅąĘčŗčćąĮčŗą╣ čüąĖąĮąŠą┐čüąĖčü 菹ĮčåąĖą║ą╗ąŠą┐ąĄą┤ąĖąĖ ąĮą░ čÅąĘčŗą║ąĄ ą╝ą░čĆą░čéčģąĖ ąĖ, ą║ą░ą║ ąĮąĄčéčĆčāą┤ąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄą╝ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║, čüąŠčģčĆą░ąĮčÅą▓čłąĖčģčüčÅ ą▓ ą╝ą░čĆą░čéčģčüą║ąŠą╣ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĖ.
ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐ąŠą╗ąĮčŗąĄ ąĖ ąĖąĮč乊čĆą╝ą░čéąĖą▓ąĮčŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖą╝ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ą░ą╝ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░ ąĮą░ čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅčłąĮąĖą╣ ą┤ąĄąĮčī ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ą▓ ą┤ąĖčüčüąĄčĆčéą░čåąĖąĖ Andrew de la Garza, Mughals at War: Babur, Akbar and the Indian Military Revolution, 1500ŌĆō1605, The Ohio State University, 2010 ąĖ ą▓ čüčéą░čéčīąĄ ą┐čĆąŠč乥čüčüąŠčĆą░ ą×ą║čüč乊čĆą┤čüą║ąŠą│ąŠ čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥čéą░ OŌĆÖHanlon, Rosalind, Military Sports and the History of the Martial Body in India, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 2007. ąØąŠ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčŗ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ąĖ ąĄą│ąŠ ą╝ąĄčüčéą░ ą▓ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ą░čģ ą▓ čŹčéąĖčģ čĆą░ą▒ąŠčéą░čģ ąĮąĄ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī. ąØą░ą┐čĆąŠčéąĖą▓, Rosalind OŌĆÖHanlon ą▓čüą╗ąĄą┤ ąĘą░ Gommans ąĖ Kolff ąĘą░ą╝ąĄčćą░ąĄčé, čćč鹊, ąĮąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ ą│ą╗čāą▒ąŠą║ąĖąĄ ąĖ, ą▒ąĄąĘčāčüą╗ąŠą▓ąĮąŠ, čåąĄąĮąĮčŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ ąĖčüą║čāčüčüčéą▓ą░ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ, čŹčéąĖ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĄčēąĄ ąĮąĄ ąĖąĮč鹥ą│čĆąĖčĆąŠą▓ą░ąĮčŗ ą▓ čüąŠčåąĖą░ą╗čīąĮčāčÄ ąĖčüč鹊čĆąĖčÄ. ąöą░ąČąĄ ą▓ čāąĘą║ąŠą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ ąĮąĄ ąĖąĘčāč湥ąĮ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü, ą║ą░ą║ąĖą╝ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ č鹥 čäąĖąĘąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĮą░ą▓čŗą║ąĖ ąĖ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą┤ą╗čÅ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗčģ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ. ąÜą░ą║ č乊čĆą╝ą░ ąĖ ą▓ąĖą┤ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ąŠą▒čāčüą╗ą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĖčÅ ą▓ čüą┐ąŠčüąŠą▒ą░čģ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ? ąÆ ą║ą░ą║ąĖčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ąĖ čĆą░ą╝ą║ą░čģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī čŹčéąĖ čāą╝ąĄąĮąĖčÅ?3
ą”ąĄą╗čīčÄ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╣ čüčéą░čéčīąĖ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ą░ ą║ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖčÄ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗčģ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░ ąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą▓čłąĄą│ąŠčüčÅ ą▓ ąĮąĖčģ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ.
ąÆ ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ ą▓ą▓ąĄčüčéąĖ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčāčÄ ąĮąŠą▓ą░čåąĖčÄ ąĖ ą┤ąĖčäč乥čĆąĄąĮčåąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖąĄ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĖ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░. ąĀą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĮąŠąĄ ą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠ ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ą╝ ąĮą░čćąĖąĮą░čÅ čü ą▓ąĄą┤ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮ, ą░ą┐ąĄą╗ą╗čÅčåąĖąĖ ą║ ą║ą╗ą░čüčüąĖč湥čüą║ąĖą╝ č鹥ą║čüčéą░ą╝ ąĖ ą║ą░čüč鹥 ą║čłą░čéčĆąĖąĄą▓ ą╝ąŠą│čāčé ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčéčī ąĖąĮč鹥čĆąĄčü č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ čåąĄą╗čÅčģ ą┐ąŠą┐čāą╗čÅčĆąĖąĘą░čåąĖąĖ ąĘąĮą░ąĮąĖą╣ ąŠą▒ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĄ ą▓ čåąĄą╗ąŠą╝. ąØą░ą╗ąĖčćąĖąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čĆą░ąĘčĆčŗą▓ą░ ąĖ, ą│ą╗ą░ą▓ąĮąŠąĄ, č鹥 čüąŠčåąĖą░ą╗čīąĮčŗąĄ ąĖ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮčŗąĄ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ ąĮą░ ą┐čĆąŠčéčÅąČąĄąĮąĖąĖ ą╝ąĮąŠą│ąŠą▓ąĄą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ą▒čŗą╗ą░ ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčƹȹĄąĮą░ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÅ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝ąŠą│ąŠ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░, ą▓ ąŠčéą╗ąĖčćąĖąĄ ąŠčé ą«ąČąĮąŠą╣ ąśąĮą┤ąĖąĖ ąĖ ą┤čĆą░ą▓ąĖą┤čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ, ąĮąĄ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅčÄčé čāą▒ąĄą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ąŠ ą║ą░ą║ąŠą╣-ą╗ąĖą▒ąŠ ą┐čĆąĄąĄą╝čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ. ąĪčāčēąĄčüčéą▓čāčÄčēą░čÅ ąŠą┤ąĮąŠčüč鹊čĆąŠąĮąĮąŠčüčéčī ą▓ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĖ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░, ąŠą▒čāčüą╗ąŠą▓ą╗ąĄąĮąĮą░čÅ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąŠą╝ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗčģ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓, ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖčé ą║ ąĖčģ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖčÄ ą║ą░ą║ ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║ąĖčģ (ą╝ąŠą│ąŠą╗čīčüą║ąĖčģ ąĖ čüčāą╗čéą░ąĮą░čéčüą║ąĖčģ) ąĖą╗ąĖ ą░ą┤ą░ą┐čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ą║ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą╣ čäąĖąĘąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĄ ą╝ą░čĆą░čéčģčüą║ąĖčģ4.
ą£čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║ą░čÅ čŹą║čüą┐ą░ąĮčüąĖčÅ, ąĮą░čćą░ą▓čłą░čÅčüčÅ ą▓ VIIŌĆōVIII ą▓ą▓. ą░čĆą░ą▒čüą║ąĖą╝ąĖ ą▓č鹊čƹȹĄąĮąĖčÅą╝ąĖ ąĖ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĄąĮąĮą░čÅ ą▓ XI ą▓. čéčÄčĆą║čüą║ąĖą╝ąĖ ąĘą░ą▓ąŠąĄą▓ą░č鹥ą╗čÅą╝ąĖ, ąŠąĘąĮą░ą╝ąĄąĮąŠą▓ą░ą╗ą░čüčī ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XIII ą▓. čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖąĄą╝ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą│ąŠ ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąĮą░ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąśąĮą┤ąĖąĖ. ąĪ čŹčéąĖą╝ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ąŠą╝ čüąŠą▓ą┐ą░ą┤ą░ąĄčé ą▓ąŠąĘčĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ąĖčĆą░ąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ąĖ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠą│ąŠ čÅąĘčŗą║ą░. ą¤ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠąĄ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮąŠąĄ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčÅąĄčéčüčÅ ą▓ąŠ ą▓čüąĄą╝ ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║ąŠą╝ ą╝ąĖčĆąĄ. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮąĄ, ą▓ ąŠčéą╗ąĖčćąĖąĄ ąŠčé ą┤čĆčāą│ąĖčģ ąĘą░ą▓ąŠąĄą▓ą░č鹥ą╗ąĄą╣, ąĮąĄ čĆą░čüčéą▓ąŠčĆčÅą╗ąĖčüčī ą▓ ą┐ąŠą║ąŠčĆąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖą╝ąĖ čüčéčĆą░ąĮąĄ, ą░ ą┐čĆąĖąĮąŠčüąĖą╗ąĖ čü čüąŠą▒ąŠą╣ čüą▓ąŠąĄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠąĄ čāčüčéčĆąŠą╣čüčéą▓ąŠ, ąŠą▒čĆą░ąĘ ąČąĖąĘąĮąĖ, ą║čāą╗čīčéčāčĆčā ąĖ čüąŠčåąĖą░ą╗čīąĮčŗąĄ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅ. ąĪ čāč湥č鹊ą╝ ą▓čüąĄčģ čäą░ą║č鹊čĆąŠą▓ ą║ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéčā ą╝ąŠą│ąŠą╗čīčüą║ąŠą│ąŠ ą▓č鹊čƹȹĄąĮąĖčÅ ą▓ ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą╣ ąśąĮą┤ąĖąĖ ą▒čŗą╗ąĖ čüč乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮčŗ ą▓čüąĄ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠčüčŗą╗ą║ąĖ ą┤ą╗čÅ ą▓ąŠčüą┐čĆąĖčÅčéąĖčÅ ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ą▓ąŠ ą▓čüąĄčģ ąŠą▒ą╗ą░čüčéčÅčģ ąČąĖąĘąĮąĖ. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ą▓ąĘą░ąĖą╝ąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ą║čāą╗čīčéčāčĆ ąĮąĄ ąĮąŠčüąĖą╗ąŠ čüčéčĆąŠą│ąŠ ąŠą┤ąĮąŠčüč鹊čĆąŠąĮąĮąĖą╣ ąĖ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗą╣ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆ. ą¤čĆąĖąĮčÅčéąĖąĄ ą╝ąĮąŠą│ąĖčģ čÅą▓ą╗ąĄąĮąĖą╣ ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗ąŠ ąĘą░ čüč湥čé ąĘą░ą╝ąĄčēąĄąĮąĖčÅ ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖčćąĮčŗčģ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĖą╗ąĖ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą║ąŠą╝ą┐čĆąŠą╝ąĖčüčüą░, ą║ą░ą║ ą▓ čüą╗čāčćą░ąĄ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖčÅ čÅąĘčŗą║ą░ čāčĆą┤čā, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖč湥čüą║ąĖ čüąŠč湥čéą░ą╗ąĖčüčī 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéčŗ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąĖčģ ą┤ąĖą░ą╗ąĄą║č鹊ą▓ čü ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąĖą╝ čÅąĘčŗą║ąŠą╝. ąÆ čüą╗čāčćą░ąĄ ąĘą░ą╝ąĄčēąĄąĮąĖčÅ ą░ą▓č鹊čģč鹊ąĮąĮčŗčģ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąĖčģ č乥ąĮąŠą╝ąĄąĮąŠą▓ ą┐čĆąĖą▓ąĮąĄčüąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąĖą╝ąĖ, ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖąĄ ąĮą░čćąĖąĮą░ą╗ąĖ ą▓ąŠčüą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░čéčīčüčÅ čü č鹥č湥ąĮąĖąĄą╝ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ą║ą░ą║ ąĖčüą║ąŠąĮąĮąŠ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąĖąĄ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ ą▓ čüąĖą╗čā čüčģąŠąČąĄčüčéąĖ ąĖ ą┤ą░ąČąĄ ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖčćąĮąŠčüčéąĖ čŹčéąĖčģ č乥ąĮąŠą╝ąĄąĮąŠą▓. ąÆąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, čćč鹊 ą▓ čĆčÅą┤ąĄ čüą╗čāčćą░ąĄą▓ ąĖą╝ąĄą╗ąŠ ą╝ąĄčüč鹊 ąĘą░ą╝ąĄčēąĄąĮąĖąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąĮą░ąĘą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖą╗ąĖ č鹥čĆą╝ąĖąĮą░ ą▓ čüąĖą╗čā ą│ąŠčüą┐ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą╗ąĖč鹥čĆą░čéčāčĆąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠą│ąŠ čÅąĘčŗą║ą░ ąĖ ą┤ąŠčłąĄą┤čłąĖčģ ą┤ąŠ ąĮą░čłąĄą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ č鹥ą║čüč鹊ą▓.
ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ą▓ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝ąŠą╝ čĆąĄą│ąĖąŠąĮąĄ ąśąĮą┤ąĖąĖ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĖ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ąĖą╝ąĄčéčī čüą╗ąŠąČąĮąŠčüąŠčüčéą░ą▓ąĮąŠą╣ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆ. ąŁč鹊čé čĆąĄą│ąĖąŠąĮ čÅą▓ą╗čÅą╗čüčÅ čüą▓ąŠąĄąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗą╝ ą║ąŠčĆąĖą┤ąŠčĆąŠą╝, č湥čĆąĄąĘ ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą▓ ąśąĮą┤ąĖčÄ ą┐čĆąŠąĮąĖą║ą░ą╗ąĖ ą▓čüąĄ ąĮąŠą▓čŗąĄ ąĖ ąĮąŠą▓čŗąĄ ąĘą░čģą▓ą░čéčćąĖą║ąĖ, ą┐čĆąĖąĮąŠčüčÅ čü čüąŠą▒ąŠą╣ čüą▓ąŠčÄ ą║čāą╗čīčéčāčĆčā ąĖ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĖ, čü ąŠą┤ąĮąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, ą░ čü ą┤čĆčāą│ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ čŹč鹊čé čĆąĄą│ąĖąŠąĮ čüčéą░ą╗ ą┐ą╗ą░ą▓ąĖą╗čīąĮčŗą╝ ą║ąŠčéą╗ąŠą╝, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ čüą╝ąĄčłąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗąĄ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĖ, ąŠčéčüąĄąĖą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĮąĄąČąĖąĘąĮąĄčüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠąĄ ąĖ čüąŠčģčĆą░ąĮčÅą╗ąŠčüčī ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐čĆą░ą║čéąĖčćąĮąŠąĄ ąĖ ą▓ąŠčüčéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ąĮąĮąŠąĄ. ąÆ čüąĖą╗čā čāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗčģ ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ ą▓ ąĮą░čüč鹊čÅčēąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ č鹊čćąĮąŠ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖčéčī, ą║ą░ą║ąĖąĄ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĖ ąĖą╝ąĄčÄčé ą░ą▓č鹊čģč鹊ąĮąĮąŠąĄ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąŠąĄ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ, ą║ą░ą║ąĖąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąĖą▓ąĮąĄčüąĄąĮčŗ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĖą╝ąĖ ąĘą░ą▓ąŠąĄą▓ą░č鹥ą╗čÅą╝ąĖ, ą░ ą║ą░ą║ąĖąĄ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą╗ąĖ ą║ą░ą║ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čé 菹║ą╗ąĄą║čéąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čüąŠąĄą┤ąĖąĮąĄąĮąĖčÅ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖą╣. ąÜą░ą║ą░čÅ-ą╗ąĖą▒ąŠ ą┤ąĖčäč乥čĆąĄąĮčåąĖą░čåąĖčÅ, ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ą░čÅ ą┤ą╗čÅ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖčÅ ąĖ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖą╣ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ ą▓ čĆąĄą│ąĖąŠąĮąĄ, ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī ą┐čĆąŠčüą╗ąĄąČąĄąĮą░ ą┐ąŠ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╝ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖą╝.
ą×čüąĮąŠą▓ąĮą░čÅ ą╗ąĖąĮąĖčÅ, ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ čģąŠčĆąŠčłąŠ ąĘą░ą┤ąŠą║čāą╝ąĄąĮčéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮą░čÅ ą▓ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąĘąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░čģ ąĖ, ą▓čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĄ čŹč鹊ą│ąŠ, ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮą░čÅ, ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé čüąŠą▒ąŠą╣ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĖ, ą▓ąŠčüčģąŠą┤čÅčēąĖąĄ ą║ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅą╝ ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║ąŠą╣ ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéąĖąĖ. ąŁčéąĖą╝ ąĖčüą║čāčüčüčéą▓ąŠą╝ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖčüčī ą┤ą░ąČąĄ ą▓čŗčüčłąĖąĄ ą╗ąĖčåą░ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ ąĖą╗ąĖ ąŠąĮąĖ ąĮąĄą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ą┐ąŠą║čĆąŠą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą╗čāčćčłąĖą╝ ą▒ąŠą╣čåą░ą╝. ąöąČą░čģą░ąĮą│ąĖčĆ, č湥čéą▓ąĄčĆčéčŗą╣ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čī ą┤ąĖąĮą░čüčéąĖąĖ ąÆąĄą╗ąĖą║ąĖčģ ą£ąŠą│ąŠą╗ąŠą▓, ą▓ čüą▓ąŠąĖčģ ą╝ąĄą╝čāą░čĆą░čģ ąĮąĄąŠą┤ąĮąŠą║čĆą░čéąĮąŠ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčé ąĮą░ čüą▓ąŠą╣ ąĖąĮč鹥čĆąĄčü ąĖ ą┐ąŠą║čĆąŠą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ą▓ąĄą┤čāčēąĖą╝ ą▒ąŠčĆčåą░ą╝ ąĖ č乥čģč鹊ą▓ą░ą╗čīčēąĖą║ą░ą╝, čā ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ąŠąĮ ą▒čĆą░ą╗ čāčĆąŠą║ąĖ5.
ąæą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠą╝čā ąĖčüč鹊čĆąĖą║čā ą£čāčģą░ą╝ą╝ą░ą┤čā ąÜą░ąĘąĖą╝ ąźąĖąĮą┤čā ą©ą░čģ, čüą╗čāąČąĖą▓čłąĄą╝čā ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ XVI ą▓. ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮąŠą╝ ąŠčģčĆą░ąĮčŗ ą┐čĆąĖ ąÉčģą╝ą░ą┤ąĮą░ą│ą░čĆčüą║ąŠą╝ ą┤ą▓ąŠčĆąĄ, ą░ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄąĄ ąČąĖą▓čłąĄą╝čā ą┐čĆąĖ ąæąĖą┤ąČą░ą┐čāčĆčüą║ąŠą╝ ą┤ą▓ąŠčĆąĄ, ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠ, čćč鹊 ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖąĄ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ čłąĖčĆąŠą║ąŠ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮčŗ ąĄčēąĄ ą▓ ąæą░čģą╝ą░ąĮąĖą┤čüą║ąŠą╝ čüčāą╗čéą░ąĮą░č鹥. ą¤ąŠčüą╗ąĄ ąĄą│ąŠ čĆą░čüą┐ą░ą┤ą░ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XVI ą▓. ąŠąĮąĖ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĮąĄ čāą│ą░čüą╗ąĖ, ąĮąŠ ąĖ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ąĖ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čłąĖčĆąŠą║ąŠąĄ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄ ą▓ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ą▓čłąĖčģčüčÅ ąĮą░ ąĄą│ąŠ čĆą░ąĘą▓ą░ą╗ąĖąĮą░čģ ąöąĄą║ą░ąĮčüą║ąĖčģ čüčāą╗čéą░ąĮą░čéą░čģ. ąæčāčĆčģą░ą╝ ąØąĖąĘą░ą╝ ą©ą░čģ I, ą▒čāą┤čāčćąĖ ą┐čĆąĖąĮčåąĄą╝ ąÉčģą╝ą░ą┤ąĮą░ą│ą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ čüčāą╗čéą░ąĮą░čéą░, čüą░ą╝ ą▒čŗą╗ čāą▓ą╗ąĄč湥ąĮ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖą╝ąĖ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ą░ą╝ąĖ ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąŠąĄ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ čāą┤ąĄą╗čÅą╗ čŹčéąĖą╝ ąĘą░ąĮčÅčéąĖčÅą╝. ąĪąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ, čćč鹊 čŹč鹊 ą┐ąŠčĆąŠą┤ąĖą╗ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąŠčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗ąĄą╣ ąĖ ą┐ąŠą┤čĆą░ąČą░č鹥ą╗ąĄą╣ ąĖ ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ąŠ ą║ č鹊ą╝čā, čćč鹊 ą▓ ąÉčģą╝ą░ą┤ąĮą░ą│ą░čĆąĄ ą▓ ą║ą░ąČą┤ąŠą╝ ą║ą▓ą░čĆčéą░ą╗ąĄ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗ąĖčüčī čłą║ąŠą╗čŗ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ąĖčüą║čāčüčüčéą▓, ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čĆą░ą▓ąĮčÅą╗ąŠčüčī, ąĄčüą╗ąĖ ąĮąĄ ą┐čĆąĄą▓čŗčłą░ą╗ąŠ, čćąĖčüą╗ąŠ ą╝ąĄą┤čĆąĄčüąĄ6.
ąśąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗąĄ č乥čģč鹊ą▓ą░ą╗čīčēąĖą║ąĖ ąĖ ą▒ąŠčĆčåčŗ ą┐čāč鹥賹Ąčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą┐ąŠ čüčéčĆą░ąĮąĄ, ą┐čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░čÅ čüą▓ąŠąĖ čāčüą╗čāą│ąĖ ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ąĮą░čüčéą░ą▓ąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐čĆąĖ ą┤ą▓ąŠčĆą░čģ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗ąĄą╣, ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠčćąĖčéą░ą╗ąĖ ąĮąĄ ą▒čĆą░čéčī čāč湥ąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖąĘ ą┐čĆąŠčüč鹊ą│ąŠ ąĮą░čĆąŠą┤ą░. ąśčģ čåąĄą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čāą┤ąĖč鹊čĆąĖąĄą╣ ą▒čŗą╗ąĖ ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéčŗ ąĖ, ą▓ ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī, ąĖčģ čüčŗąĮąŠą▓čīčÅ, ą▓ąŠčüą┐ąĖčéą░ąĮąĖąĄ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗ąŠ ą▓ ą┤ą▓čāčģ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗčģ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅčģ ┬½ą┐ąĄčĆą░ ąĖ ą╝ąĄčćą░┬╗. ą£ą░čüč鹥čĆą░ čéą░ą║ąČąĄ ą┐čĆąĖą▓ą╗ąĄą║ą░ą╗ąĖčüčī ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ ąĖ čéčĆąĄąĮąĖčĆąŠą▓ą║ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║. ąÆ ą░čĆą╝ąĖąĖ ą╝ąŠą│ąŠą╗ąŠą▓ ąĮąĄ čāą┤ąĄą╗čÅą╗ąŠčüčī ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ čéą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą╝čā ą▓ąĘą░ąĖą╝ąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÄ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖą╣ ąĮą░ ą┐ąŠą╗ąĄ ą▒ąŠčÅ, ąĘą░č鹊 ą╝ąĮąŠą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ čāą┤ąĄą╗čÅą╗ąŠčüčī čäąĖąĘąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĄ č鹥ą╗ą░ ąĖ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤čāą░ą╗čīąĮąŠą╝čā ą▓ą╗ą░ą┤ąĄąĮąĖčÄ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗą╝ąĖ ą▓ąĖą┤ą░ą╝ąĖ ąŠčĆčāąČąĖčÅ. ąśą╝ąĄąĮąĮąŠ čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝čŗąĄ č鹥čģąĮąĖą║ąĖ ą┐čĆąŠąĮąĖą║ą╗ąĖ ą▓ čüąŠą╗ą┤ą░čéčüą║čāčÄ ąĖ ą┤ą░ą╗ąĄąĄ ą▓ ąĮą░čĆąŠą┤ąĮčāčÄ čüčĆąĄą┤čā. ąĪąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝, čü ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄą╝ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąŠą▓ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąĖ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ ą║ ąĮąĄą╣, ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą▒ąŠąĄą▓čŗąĄ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĖ ą┐čĆąĄą║čĆą░čéąĖą╗ąĖ čüą▓ąŠąĄ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ.
ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, čāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčāčÄ ą╗ąĖąĮąĖčÄ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠą▒ąŠąĘąĮą░čćąĖčéčī ą║ą░ą║ 菹╗ąĖčéąĮčāčÄ, ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéąĖč湥čüą║čāčÄ, ą│ąŠčĆąŠą┤čüą║čāčÄ, ąĖą╗ąĖ čāčüą╗ąŠą▓ąĮąŠ
┬½ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║čāčÄ┬╗ ąĖą╗ąĖ ┬½ą╝ąŠą│ąŠą╗čīčüą║čāčÄ┬╗, ą░ą┐ąĄą╗ą╗ąĖčĆčāčÅ ą▓ ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī ą║ ąĖąĮą┤ąŠ-ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮąŠą╣ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĄą╣. ąŻčćąĖčéčŗą▓ą░čÅ, čćč鹊 čüčāą╗čéą░ąĮą░čéčŗ ąöąĄą║ą░ąĮą░ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą╗ąĖ ąĮą░ ąŠą▒ą╗ąŠą╝ą║ą░čģ ąöąĄą╗ąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čüčāą╗čéą░ąĮą░čéą░, ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┤ąŠą┐čāčüčéąĖčéčī, čćč鹊 čŹč鹊 ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĖ, ą┐čĆąĖą▓ąĮąĄčüąĄąĮąĮčŗąĄ ąĘą░ą▓ąŠąĄą▓ą░č鹥ą╗čÅą╝ąĖ ąĄčēąĄ ą▓ XIII ą▓. ąĖ ąĖą╝ąĄą▓čłąĖąĄ ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠąĄ ąĖą╗ąĖ čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮąŠą░ąĘąĖą░čéčüą║ąŠąĄ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ. ąóą░ą║ąČąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé ą┐čĆą░ą▓ąŠ ąĮą░ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ, čćč鹊 čŹčéąĖ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĖ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ čćąĖčüč鹊 ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠąĄ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ąĖ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčüčī ą┐ąŠ ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║ąŠą╝čā ą╝ąĖčĆčā ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ čü čĆąŠčüč鹊ą╝ ąŠą▒čēąĄą│ąŠ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ7. ąØąŠ ą┤ą░ąČąĄ čü čāč湥č鹊ą╝ čŹč鹊ą│ąŠ ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░čéčī čŹč鹊 čÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą║ą░ą║ čćąĖčüč鹊 ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠąĄ ąĮąĄ ą║ąŠčĆčĆąĄą║čéąĮąŠ. ąśą╝ąĄčÅ ąĖčĆą░ąĮčüą║ąĖąĄ ą║ąŠčĆąĮąĖ, čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ čŹč鹊ą╣ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĖ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗ąŠ ą▓ ąŠčéčĆčŗą▓ąĄ ąŠčé ą╝ą░č鹥čĆąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ąĖ, ą▒ąĄąĘčāčüą╗ąŠą▓ąĮąŠ, ąĖčüą┐čŗčéčŗą▓ą░ą╗ąŠ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ąŠą║čĆčāąČąĄąĮąĖčÅ8. ą×ą▒ čŹč鹊ą╝ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāąĄčé ąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą▓ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ą░čģ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąŠą╣ č鹥čĆą╝ąĖąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ąĮą░čĆčÅą┤čā čü ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠą╣, ą║ą░ą║ ą▓ čāčüčéąĮąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĄ, čéą░ą║ ąĖ ą▓ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠą╣9.
ą¤čĆąĖąĮąĖą╝ą░čÅ ą▓ąŠ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĄ ą▓čŗčłąĄčāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗąĄ čäą░ą║č鹊čĆčŗ, ą▓ č鹊 ąČąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ čāčćąĖčéčŗą▓ą░čéčī, čćč鹊 ąĮąĄą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮą░čÅ ą║ąŠčĆčĆąĄą╗čÅčåąĖčÅ čü ą┤ąŠčüč鹊ą▓ąĄčĆąĮąŠ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅąĄą╝čŗą╝ąĖ ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąĖą╝ąĖ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ą░ą╝ąĖ ąĮąĄ ą┐čĆąŠčüą╗ąĄąČąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ, ąĘą░ ąĖčüą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄą╝ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą╝ąĄč鹊ą┤ąĖą║ąĖ čüąĖą╗ąŠą▓ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ ą▒ąŠčĆčåąŠą▓10.
ąÆč鹊čĆą░čÅ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčēą░čÅ, ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąŠčüą╗ąĄą┤ąĖčéčī ą┐ąŠ ą┤ąŠčüč鹊ą▓ąĄčĆąĮčŗą╝ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░ą╝, ą▓ąŠą┐čĆąĄą║ąĖ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╝čā ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÄ, ąĮąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé čćąĖčüč鹊 ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ. ąÆ ąĮą░čüč鹊čÅčēąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čüčāčēąĄčüčéą▓čāčÄčé ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čüą▓ąŠą┤čÅčéčüčÅ ą▓ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝ ą║ č湥čéčŗčĆąĄą╝ ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗą╝: ą╝ą░čĆą░čéčģčüą║ąŠąĄ, čĆą░ą┤ąČą┐čāčéčüą║ąŠąĄ, čüąĖą║čģčüą║ąŠąĄ ąĖ ą▒ąĄąĮą│ą░ą╗čīčüą║ąŠąĄ. ą¤ąŠ čüčāčéąĖ, čŹč鹊 ąĄą┤ąĖąĮą░čÅ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅ, ąŠą▒čÅąĘą░ąĮąĮą░čÅ čüą▓ąŠąĖą╝ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄą╝ čüąĖąĮč鹥ąĘčā ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║ąŠą╣ ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéąĖąĖ čü ą░ą▓č鹊čģč鹊ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┤čĆą░ą▓ąĖą┤čüą║ąĖą╝ąĖ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ą░ą╝ąĖ. ąĀą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĖą╝, ą║ą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ąĖ ą▓ ą║ą░ą║ąĖčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ą╝ąŠą│ ą┐čĆąŠąĖąĘąŠą╣čéąĖ čéą░ą║ąŠą╣ čüąĖąĮč鹥ąĘ.
ą×ą┤ąĮąĖą╝ ąĖąĘ čüčāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ čäą░ą║č鹊čĆąŠą▓ čÅą▓ą╗čÅą╗ą░čüčī čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮą░čÅ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ą░ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąĮą░ą▒ąŠčĆą░ čĆąĄą║čĆčāč鹊ą▓ ą▓ ą░čĆą╝ąĖąĖ ą╝ąŠą│ąŠą╗ąŠą▓, ąæčĆąĖčéą░ąĮčüą║ąŠą╣ ą×čüčéąśąĮą┤čüą║ąŠą╣ ą║ąŠą╝ą┐ą░ąĮąĖąĖ, ą░ ąĘą░č鹥ą╝ ąĖ ą▓ ą▒čĆąĖčéą░ąĮčüą║čāčÄ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║čāčÄ ą░čĆą╝ąĖčÄ ąĮą░ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗčģ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÅčģ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▓ čåąĄą╗ąŠą╝ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčé ą│čĆą░ąĮąĖčåą░ą╝ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝ąŠą│ąŠ ą▓ čüčéą░čéčīąĄ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░11. ąś ąĄčüą╗ąĖ ą▓ ą░čĆą╝ąĖąĖ ą╝ąŠą│ąŠą╗ąŠą▓ čćą░čüč鹊 čüą╗čāąČąĖą╗ąĖ ąĮą░ąĄą╝ąĮčŗąĄ ąŠčéčĆčÅą┤čŗ čüąŠ čüą▓ąŠąĖą╝ąĖ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆą░ą╝ąĖ, ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝ ąĖ ą╝ąĄč鹊ą┤ą░ą╝ąĖ ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ, č鹊 ą▓ ą░čĆą╝ąĖąĖ ą×čüčé-ąśąĮą┤čüą║ąŠą╣ ą║ąŠą╝ą┐ą░ąĮąĖąĖ ąĖ ą▒čĆąĖčéą░ąĮčüą║ąŠą╣ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ą▒čŗą╗ąŠ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠ čĆąĄą╗ąĖą│ąĖąŠąĘąĮąŠą╝čā ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║čā. ąØąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ č鹊 čćč鹊 ąĮą░čćąĖąĮą░čÅ čü XVIII ą▓. čüąĖą┐ą░ąĖ ą┐čĆąŠčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮčāčÄ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║čā čāąČąĄ ą┐ąŠ ąĄą▓čĆąŠą┐ąĄą╣čüą║ąĖą╝ čüčéą░ąĮą┤ą░čĆčéą░ą╝, ą┐čĆąĖą▓čŗčćąĮą░čÅ ą┤ą╗čÅ ąĮąĖčģ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤čāą░ą╗čīąĮą░čÅ čäąĖąĘąĖč湥čüą║ą░čÅ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ą░ ąĖ čüą┐ąŠčĆčéąĖą▓ąĮčŗąĄ čĆą░ąĘą▓ą╗ąĄč湥ąĮąĖčÅ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗą╝ąĖ12. ąÆ ą░čĆą╝ąĖčÅčģ ą╝ąŠą│ąŠą╗ąŠą▓ ąĖ ąöąĄą║ą░ąĮčüą║ąĖčģ čüčāą╗čéą░ąĮą░č鹊ą▓ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ą░čÅ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ą░ ą▒čŗą╗ą░ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮą░ ąĮą░ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤čāą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĮą░ą▓čŗą║ąŠą▓ ąĖ ą▒čŗą╗ą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĮąŠą╣ ąŠčé čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąĮčŗčģ ą▓čŗčłąĄ ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║13. ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║ąĖčģ ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ čéą░ą║ąČąĄ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī čüą▓čÅąĘą░ąĮąŠ čü ąĖčģ čłąĖčĆąŠą║ąĖą╝ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄą╝ ą▓ čüčāą╗čéą░ąĮą░čéą░ ąöąĄą║ą░ąĮą░, ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗą╝ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čÅą▓ą╗čÅą╗ąĖčüčī ą╝ą░čĆą░čéčģąĖ, ąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ čüą╗čāąČą▒ąŠą╣ ą╝ą░čĆą░čéčģąŠą▓ ą▓ ą░čĆą╝ąĖčÅčģ čüčāą╗čéą░ąĮą░č鹊ą▓14. ą¤ąŠąĘą┤ąĮąĄąĄ 菹║čüą┐ą░ąĮčüąĖčÅ ą╝ą░čĆą░čéčģąŠą▓ ąĮą░ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąĀą░ą┤ąČą░čüčéčģą░ąĮą░, ąōčāą┤ąČą░čĆą░čéą░, ą¤ąĄąĮą┤ąČą░ą▒ą░ ąĖ ąæąĄąĮą│ą░ą╗ąĖąĖ ąŠčéą║čĆčŗą╗ą░ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ą╗čÅ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒ą╝ąĄąĮą░15, ąĮąŠ ąĖ čüčéą░ą╗ą░ ą┐čĆąĖčćąĖąĮąŠą╣ ąĄčēąĄ ąŠą┤ąĮąŠą╣ 菹║čüą┐ą░ąĮčüąĖąĖ, ąŠ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ą▒čāą┤ąĄčé čüą║ą░ąĘą░ąĮąŠ ąĮąĖąČąĄ.
ą×ą▒čēąĖą╝ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą┤ą╗čÅ čāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗčģ ą▓čŗčłąĄ čŹčéąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą░ą▓č鹊čģč鹊ąĮąĮą░čÅ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ą░čÅ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅ, ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, ąĖą╝ąĄčÄčēą░čÅ ą┤čĆą░ą▓ąĖą┤čüą║ąĖąĄ ą║ąŠčĆąĮąĖ. ąĢčüą╗ąĖ čłąĖčĆąŠą║ąŠąĄ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄ ąĮąŠą▓čŗčģ, ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĄąĮąŠ ą▓čŗčüąŠą║ąŠą╣ ą╝ąŠą▒ąĖą╗čīąĮąŠčüčéčīčÄ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮą░ ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║ąĖčģ ąĘą░ą▓ąŠąĄą▓ą░ąĮąĖą╣ ąĖ ąŠą▒ą╝ąĄąĮąŠą╝ ą╝ąĄąČą┤čā ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą▓ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╝ ą┐ą╗ą░ąĮąĄ čćą░čüčéčīčÄ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ŌĆō ąĮą░ąĄą╝ąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ-čüąĖą┐ą░čÅą╝ąĖ, č鹊 ą║ą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ą╝ąŠą│ą╗ą░ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĖčéčīčüčÅ čüčéą░čĆą░čÅ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ą░čÅ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅ? ąś ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĖčéčīčüčÅ čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, čćč鹊ą▒čŗ ą▓ąŠ ą▓čüąĄčģ, ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ čāą┤ą░ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą┤čĆčāą│ ąŠčé ą┤čĆčāą│ą░ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░čģ ąŠčéą╗ąĖčćąĖčÅ ą▓ čŹčéąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ą░čģ ą▒čŗą╗ąĖ ą╝ąĖąĮąĖą╝ą░ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ, čćč鹊 ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠą▓ą░čéčī ąŠ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čüą║ąŠčĆąŠčüčéąĖ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü ąŠą▒čŗčćąĮčŗą╝ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮčŗą╝ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄą╝, ąĮąĄ ą┤ąŠą┐čāčüą║ą░ą▓čłąĄą╣ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ ą╝ąĄčüčéąĮčŗčģ čüčāą▒ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮčŗčģ ąŠčćą░ą│ąŠą▓.
ąØąŠčüąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ ąĖ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ čŹčéąĖčģ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖą╣ ą▒čŗą╗ąĖ ą░čüą║ąĄčéčŗ-ą▓ąŠąĖąĮčŗ, čüą┐ąĄą║čéčĆ ąĘą░ąĮčÅčéąĖą╣ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą┐čĆąŠčüčéąĖčĆą░ą╗čüčÅ ąŠčé ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ ą▓ čåąĄą╗čÅčģ ą┤čāčģąŠą▓ąĮąŠą│ąŠ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ ąĖ ąĘą░čēąĖčéčŗ čüą▓ąŠąĖčģ ąŠą▒čēąĖąĮ ą┤ąŠ ąĮą░ąĄą╝ąĮąŠą╣ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╣ čüą╗čāąČą▒čŗ, čüą▒ąŠčĆą░ ą║ąŠąĮčéčĆąĖą▒čāčåąĖą╣ ąĖ ąŠą▒čŗčćąĮąŠą│ąŠ ą▒ą░ąĮą┤ąĖčéąĖąĘą╝ą░. ąÜ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéčā ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą▓č鹊čƹȹĄąĮąĖčÅ ą▓ ąśąĮą┤ąĖąĖ čāąČąĄ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ą░ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅ ą░čüą║ąĄč鹊ą▓-ą▓ąŠąĖąĮąŠą▓16. ąÆ ąÉą║ą▒ą░čĆ-ąĮą░ą╝ąĄ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮ 菹┐ąĖąĘąŠą┤, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąÉą║ą▒ą░čĆ čüčéą░ą╗ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗ąĄą╝ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ą▓ ąóčģą░ąĮąĄčüą░čĆąĄ ą╝ąĄąČą┤čā ą╣ąŠą│ą░ą╝ąĖ ąĘą░ ą╝ąĄčüč鹊 čā čüą▓čÅčēąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠą┤ąŠąĄą╝ą░, čü ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą╝ąĄč湥ą╣ ąĖ ą┤čĆčāą│ąŠą│ąŠ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ17.
ąÜ čŹč鹊ą╝čā ąČąĄ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤čā čāčüčéąĮą░čÅ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅ ą░čüą║ąĄč鹊ą▓ ąŠčéąĮąŠčüąĖčé ąŠčäąĖčåąĖą░ą╗čīąĮąŠąĄ čĆą░ąĘčĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ ąÉą║ą▒ą░čĆą░, čāąĘą░ą║ąŠąĮąĖą▓čłąĄąĄ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║čā čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗčģ ąŠčéčĆčÅą┤ąŠą▓ ą░čüą║ąĄč鹊ą▓, ą┤ą░ąĮąĮąŠąĄ ąĖą╝ ą▓ ąŠčéą▓ąĄčé ąĮą░ ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĖąĄ ą╗ąĖą┤ąĄčĆąŠą▓ ą░čüą║ąĄč鹊ą▓ ąŠ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéąĖ čüą░ą╝ąŠąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąŠčé ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą╗ą░ čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą░čüą║ąĄč鹊ą▓-ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮ18. ą©ąĖčĆąŠčéą░ čĆąĄą╗ąĖą│ąĖąŠąĘąĮčŗčģ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ąŠą▓ ąÉą║ą▒ą░čĆą░ ą┤ąĖą║č鹊ą▓ą░ą╗ą░ ąĄą╝čā čéą░ą║ąŠąĄ čĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ, ą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ą▓ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĖ ą▓čŗą┐čāčüčéąĖą╗ąŠ ą┤ąČąĖąĮą░ ąĖąĘ ą▒čāčéčŗą╗ą║ąĖ, ąĖ ą░čüą║ąĄčéčŗ čüčéą░ą╗ąĖ čĆąĄą║čĆčāčéąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ą▓ čüą▓ąŠąĖ čĆčÅą┤čŗ ąĖąĮą┤čāčüąŠą▓ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĖąĘ ą▒čĆą░čģą╝ą░ąĮčüą║ąĖčģ ą║ą░čüčé, čüąŠąĘą┤ą░ą▓ą░čéčī čüąĄčéčī ą░ą║čģą░čĆą░ (čéčĆąĄąĮąĖčĆąŠą▓ąŠčćąĮčŗčģ čłą║ąŠą╗) ąĖ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗąĄ ąŠčéčĆčÅą┤čŗ. ąØčāąČąĮąŠ ąŠčéą╝ąĄčéąĖčéčī, čćč鹊 ą░čüą║ąĄčéčŗ ą▓ ąśąĮą┤ąĖąĖ ąĖą│čĆą░ą╗ąĖ čĆąŠą╗čī čüą▓ąŠąĄąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗčģ ┬½čéą░ą╝ą┐ą╗ąĖąĄčĆąŠą▓┬╗, ą▓ ąĖčģ čĆčāą║ą░čģ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ čåąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ č鹊čĆą│ąŠą▓ą╗čÅ, ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ ą┤čĆą░ą│ąŠčåąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą║ą░ą╝ąĮčÅą╝ąĖ. ąĪąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝ ą║ čŹč鹊ą╝čā ą┤ąŠą▒ą░ą▓ąĖą╗čüčÅ ąĖ ąĮą░ąĄą╝ąĮąĖč湥čüą║ąĖą╣, ą║ąŠąĮą┤ąŠčéčīąĄčĆčüą║ąĖą╣ ą▒ąĖąĘąĮąĄčü. ąÆ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ąĖąĘ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗčģ ą▒ą░ąĮą┤ ą╣ąŠą│ąŠą▓ ą▓ XVI ą▓. ą░čüą║ąĄčéčŗ ą┐čĆąĄą▓čĆą░čéąĖą╗ąĖčüčī ą║ XVIII ą▓. ą▓ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ ąŠčéčĆčÅą┤čŗ ąŠą▒čāč湥ąĮąĮčŗčģ ąĮą░ąĄą╝ąĮąĖą║ąŠą▓, ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāčÄčēąĖčģ ą╝čāčłą║ąĄčéčŗ ąĖ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčā. ąØąŠ ą┤ą░ąČąĄ ą┐ąŠąĘąČąĄ ąŠąĮąĖ čüčćąĖčéą░ą╗ąĖčüčī ą┐čĆąĄą▓ąŠčüčģąŠą┤ąĮčŗą╝ąĖ ą╝ą░čüč鹥čĆą░ą╝ąĖ ą▒ą╗ąĖąČąĮąĄą│ąŠ ą▒ąŠčÅ, ą▓ ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī, čü ą╝ąĄč湊ą╝ ąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ čāą┤ą░čĆąĮąŠą╣ čłąŠą║ąŠą▓ąŠą╣ ą┐ąĄčģąŠčéčŗ19. ą¤ąĄčĆą▓čŗą╝ąĖ čłąĖčĆąŠą║ąŠ čüčéą░ą╗ąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ą░čüą║ąĄč鹊ą▓ ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ąĮą░ąĄą╝ąĮąĖą║ąŠą▓ ą╝ą░čĆą░čéčģąĖ. ą¤ąŠčüą╗ąĄ ą▓č鹊čƹȹĄąĮąĖčÅ ą╝ą░čĆą░čéčģąŠą▓ ąĮą░ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÄ ąĀą░ą┤ąČą░čüčéčģą░ąĮą░ ąĘą░ ąĮąĖą╝ąĖ čüą╗ąĄą┤ąŠą╝ čģą╗čŗąĮčāą╗ąĖ ąŠčéčĆčÅą┤čŗ (ąĖą╗ąĖ ą▒ą░ąĮą┤čŗ) ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗčģ ą░čüą║ąĄč鹊ą▓20. ąÆąŠ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮąĄ XVIII ą▓. ąŠąĮąĖ ąĮą░ą▓ąŠą┤ąĮąĖą╗ąĖ ąĖ ąæąĄąĮą│ą░ą╗ąĖčÄ21.
ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ą┤ą░ąČąĄ ąĄčüą╗ąĖ ą░čüą║ąĄčéčŗ-ą▓ąŠąĖąĮčŗ ąĖ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ąĮąĄą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ čüąŠąĘą┤ą░č鹥ą╗čÅą╝ąĖ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║, č鹊, ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮąŠ, ąŠąĮąĖ čÅą▓ą╗čÅą╗ąĖčüčī ąĖčģ ąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ ąĖ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ. ąÉ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝čŗą╣ ą▓ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╣ čüčéą░čéčīąĄ čĆąĄą│ąĖąŠąĮ ąĮąĄ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮąŠ čüčćąĖčéą░ą╗čüčÅ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čéąĮąŠą╣ ą┐ąĖčéą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čüčĆąĄą┤ąŠą╣ ą┤ą╗čÅ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖčģ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖą╣. ąØą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ čŹč鹊ą│ąŠ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ ą▒ąĄčüą┐čĆąĄčåąĄą┤ąĄąĮčéąĮąŠą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąŠ22. ą¤ąŠ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖąĖ ą░ą│čĆą░čĆąĮąŠą│ąŠ čüąĄąĘąŠąĮą░ ą║čĆąĄčüčéčīčÅąĮąĄ ąĘą░čĆą░ą▒ą░čéčŗą▓ą░ą╗ąĖ ąĮą░ąĄą╝ąĮąŠą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ čüą╗čāąČą▒ąŠą╣. ą×ąĮąĖ ą▒čŗą╗ąĖ čāąČąĄ ą│ąŠč鹊ą▓čŗą╝ąĖ čüąŠą╗ą┤ą░čéą░ą╝ąĖ ą▓ ą┐ą╗ą░ąĮąĄ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤čāą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ23. ąÆąŠąĖąĮčüą║ąĖąĄ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĖ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą▓ čĆą░ą╝ą║ą░čģ čłą║ąŠą╗ ą░ą║čģą░čĆą░, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮąŠ ąŠą▒čāčćą░ą╗ąĖčüčī ą░čüą║ąĄčéčŗ, ą░ čüąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝ ąĖ ąŠą▒čēąĖąĮąĮąŠąĄ ąŠą┐ąŠą╗č湥ąĮąĖąĄ24. ą×ą▒čāč湥ąĮąĖąĄ ąĖčüą║čāčüčüčéą▓čā ą▓ą╗ą░ą┤ąĄąĮąĖčÅ ą╝ąĄč湊ą╝ ąĖ, ą▓ čåąĄą╗ąŠą╝, ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖą╝ ąĮą░ą▓čŗą║ą░ą╝ ąĮą░čćąĖąĮą░ą╗ąŠčüčī čü čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ą┤ąĄčéčüčéą▓ą░. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝, ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, čā čĆą░ą┤ąČą┐čāč鹊ą▓ ąĮąĄ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖą╣ ą┤ą╗čÅ ą┤ąĄą▓čāčłąĄą║ ąĖ ąČąĄąĮčēąĖąĮ25. ąŁčĆą╗ ąŁą│ąĄčĆč鹊ąĮ, ą╗ąŠčĆą┤ ąóą░čéč鹊ąĮ, ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čåąĖąŠąĮąĄčĆ, ą┐čāč鹥賹Ąčüčéą▓ąĄąĮąĮąĖą║ ąĖ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čī ąśąĮą┤ąĖąĖ ąŠčéą╝ąĄčćą░ą╗: ┬½ąÆčüąĄ čĆą░ą┤ąČą┐čāčéčŗ ąŠą▒čāč湥ąĮčŗ ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĖčÄ čü ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝. ąÆ ą║ą░ąČą┤ąŠą╣ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮąĄ ąĄčüčéčī čüą▓ąŠčÅ čłą║ąŠą╗ą░, ą│ą┤ąĄ čāčéčĆąŠą╝ ąĖ ą▓ąĄč湥čĆąŠą╝ ąŠą▒čāčćą░čÄčé ą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčīčüčÅ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░čÄčéčüčÅ čüą┐ąŠčĆčéąĖą▓ąĮčŗą╝ąĖ čāą┐čĆą░ąČąĮąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ. ąśą╝ąĄąĮąĮąŠ ąĘą┤ąĄčüčī ą▓ąŠčüą┐ąĖčéčŗą▓ą░čÄčéčüčÅ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠąĄ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĄ ą║ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ čüą╗čāąČą▒ąĄ ąĖ ą▒ąŠąĄą▓čŗąĄ ą║ą░č湥čüčéą▓ą░┬╗26. ą¤ąŠ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖčÅą╝, ąĄčēąĄ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XIX ą▓. ą╝čāąČčćąĖąĮčŗ ąĮąĄ ą┐ąŠą║ąĖą┤ą░ą╗ąĖ čüą▓ąŠčÄ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮčÄ ą▒ąĄąĘ ą╝ąĄčćą░, čēąĖčéą░, ą╗čāą║ą░ ąĖ čüčéčĆąĄą╗, ą░ ą┐čĆąĖ ąĮą░ą╗ąĖčćąĖąĖ ą║ąŠąĮčÅ ŌĆō ąĄčēąĄ ą┤ą╗ąĖąĮąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą┐čīčÅ ąĖ čüąĄą┤ąĄą╗čīąĮąŠą│ąŠ č鹊ą┐ąŠčĆą░27. ąÆ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ XIX ą▓. ą▓ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ąĪąĖą┐ą░ą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮąĖčÅ ąŠąĮąĖ čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ąĖ ąĮą░ ą┐ąŠą╗čÅčģ čü čēąĖč鹊ą╝ ąĘą░ čüą┐ąĖąĮąŠą╣ ąĖ čü ą╝ąĄč湊ą╝ ąĮą░ ą▒ąŠą║čā28.
ąÜ čüąŠąČą░ą╗ąĄąĮąĖčÄ, ą╗ąŠą║ą░ą╗ąĖąĘąŠą▓ą░čéčī ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖąĄ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĖ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░ ą┐ąŠ čŹčéąĮąĖč湥čüą║ąŠą╝čā ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║čā ąĮąĄ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗą╝. ą×ą▒čēą░čÅ ą┤ą╗čÅ ą▓čüąĄą│ąŠ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░ ą▓čŗčüąŠą║ą░čÅ čüč鹥ą┐ąĄąĮčī ą▓ąŠąĄąĮąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮąŠčüčéąĖ, ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ čĆą░ą┤ąČą┐čāč鹊ą▓, ą┤ąČą░č鹊ą▓, ą│čāą┤ąČą░čĆą░čéčåąĄą▓ ąĖ ą╝ą░čĆą░čéčģąŠą▓, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą▓čŗčüąŠą║ą░čÅ ą╝ąŠą▒ąĖą╗čīąĮąŠčüčéčī ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅčÄčé ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠ ąĮą░ą╗ąĖčćąĖąĖ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░, ąŠčéą╗ąĖčćąĮčŗčģ ąŠčé ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖčćąĮčŗčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ ą«ą│ą░ ąĖ ąĪąĄą▓ąĄčĆąŠ-ąÆąŠčüč鹊ą║ą░ ąśąĮą┤ąĖąĖ ąĖą╗ąĖ ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ ą╝ąŠą│ąŠą╗čīčüą║ąĖčģ ąĖą╗ąĖ čüčāą╗čéą░ąĮą░čéčüą║ąĖčģ ą┤ą▓ąŠčĆąŠą▓. ąóą░ą║ąČąĄ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠą▒ąŠąĘąĮą░čćąĖčéčī čŹčéąĖ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĖ ą║ą░ą║ čćąĖčüč鹊 ┬½ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąĖąĄ┬╗, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ą▓ čüąĖą╗čā čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓čŗčłąĄ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ą╝čāčüčāą╗čīą╝ą░ąĮčüą║ąĖčģ ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ ą▓ ąĮąĖčģ ą┐čĆąŠčüą╗ąĄąČąĖą▓ą░čÄčéčüčÅ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ąĘą░ąĖą╝čüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ. ąŻčüą╗ąŠą▓ąĮąŠ čŹčéčā ą╗ąĖąĮąĖčÄ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖčéčī ą║ą░ą║ ┬½ąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗąĄ┬╗ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖąĄ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĖ, čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ą▓čłąĖąĄ ąĮą░ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░ ą▓ čĆą░ą╝ą║ą░čģ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗčģ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąĖčģ čłą║ąŠą╗ ą░ą║čģą░čĆą░. ą¤ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮčÅčÅ čćą░čüčéčī ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ą░ ą┤ą╗čÅ ąŠčéą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ ąŠčé čüą┐ąŠčĆčéąĖą▓ąĮčŗčģ ąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗčģ ąĖą╗ąĖ čüąŠą╗ą┤ą░čéčüą║ąĖčģ čĆą░ąĘ- ą▓ą╗ąĄč湥ąĮąĖą╣.
ą¤ąŠą┤ą▓ąŠą┤čÅ ąĖč鹊ą│, ąŠą▒čĆą░čéąĖą╝ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĄ ąĮą░ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖąĄ ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░. ąöąŠ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ XVIII ą▓. ą║ą░ą║ąŠą╣-ą╗ąĖą▒ąŠ ą║ąŠą┤ąĖčäąĖą║ą░čåąĖąĖ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ ąĮąĄ ą┐čĆąŠčüą╗ąĄąČąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ. ąÆ ąöąĄą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╝ čüčāą╗čéą░ąĮą░č鹥 ąĖ čüčāą╗čéą░ąĮą░čéą░čģ ąöąĄą║ą░ąĮą░ ąŠčéč湥čéą╗ąĖą▓ąŠ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ą░čÅ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅ. ąÆ ą░čĆą╝ąĖąĖ ą╝ąŠą│ąŠą╗ąŠą▓ čĆą░ąĮąĮąĄą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░, ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗąĄ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĖ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ čéčÄčĆą║čüą║ąŠąĄ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ, ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╣ č乊čĆą╝ąŠą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ą╝ą░čüčüąŠą▓čŗąĄ ąŠčģąŠčéčŗ. ąÆ ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąÉą║ą▒ą░čĆą░ ąÉą▒čā-ą╗ ążą░ąĘą╗ ąÉą╗ą╗ą░ą╝ąĖ ą▓ ąÉąĖąĮ-ąĖ-ąÉą║ą▒ą░čĆąĖ ąŠą┐ąĖčüčŗą▓ą░ąĄčé ą┤ą▓ąŠčĆčåąŠą▓čāčÄ ą│ą▓ą░čĆą┤ąĖčÄ ąÉą║ą▒ą░čĆą░, ąŠčéčĆčÅą┤čŗ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čüąŠčüč鹊čÅčé ąĖąĘ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖč鹥ą╗ąĄą╣ čĆą░ąĘąĮčŗčģ ą┐ą╗ąĄą╝ąĄąĮ ąśąĮą┤ąĖąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāčÄčé čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąĖ č鹥čģąĮąĖą║čā ą▒ąŠčÅ. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ą║ą░ą║ąĖčģ-ą╗ąĖą▒ąŠ ąŠą▒čēąĖčģ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖą╣ ąĖą╗ąĖ ąĄą┤ąĖąĮąŠą╣ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ ąĮąĄ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ29. ąóąŠą╗čīą║ąŠ čüąŠ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ XVIII ą▓. ąĖąĘ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖą╣ ąĄą▓čĆąŠą┐ąĄą╣čüą║ąĖčģ ą┐čāč鹥賹Ąčüčéą▓ąĄąĮąĮąĖą║ąŠą▓ ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčé čüą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░čéčīčüčÅ ą║ą░ą║ą░čÅ-č鹊 ą║ą░čĆčéąĖąĮą░ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ, ąĮąŠ čāąČąĄ, ą║ čüąŠąČą░ą╗ąĄąĮąĖčÄ, ą▓ č鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ, ą║ąŠą│ą┤ą░ čĆąĄą░ą╗čīąĮą░čÅ ą▓ąŠčüčéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ąĮąĮąŠčüčéčī, ą░ čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ, čĆąĄą░ą╗ąĖčüčéąĖčćąĮąŠčüčéčī ąĖ ą░ą┤ąĄą║ą▓ą░čéąĮąŠčüčéčī čŹčéąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║, ąĮą░čćą░ą╗ąĖ ąĖčüč湥ąĘą░čéčī. ą¤ąŠ čüčāčéąĖ, čŹč鹊 čāąČąĄ čÅą▓ą╗čÅą╗ąŠčüčī ąĮą░čćą░ą╗ąŠą╝ ą┐čĆąĄą▓čĆą░čēąĄąĮąĖčÅ čŹčéąĖčģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ ą▓ čüą┐ąŠčĆčéąĖą▓ąĮčŗąĄ čāą┐čĆą░ąČąĮąĄąĮąĖčÅ čĆą░ąĘą▓ą╗ąĄą║ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆą░. ąóąĄą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ, ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ XIX ą▓. ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖą╣ ąŠčäąĖčåąĄčĆ ąĀąŠą▒ąĄčĆčé ąæą░ą┤ąĄąĮ-ą¤ą░čā菹╗ą╗ ąĘą░čüčéą░ą╗ ą▓ ą£ąĄąĄčĆčāč鹥 čåąĄą╗čŗčģ čéčĆąĖ čłą║ąŠą╗čŗ č乥čģč鹊ą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ą┤ą░ą▓ą░ą╗ ą▓čŗčüąŠą║čāčÄ ąŠčåąĄąĮą║čā ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąŠą▓ą░ą▓čłąĖą╝čüčÅ čéą░ą╝ ąĮą░ą▓čŗą║ą░ą╝30.
1 Zarrilli Ph. B. When the Body Becomes All Eyes: Paradigms, Discourses and Practices of Power in Kalarippayattu, a South Indian Martial Art. Oxford University Press, 2000; Denaud P. Kalaripayat: The Martial Arts Tradition of India, Inner Traditions/Bear, 2009; Luijendijk D. Kalarippayat. URL: http: Lulu.com (ą┤ą░čéą░ ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĖčÅ ŌĆō 2008).
2 ąĪą▒ąŠčĆąĮąĖą║ čüčéą░č鹥ą╣ ą┐ąŠ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ą╝ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖąĖ, ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą╣ čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥č鹊ą╝ ąÉčĆčāąĮą░čćą░ą╗ą░ / Dutta S., Tripathy B. ed. // Martial Traditions of North East India. New Delhi, 2006.
3 OŌĆÖHanlon R. Military Sports and the History of the Martial Body in India // Journal of the Economic and Social History of the Orient. 2007. P. 499.
4 ąśąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╣ ą╝ą░čĆą░čéčģčüą║ąĖą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮčŗą╣ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čī ą┐čĆąŠč乥čüčüąŠčĆ ą£ą░ąĮąĖą║čĆą░ąŠ (Rajratna Rajpriya Professor Manikrao (1878ŌĆō1954)), ąĖąĘčāčćą░ą▓čłąĖą╣ ą▓ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠčüčéąĖ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗąĄ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖąĄ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĖ, ą▓ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĖ ą┐čĆąĖčüą┐ąŠčüąŠą▒ąĖą╗ ąĖčģ ą┤ą╗čÅ ą╝ą░čüčüąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠą▒čāč湥ąĮąĖčÅ ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ čäąĖąĘąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ, ą┤ąŠą▒ą░ą▓ąĖą╗ ą╝ąĮąŠą│ąŠ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗčģ čāą┐čĆą░ąČąĮąĄąĮąĖą╣ ąĖ ą┐čĆąĖą╗ąŠąČąĖą╗ ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĄ čāčüąĖą╗ąĖčÅ ą┤ą╗čÅ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┐ąŠą┐čāą╗čÅčĆąĖąĘą░čåąĖąĖ čŹč鹊ą│ąŠ ą┐čĆąŠą┤čāą║čéą░. ą×ąĮ ąŠą▒čŖąĄąĘą┤ąĖą╗ ą▓čüčÄ ąśąĮą┤ąĖčÄ čü čćč鹥ąĮąĖąĄą╝ ą╗ąĄą║čåąĖą╣, ąŠčéą║čĆčŗą▓ą░ą╗ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗąĄ ą░ą║čģą░čĆą░ ąĖ ąĘą░čüą╗čāąČąĄąĮąĮąŠ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ čéąĖčéčāą╗ ┬½ąŠčéčåą░ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąŠą╣ čäąĖąĘą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ┬╗. ŌĆō ąĪą╝.: Ganneri N.R. The Debate on ┬½Revival┬╗ and the Physical Culture Movement in Western India (1900ŌĆō1950). Sport Across Asia: Politics, Cultures, and Identities. Routledge, 2013. P. 133ŌĆō134.
5 The Tuzuk-i-Jahangiri or Memoirs of Jahangir, tr. Alexander Rogers. London Royal Asiatic Society, 1909. P. 253, 335.
6 History rise of the Mahomedan power India till the year A.D. 1612, tr. J. Briggs. London, 1910. Vol. III. P. 207.
7 ąÆ čĆą░ąĮąĮąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ąöąĄą╗ąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čüčāą╗čéą░ąĮą░čéą░ ą▓ ą▓ąŠą╣čüą║ą░čģ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ┬½warzish┬╗, ąĄąČąĄą┤ąĮąĄą▓ąĮčŗąĄ čāą┐čĆą░ąČąĮąĄąĮąĖčÅ, čćą░čüčéčīčÄ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čÅą▓ą╗čÅą╗ą░čüčī ą▒ąŠčĆčīą▒ą░ ąĖ č乥čģč鹊ą▓ą░ąĮąĖąĄ. ŌĆō ąĪą╝.: Saxena R.K. The Mughal and Rajput Armies, History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization. Vol. X. Part 3. Historical Perspetives of Warfare in India: Some Morale and Materiel Determinants / ed. S. N. Prasad. New Delhi, 2002. P. 307. ┬½ąÆą░čƹʹĖčł┬╗ ŌĆō čŹč鹊 ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąĖą╣ č鹥čĆą╝ąĖąĮ ┬½varzes┬╗, ąŠą▒ąŠąĘąĮą░čćą░čÄčēąĖą╣ čüą┐ąŠčĆčé, čāą┐čĆą░ąČąĮąĄąĮąĖčÅ (Khorasani, Manouchehr Moshtagh, Lexicon of Arms and Armor from Iran. A Study of Symbols and Terminology. Legat Publisher, 2010. P. 435).
8 ąÆ ą║ąŠąĮčåąĄ XIX ą▓. ą▓ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ąĄ ą▓ ąøą░ą║čģąĮą░čā ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ č鹥ą║čüčéčŗ ą┐ąŠ čüčéčĆąĄą╗čīą▒ąĄ ąĖąĘ ą╗čāą║ą░, ą┐ąŠ č乥čģč鹊ą▓ą░ąĮąĖčÄ ą┐ą░ą╗ą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąŠčüąŠčģąŠą╝, ą╝ąĄč湊ą╝ ąĖ ą┤čĆ. ŌĆō ąĪą╝.: Sprenger A. Report of the Researches into the Muhammadan Libraries of Lucknow. Calcutta: Of’¼üce of the Superintendent of Government Printing, 1896. ąĀąŠąĘą░ą╗ąĖąĮą┤ ą×ŌĆÖąźą░ąĮą╗ąŠąĮ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ čāą▒ąĄą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčé, čćč鹊, ą┐ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ, ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĖąĘ ąĮąĖčģ ą┐ąĖčüą░ą╗ąĖčüčī čāąČąĄ ą▓ ąśąĮą┤ąĖąĖ (OŌĆÖHanlon R. Op. cit. P. 503ŌĆō504).
9 ąØą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, čéčĆą░ą║čéą░čé ąŠ ą╝ąĄčćą░čģ Risalah-e-shamshir shanasi ą░ą▓č鹊čĆčüčéą▓ą░ Nusrat al-Iah Khan, čüąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą▓ 1706 ą│., čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ą╗, ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ, ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║čāčÄ č鹥čĆą╝ąĖąĮąŠą╗ąŠą│ąĖčÄ. Marshall D.N. Mughals in India: A Bibliographical Survey of Manuscripts. London: Mansell Publishing, 1985. P. 273.
10 ąĀą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĮąŠąĄ ąĮą░ąĘą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▒ąŠčĆčīą▒čŗ ┬½ą║čāčłčéąĖ┬╗ ąĖą╝ąĄąĄčé ą┐ąĄčĆčüąĖą┤čüą║ąŠąĄ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ (Khorasani, Manouchehr Moshtagh, Lexicon of Arms and Armor from Iran. P. 217). ąØąŠ ąĘą┤ąĄčüčī ąĖą╝ąĄąĄčé ą╝ąĄčüč鹊 ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ čüą╗čāčćą░ą╣ ąĘą░ą╝ąĄčēąĄąĮąĖčÅ čüčģąŠąČąĖčģ č乥ąĮąŠą╝ąĄąĮąŠą▓ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ, ą║ą░ą║ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąŠ ą▓čŗčłąĄ. ąśą╗ąĖ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ąŠ čüąĖąĮč鹥ąĘąĄ ą┤ą▓čāčģ ą║čāą╗čīčéčāčĆ (Alter J.S. The WrestlerŌĆÖs Body: Indentity and Ideology in North India, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. New Delhi. P. 2).
11 Kolff D.H.A. Naukar, Rajput, and Sepoy: The Ethnohistory of the Military Labour Market of Hindustan, 1450ŌĆō1850. Cambridge University Press, 2002; Gommans J. Mughal Warfare: Indian Frontiers and Highroads to Empire 1500ŌĆō1700. Taylor & Francis. P. 69ŌĆō77; Gordon St. Zones of Military Entrepreneurship in India, 1500ŌĆō1700, in Marathas, Marauders, and State Formation in Eighteenth-Century India. Oxford University Press, 1994. P. 182ŌĆō208; Alavi S. The Sepoys and the Company: Tradition and Transition in Northern India, 1770ŌĆō1830. Oxford University Press, 1998. P. 11ŌĆō55; MacMunn G.F. The Armies of India. London, 1911.
12 ąĪą╝., ąĮą░ą┐čĆ., ą▓ The Illustrated London News. July 13. 1878. P. 27, čüčéą░čéčīčÄ ┬½The Indian Troops at Malta┬╗, ą│ą┤ąĄ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮčŗ ąĖ ą┐čĆąŠąĖą╗ą╗čÄčüčéčĆąĖčĆąŠą▓ą░ąĮčŗ čĆą░ąĘą▓ą╗ąĄč湥ąĮąĖčÅ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąĖčģ čüąŠą╗ą┤ą░čé ą▒čĆąĖčéą░ąĮčüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ, čĆą░čüą║ą▓ą░čĆčéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ąĮą░ ą£ą░ą╗čīč鹥.
13 Alavi S. Op. cit. P. 14.
14 Gordon S. Op. cit. P. 182ŌĆō208.
15 ąŻą┐ąŠą╝čÅąĮčāčéčŗą╣ ą▓ ą┐čĆąĖą╝ąĄčćą░ąĮąĖąĖ 4 ą┐čĆąŠč乥čüčüąŠčĆ ą£ą░ąĮąĖą║čĆą░ąŠ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗ ąĖąĘ ą╝ą░čĆą░čéčģąŠą▓, ąŠčüąĄą▓čłąĖčģ ą▓ ąōčāą┤ąČą░čĆą░č鹥 ą┐ąŠčüą╗ąĄ 菹║čüą┐ą░ąĮčüąĖąĖ.
16 Lorenzen D.N. Warrior Ascetics in Indian History // Journal of the American Oriental Society. Vol. 98. No. 1. Jan. ŌĆō Mar. 1978. P. 64ŌĆō65.
17 ąÉą▒čā-ą╗ ążą░ąĘą╗ ąÉą╗ą╗ą░ą╝ąĖ. ąÉą║ą▒ą░čĆ-ąĮą░ą╝ąĄ. ąÜąĮąĖą│ą░ č湥čéą▓ąĄčĆčéą░čÅ. ąĪą░ą╝ą░čĆą░: ąśąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüą║ąĖą╣ ą┤ąŠą╝ ┬½ąÉą│ąĮąĖ┬╗, 2009. ąĪ. 287ŌĆō288; ą£ąĖąĮąĖą░čéčÄčĆą░ ąĖąĘ ąÉą║ą▒ą░čĆ-ąĮą░ą╝ąĄ ┬½ąÉą║ą▒ą░čĆ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ąĄčé ą▒ąĖčéą▓čā ą╝ąĄąČą┤čā ą┤ą▓čāą╝čÅ ą│čĆčāą┐ą┐ą░ą╝ąĖ ą░čüą║ąĄč鹊ą▓ ą▓ ąóčģą░ąĮąĄčüą░čĆąĄ┬╗. 1586ŌĆō1589. Victoria and Albert Museum, IS.2:61-1896.
18 Farquhar J.N. The Fighting Ascetics of India. Bulletin of the John Rylands Library 9 (1925). P. 442.
19 Pinch W.R. Warrior Ascetic and Indian Empires. Cambridge University Press, 2006. P. 70ŌĆō82.
20 Orr W.G. Armed Religious Ascetics in Northern India; Gommans J.J.L., Kolff D.H.A. Warfare and Weaponry in South Asia 1000ŌĆō1800. Oxford University Press India, 2003. P. 194. ąÆą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĖ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗ąĖ ą║ąĮčÅąČąĄčüčéą▓ ąĀą░ą┤ąČą░čüčéčģą░ąĮą░ čüčéą░ą╗ąĖ čüą░ą╝čŗą╝ąĖ ą║čĆčāą┐ąĮčŗą╝ąĖ ąĮą░ąĮąĖą╝ą░č鹥ą╗čÅą╝ąĖ ą░čüą║ąĄč鹊ą▓-ą▓ąŠąĖąĮąŠą▓. ąÆ ą║ąĮčÅąČąĄčüčéą▓ą░čģ ąÜąŠčéą░ ąĖ ąæčāąĮą┤ąĖ ąŠąĮąĖ ąĮą░ąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖčüčī ąĄčēąĄ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ąÉ ą▓ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮąĄ XX ą▓. ą░čüą║ąĄčéčŗ ąĄčēąĄ ąŠčģčĆą░ąĮčÅą╗ąĖ ą▓ąŠčĆąŠčéą░ ą┤ą▓ąŠčĆčåą░ ą▓ ąŻą┤ą░ą╣ą┐čāčĆąĄ (ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąĪ. 195ŌĆō198). ąĪą╝. čéą░ą║ąČąĄ: Farquhar J.N. Op. cit. P. 437.
21 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąĪ. 192.
22 Kolff D.H.A. Op. cit. P. 27ŌĆō30.
23 Alavi S. Op. cit. P. 12ŌĆō13.
24 ┬½ą×ą▒čŗčćąĮčŗąĄ ą│ąŠčĆąŠąČą░ąĮąĄ, ąĮąĄ ąĮą░ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ čüą╗čāąČą▒ąĄ, ąĮąŠ čüą▓ąĄą┤čāčēąĖąĄ ą▓ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╝ ą╝ą░čüč鹥čĆčüčéą▓ąĄ, ąĘą░čĆą░ą▒ą░čéčŗą▓ą░ą╗ąĖ ąĮą░ ąČąĖąĘąĮčī ą┐čĆąĄą┐ąŠą┤ą░ą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą▓ ą░ą║čģą░čĆą░. ąŁčéąĖ ąĘą░ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ čĆą░ąĮąČąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąŠčé čāčĆąŠą▓ąĮčÅ čüą┐ąŠčĆčéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤ą║ąĖ ą┤ą╗čÅ ąŠą┐ąŠą╗č湥ąĮąĖčÅ ą┤ąŠ 菹║čüą║ą╗čĹʹĖą▓ąĮčŗčģ č乥čģč鹊ą▓ą░ą╗čīąĮčŗčģ čüą░ą╗ąŠąĮąŠą▓ ą┤ą╗čÅ ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéąĖąĖ┬╗ (Garza A. de la. Mughals at War: Babur, Akbar and the Indian Military Revolution, 1500ŌĆō1605. The Ohio State University, 2010. P. 233).
25 ąÆ čåąĄą╗ąŠą╝ čŹč鹊 čÅą▓ą╗čÅą╗ąŠčüčī čéąĖą┐ąĖčćąĮčŗą╝ ą┤ą╗čÅ ąśąĮą┤ąĖąĖ čÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝.
26 Egerton, Lord of Tatton. Indian and Oriental Arms and Armour. London, 1896. P. 105.
27 Heber R. Narrative of a Journey Through the Upper Provinces of India in 1824-5 London: John Murray, 1843. Vol. II. P. 110.
28 The Memoirs of James Fairweather, 4th Punjab Native Infantry 1857-58.
29 Ayeen Akbery: or, the institutes of the emperor Akber / tr. by Francis Gladwin. Vol. I. London, 1800. P. 207ŌĆō208.
30 ┬½ąŁč鹊 čüčéą░ą╗ąŠ ąŠčéą║čĆąŠą▓ąĄąĮąĖąĄą╝ ą┤ą╗čÅ ą▓čüąĄčģ ąĮą░čü ŌĆō ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░čéčī čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗąĄ čäąĖąĮčéčŗ, čāą┤ą░čĆčŗ ąĖ ąĘą░čēąĖčéčŗ, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čŹčéąĖ ą╗čÄą┤ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ą╝ą░čüč鹥čĆą░ą╝ąĖ┬╗ (Baden-Powell R. Indian memories recollections of soldiering, sport, etc. London, 1915. P. 270).

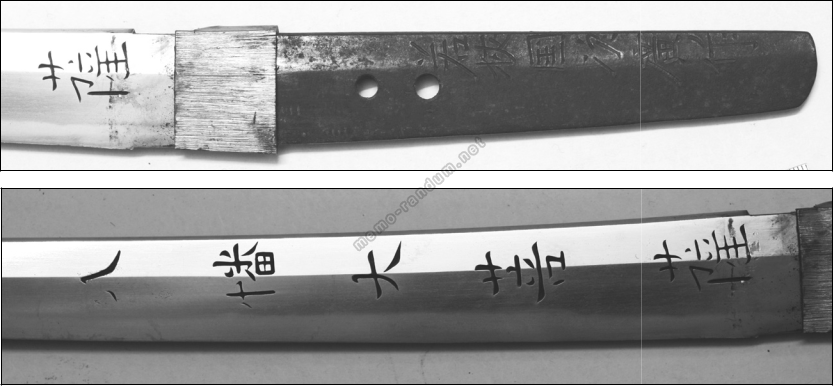
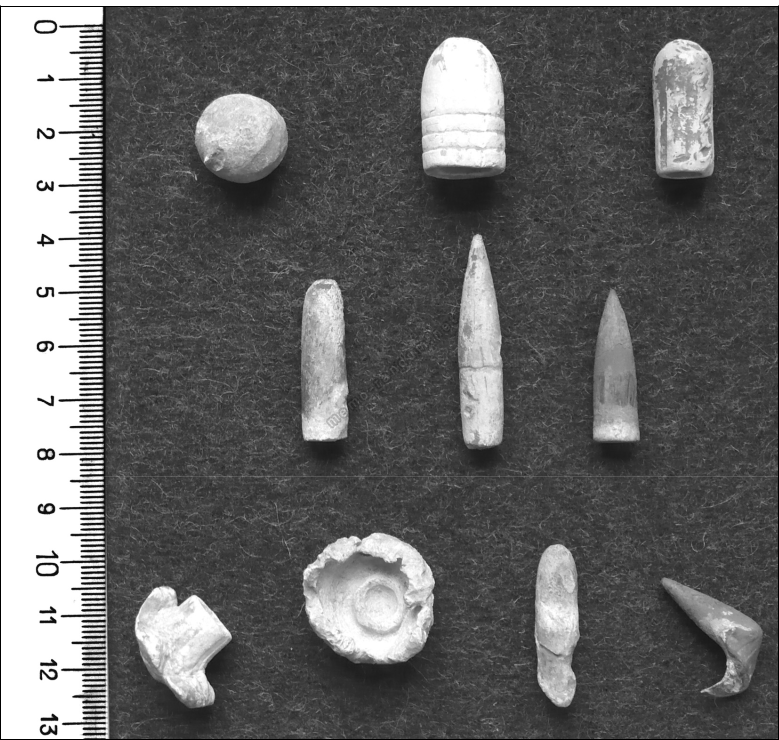
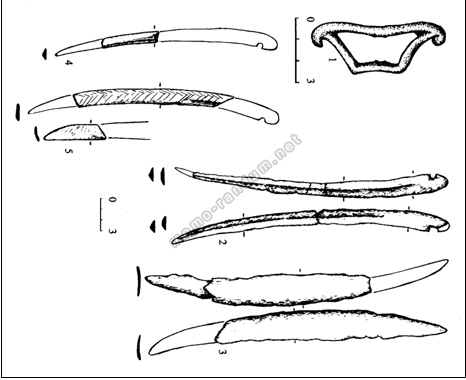


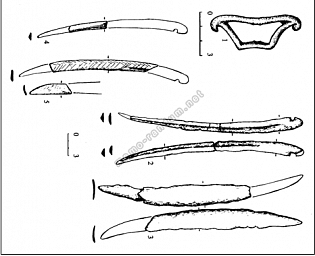
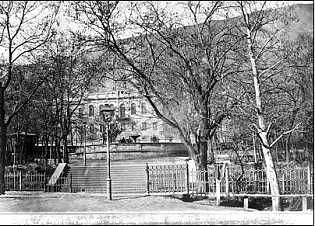
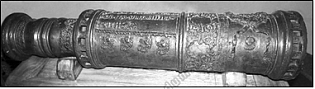

ąÜąŠą╝ą╝ąĄąĮčéą░čĆąĖąĖ