–Я–µ—А–≤–∞—П –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤ —Б—Г–і—М–±–µ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П, –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ—З–Є–Ї –Р.–Э. (–Ь–Є–љ—Б–Ї, –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б—М)
–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –Я—П—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 14вАУ16 –Љ–∞—П 2014 –≥–Њ–і–∞
–І–∞—Б—В—М III–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥
–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2014
¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2014
¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2014
20 –Ю–Ъ–Ґ–ѓ–С–†–ѓ 1914 –≥. –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–є –≥–µ—А–Љ–∞–љ–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–∞ —А—П–і –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є (–§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є—П, –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М, –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї, –Ю–і–µ—Б—Б–∞) –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II –Њ–±–љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤–∞–ї –Т—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–Є–є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –Њ–± –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–є–љ—Л –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є. –Т –љ–µ–Љ –Њ–љ —Б –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї: ¬Ђ–Э–µ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–љ–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О –Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—В—М —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї—З–Є—Й–∞ вАУ –њ–Њ–Ї–∞—А–∞–µ—В –Њ–љ–Њ –Є –љ–∞ —Б–µ–є —А–∞–Ј –і–µ—А–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞ –љ–∞—И–µ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –Ь—Л –љ–µ–њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ –≤–µ—А–Є–Љ, —З—В–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–µ –±–µ–Ј—А–∞—Б—Б—Г–і–љ–Њ–µ –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б–Ї–Њ—А–Є—В —А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–ї—П –љ–µ–µ —Е–Њ–і —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –Є –Њ—В–Ї—А–Њ–µ—В –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—Г—В—М –Ї —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—О –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–љ—Л—Е –µ–є –њ—А–µ–і–Ї–∞–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–і–∞—З –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П¬ї1. –Ф–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П, —Б –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–љ–µ–є –≤–Њ–є–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є, —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М ¬Ђ–і–Њ–љ–Њ—А–Њ–Љ¬ї –ї—О–і—Б–Ї–Є—Е –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –і–ї—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ, —З—В–Њ –і–∞–≤–∞–ї–Њ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї—Г –љ–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤—И–µ–Љ—Б—П —В–µ–∞—В—А–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є 2.
–Т —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–є—Б—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –љ–∞ –Ѓ–ґ–љ–Њ–Љ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Ї–∞—А–і–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ. –Я–µ—А–µ–і –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–µ–є –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є. –Э–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Њ—В –љ–Є—Е –Є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є (–Ъ–Т–Ш–Ь)3 . –£–ґ–µ —Б –њ–µ—А–≤—Л—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ –Є–Љ—П –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ъ–Т–Ш–Ь –Њ—В –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В —З–∞—Б—В–µ–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –њ—А–Њ—Б—М–±—Л –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–Є –љ–∞ —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–љ–љ—Л—Е –і–ї—П –љ–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П 4. –Ґ–∞–Ї, 20 –Є—О–љ—П 1914 –≥. —Б —В–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –Ї –°–µ–Љ–µ–љ—Г –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ–Њ–≤–Є—З—Г –≠—Б–∞–і–Ј–µ (—А–Є—Б. 1) –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А 1-–≥–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–њ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Р.–°. –У–ї–∞–≥–Њ–ї–µ–≤. –Т –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Њ–љ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї: ¬Ђ–Т–≤–Є–і—Г –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Ж–µ–љ–љ—Л—Е –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤, –Ї–∞–Ї —В–Њ: –Љ—Г–љ–і–Є—А–∞ –Є —И–∞—И–Ї–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –°—В–∞—А—И–µ–≥–Њ, —Б—В–∞—В—Г—Н—В–Њ–Ї —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —Б–∞–њ–µ—А–∞ –Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ (–≠–і—Г–∞—А–і–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞. вАУ –Р. –Ь.) –Ґ–Њ—В–ї–µ–±–µ–љ–∞¬ї5.

–†–Є—Б. 1. –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –°.–°. –≠—Б–∞–і–Ј–µ (1870вАУ1927) вАУ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –њ—А–Є —И—В–∞–±–µ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –Є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Ъ–Т–Ш–Ь (—Б 1913 –≥.). –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞—А—Е–Є–≤ –Ї–Є–љ–Њ—Д–Њ—В–Њ—Д–Њ–љ–Њ–і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –У—А—Г–Ј–Є–Є. –Р–ї—М–±–Њ–Љ 240, –µ–і. —Е—А. 1 (–њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г–µ—В—Б—П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ)
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –Љ—Г–Ј–µ—П —Б—В–∞–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–µ–є –і–ї—П –њ—А–Є–µ–Љ–∞ –Њ—В —З–∞—Б—В–µ–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е —В—А–Њ—Д–µ–µ–≤, –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ—В –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –Ш.–Ш. –Т–Њ—А–Њ–љ—Ж–Њ–≤–∞-–Ф–∞—И–Ї–Њ–≤–∞. –Т —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1915 –≥. –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Ъ–Т–Ш–Ь –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–µ–Љ—Г –і–µ–ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –љ–∞ —В–µ–∞—В—А–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А—Г –Ы.–Ь. –С–Њ–ї—Е–Њ–≤–Є—В–Є–љ–Њ–≤—Г:¬Ђ–Т–∞—И–µ–Љ—Г –Я—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –Љ—Г–Ј–µ—П –Ї—А–∞–є–љ–µ —В–µ—Б–љ–Њ –і–ї—П —Е—А–∞–љ—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П —Г–ґ–µ —В–∞–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞вА¶ –°—З–Є—В–∞—О —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ–Љ —В–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ, –Ј–∞–±–ї–∞–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –Њ–Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П –Њ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –≤–љ–Њ–≤—М –Њ—В–±–Є—В—Л–µ —В—А–Њ—Д–µ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ—Л –Є –Ј–∞–љ—П–ї–Є –±—Л –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ вАЬ–•—А–∞–Љ–µ –°–ї–∞–≤—ЛвАЭ¬ї6. –Т –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ –°.–°. –≠—Б–∞–і–Ј–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬ЂвА¶–≤—Б–µ –њ—А–Є—Б–ї–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є –Ј–∞—В–µ–Љ –±—Г–і–µ—В –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і –љ–∞ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ–Љ—Г—О –њ–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—О –Њ–±—Й—Г—О –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї—Г –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –љ–Њ –Њ–љ–Є –±—Г–і—Г—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П —В–∞–Љ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є, –Є —А–µ–ї–Є–Ї–≤–Є–Є –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–љ—Л—Е –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –±—Г–і—Г—В –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ—Л –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б –≤ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л –Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤¬ї7. –Я–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Љ—Г–Ј–µ—П –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–є–Ї—Г –Ї –Љ—Г–Ј–µ—О —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–і–∞ (—А–Є—Б. 2), –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–∞ –Є–і–µ—П –љ–µ –±—Л–ї–∞ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ 8. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ј–і–∞–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –Љ—Г–Ј–µ–є 28 –љ–Њ—П–±—А—П 1914 –≥. (—А–Є—Б. 3)9. –Ю–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї –°.–°. –≠—Б–∞–і–Ј–µ, –Њ–љ —Б–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М: ¬Ђ–£ –≤–∞—Б –≤—Б–µ –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ¬ї10. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–µ–є –Љ—Г–Ј–µ—П –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –Ј–∞–њ–Є—Б—М –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—В–µ–є 11.

–†–Є—Б. 2. –Т–Є–і –љ–∞ 1-—О –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—О –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–∞ –Є–Ј –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–і–∞. –Ъ–Њ–љ–µ—Ж XIX –≤. –§–Њ—В–Њ –Ф.–Ш. –Х—А–Љ–∞–Ї–Њ–≤–∞ (–њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –Ј–і–∞–љ–Є—П –Љ—Г–Ј–µ—П –≤ 1892 –≥. —Б —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞–Ї—Г—А—Б–∞ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є –≤–Є–і–љ–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В)
–Я—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–ї–Њ —Б —Г—Е—Г–і—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –љ–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ. –Я–µ—А–µ–є–і—П —В—Г—А–µ—Ж–Ї—Г—О –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г –Є —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–Њ–ї–Њ—Б–µ –і–Њ 350 –Ї–Љ, –°–∞—А—Л–Ї–∞–Љ—Л—И—Б–Ї–Є–є –Њ—В—А—П–і –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –≤–Ї–ї–Є–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –≤–≥–ї—Г–±—М —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –љ–∞—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е —Б–Є–ї –Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–є—В–Є –Ї –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤—В–Њ—А–≥–ї–Є—Б—М –љ–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї—Г—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –Є —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ—А–Є–љ—П–≤—И–µ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ, –њ—А–Є —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є –∞–і–ґ–∞—А—Ж–µ–≤, –љ–∞–њ–∞–≤—И–Є—Е —Б —В—Л–ї–∞ –Є —Д–ї–∞–љ–≥–Њ–≤ –љ–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б—П –С–∞—В—Г–Љ—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї–∞—Б—В—М, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –Т–µ—А—Е–љ–µ-–Р–і–ґ–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –С–∞—В—Г–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –Є –≥. –Р—А–і–∞–≥–∞–љ –Ъ–∞—А—Б—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.–Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–є –Њ—Е—А–∞–љ—Л –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Р.–Ш. –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–≤–Є—З, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–µ, –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ (26 –љ–Њ—П–±—А—П 1914 –≥. вАУ–Р. –Ь.) –Ї–љ—П–Ј—М –Ю—А–ї–Њ–≤ 12 —Г–ґ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞—Б—В–µ—А—П–ї—Б—П –≤ —В–µ –і–љ–Є –≤–Њ–є–љ—Л –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ь—Л—И–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є 13. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—П —Д—А–Њ–љ—В–Њ–Љ, –Њ–љ —Б–Є–і–µ–ї –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–µ –Є –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –њ–∞–љ–Є–Ї–µ—А—Б—В–≤–Њ –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ, –љ–Є –≥–µ—А–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—О –≤–Њ–є—Б–Ї. –Э–Њ –Ь—Л—И–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї –≤ –њ–∞–љ–Є–Ї–µ. –Э–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї –љ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї—П–ї –Љ–љ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П —Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љвА¶ –Я—А–Є–µ–Ј–і –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –Є –µ–≥–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ –Њ—В—А–µ–Ј–≤–Є–ї–Є –Ь—Л—И–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Х–Љ—Г –±—Л–ї–Є –і–∞–љ—Л –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, –Є –Њ–љ –њ–Њ–љ–µ–≤–Њ–ї–µ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –µ—Е–∞—В—М –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В¬ї14.

–†–Є—Б. 3. –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Є–Ј –Ј–і–∞–љ–Є—П –Ъ–Т–Ш–Ь. 28 –љ–Њ—П–±—А—П 1914 –≥. –§–Њ—В–Њ –Ъ.–Ь. –Ч–∞–љ–Є—Б–∞
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В—К–µ–Ј–і –Р.–Ч. –Ь—Л—И–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В –Є –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –∞—А–Љ–Є–Є –±—Л–ї–Є –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Є–Љ–Є. –Т –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –љ–∞–Є–≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞ –°–∞—А—Л–Ї–∞–Љ—Л—И—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –і–ї—П –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –≥—А–Њ–Ј–Є–≤—И–µ–≥–Њ –µ–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї, –љ–µ –≤–µ—А—П –≤ —Г—Б–њ–µ—Е –≤–Њ–є—Б–Ї , –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б. –Я–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Њ–љ –њ—А–Њ–≤–µ–ї –њ—А–µ—Б—Б-–Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—О –і–ї—П –≤—Л—Б—И–Є—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –Њ–± —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Д—А–Њ–љ—В–∞. –≠—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –њ–∞–љ–Є–Ї–µ –Є –і–µ–Ј–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤ —В—Л–ї—Г —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї15. –£–ґ–µ –љ–µ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –Р.–Ч. –Ь—Л—И–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Г–±–µ–і–Є—В—М –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–∞ 16. –Я–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –±—Л–≤—И–Є–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞ —И—В–∞–±–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Х.–Т. –Ь–∞—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї: ¬Ђ–° —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–Є–ї—М–љ–∞—П —В—А–µ–≤–Њ–≥–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–µ –Є –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Г. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ь—Л—И–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –≤–љ–µ—Б—В–Є —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є—ПвА¶ –Ш–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—З–∞—В—М —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–є —Г –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–∞, —Г –Ь—Ж—Е–µ—В–∞, –њ—А–Є –≤—Л—Е–Њ–і–µ –љ–∞ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–У—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї—Г—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г, –Є —Г–Ј–ї–∞ —Г –С–∞–Ї—ГвА¶ –Т —И—В–∞–±–µ –∞—А–Љ–Є–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є—В—М —Б–µ–Љ—М–Є —З–Є–љ–Њ–≤ —И—В–∞–±–∞ –≤–≥–ї—Г–±—М –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –≤—Б–µ–Љ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ–≥–Њ–љ—Л –Є –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞¬ї17. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –Э.–Р. –С–Є–≥–∞–µ–≤. –Ю–љ –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Э–∞—И–∞ –∞—А–Љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—З—В–Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–∞ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–Љ вАЬ–Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–ЉвАЭ –≠–љ–≤–µ—А-–њ–∞—И–Њ–є. –°–Њ–Ј–і–∞–ї–∞—Б—М –њ–∞–љ–Є–Ї–∞. –≠—В—Г –њ–∞–љ–Є–Ї—Г –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –≤—Л—Б—И–Є–µ —З–Є–љ—Л —И—В–∞–±–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –≠—В–Є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–µ–Љ—М—П–Љ –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б –Њ–± –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є, —В. –µ. –Ї –±–µ–≥—Б—В–≤—Г –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј. –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б –Ј–∞—В—А–µ–њ–µ—В–∞–ї –Њ—В —Б—В—А–∞—Е–∞. –Р—А–Љ—П–љ–µ –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ—Б–≤–Њ—П—Б–Є. –Ц–µ–љ—Л —И—В–∞–±–Є—Б—В–Њ–≤ —Г–њ–∞–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –Ј–∞–≥—А–Њ—Е–Њ—В–∞–ї–Є –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Є–Ї–Є. –°–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї—Б—П –≤—Б—В—А–µ–≤–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є вАЬ–Љ—Г—А–∞–≤–µ–є–љ–Є–ЇвАЭ¬ї18.
–Я–∞–љ–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞—Е–≤–∞—В–∞ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–∞ —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї–∞—П –љ–µ–Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ –љ–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–є –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–Њ–Ї –Є –љ–∞ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ъ–Т–Ш–Ь. 18 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1914 –≥. –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –§.–Ґ. –†—П–±–Є–љ–Ї–Є–љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П —Б –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ –љ–∞ –Є–Љ—П –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –Ш.–Ш. –Т–Њ—А–Њ–љ—Ж–Њ–≤–∞-–Ф–∞—И–Ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Т–≤–Є–і—Г —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Ї—А–∞–є–љ–µ –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ —В–µ–∞—В—А–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–∞ –Њ—В —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є —А–∞–є–Њ–љ–∞, –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В–µ –ї–Є, –Т–∞—И–µ –°–Є—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—О –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–∞ –≤—Б–µ—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є, —З—В–Њ–±—Л, –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ —Б–Є–Љ, –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –Њ—В –Т–∞—И–µ–≥–Њ –°–Є—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П вАУ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є¬ї19. –Я–Њ –Є—В–Њ–≥–∞–Љ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ —Г—В–≤–µ—А–і–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–µ–Ј–Њ–ї—О—Ж–Є—П –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞: ¬Ђ–Я—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–є —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –њ–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Г–Ї–∞–ґ—Г—В –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є¬ї.
–Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –і–љ—П –≤ —И—В–∞–± –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –±—Л–ї –≤—Л–Ј–≤–∞–љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Љ—Г–Ј–µ—П –°.–°. –≠—Б–∞–і–Ј–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г, –≤–≤–Є–і—Г –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В–Њ–≤ –Ъ–Т–Ш–Ь, –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Љ—Г–Ј–µ—П. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –µ–≥–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–њ–Њ—А—В—Г –љ–∞ –Є–Љ—П –§.–Ґ. –†—П–±–Є–љ–Ї–Є–љ–∞ –Њ—В 18 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1914 –≥., –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П –≤ –љ–µ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М 1060 –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤: ¬Ђ...–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Ї–∞—А—В–Є–љ 25, –Љ–∞–ї—Л—Е –Ї–∞—А—В–Є–љ 120, –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е 15, –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–≤ –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є 146, –Љ–∞–љ–µ–Ї–µ–љ–Њ–≤ 30, –≤–Є—В—А–Є–љ 37, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ 687¬ї20. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ –њ—А–Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–Љ —И—В–∞–±–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –∞—А—Е–Є–≤ —Б 25 —В—Л—Б. –і–µ–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–∞–Ї–ґ–µ —А–µ—И–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞—В—М.
20 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1914 –≥. –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –§.–Ґ. –†—П–±–Є–љ–Ї–Є–љ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А—Г –Ъ–Т–Ш–Ь –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –≥. –°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М 21. –Ь–µ–љ–µ–µ —З–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –Љ–µ—Б—П—Ж, 16 —П–љ–≤–∞—А—П 1915 –≥. –°.–°. –≠—Б–∞–і–Ј–µ —А–∞–њ–Њ—А—В–Њ–≤–∞–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞, —З—В–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П ¬Ђ—Г–њ–∞–Ї–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ —П—Й–Є–Ї–Є –Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ –Ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ї –Љ–µ—Б—В—Г –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П¬ї22. –Т—Б–µ–≥–Њ –љ–∞ —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є—О –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Љ—Г–Ј–µ—П –±—Л–ї–Њ –Є–Ј—А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–Њ 21 258 —А—Г–±. 44 –Ї–Њ–њ., –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е 21 —В—Л—Б. —А—Г–±. вАУ –∞—Б—Б–Є–≥–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —И—В–∞–±–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞, –∞ 258 —А—Г–±. 44 –Ї–Њ–њ. вАУ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞. –Т —Н—В—Г —Б—Г–Љ–Љ—Г –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ј–∞–Ї—Г–њ–Ї–Є —Г–њ–∞–Ї–Њ–≤–Њ—З–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤, –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Њ—З–љ–Њ-—А–∞–Ј–≥—А—Г–Ј–Њ—З–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В, —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–≥—Г —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Є –≤—Л–њ–ї–∞—В–∞ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞–Љ –Љ—Г–Ј–µ—П —Б –∞–њ—А–µ–ї—П 1915 –њ–Њ –Є—О–ї—М 1916 –≥.23 –Т —З–Є—Б–ї–µ –љ–µ—Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є –Є –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П, –Ї–∞–Ї –±—Л–≤—И–∞—П –≤ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, —В–∞–Ї –Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –≤ —Б–∞–і—Г –њ–Њ –њ–µ—А–Є–Љ–µ—В—А—Г –Ј–і–∞–љ–Є—П 24.
20 —П–љ–≤–∞—А—П 1915 –≥. –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–µ –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ—Л –Є –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М (—А–Є—Б. 4). –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –Љ—Г–Ј–µ—П –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–є —Д—А–Њ–љ—В —Б—В–∞–±–Є–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Е–Њ–і–∞ –°–∞—А—Л–Ї–∞–Љ—Л—И—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Э.–Э. –Ѓ–і–µ–љ–Є—З–∞.

–†–Є—Б. 4. –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–є –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–µ. –Ю—В–Ї—А—Л—В–Ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XX –≤.

–†–Є—Б. 5. –Р–њ—В–µ–Ї–∞ –С–∞–є–≥–µ—А–∞. –≥. –°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М. 1930-–µ –≥–≥.
–Я–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ъ–Т–Ш–Ь –≤ –њ—Г–љ–Ї—В —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є 28 —П–љ–≤–∞—А—П 1915 –≥. –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –µ–≥–Њ —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ. –†–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Р.–Р. –°–Љ–Є—А–љ—Б–Ї–Є–є –≤ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ –°.–°. –≠—Б–∞–і–Ј–µ –Њ—В 24 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1915 –≥. –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї –Љ–µ—Б—В–Њ —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ: ¬Ђ–Ю—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, —П —Г–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ —Б—В–µ–љ—Л, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А–∞–љ—М—И–µ –±—Л–ї–Є –≤–Є–і–љ—Л –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Б—Л—А—Л–µ –њ—П—В–љ–∞, –њ–Њ–±–µ–ї–µ–љ—Л, –і–ї—П —Б–Њ–Ї—А—Л—В–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е, –Є –і–ї—П –Њ—Б—Г—И–Ї–Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Б—В–Њ—П—В –Љ–∞–љ–≥–∞–ї—Л. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Б—Л—А–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ–Њ –і–ї—П –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Љ—Г–Ј–µ—П —Г–ґ–µ –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤—А—П–і –ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –љ–µ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –≤—Б–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, —А–∞—Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—П —П—Й–Є–Ї–Є –і–Њ –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї–∞ (—З—В–Њ, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –і–µ–ї–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П, –Њ–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –њ–Њ—А—З–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞). –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –і–ї—П —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞—В—М—Б—П –њ—А–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ¬ї25. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Н—В–Њ, –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Њ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —А—П–і–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є: –≤ –і–Њ–Љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г–њ—Ж–∞ –Т–µ–љ–µ—Ж–Є–∞–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–µ, –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В –Є –њ–Њ–і–≤–∞–ї–∞—Е ¬Ђ–С–∞–є–≥–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є¬ї –∞–њ—В–µ–Ї–Є (—А–Є—Б. 5) –Є –њ–Њ–і–≤–∞–ї–∞—Е –і–Њ–Љ–∞ –Х—А–≥–∞–љ–ґ–Є–µ–≤–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Р—А—Е–Є–µ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж—Л. –°—Г–і—П –њ–Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–Љ
–і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ, –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П —Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–Є—Е –і–Њ –Љ–∞—П 1918 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П —И—В–∞–±–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –і–Њ–Љ–∞ –Т–µ–љ–µ—Ж–Є–∞–љ–Њ–≤–∞ –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј–µ–љ–Њ –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Є–Љ. –У.–Ъ. –Я—А–∞–≤–µ 26. –£–ґ–µ –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1923 –≥. –≤—Б–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Ъ–Т–Ш–Ь –±—Г–і–µ—В —А–µ—Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –°–∞—А–≥–Є—Б–∞ –Э–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ–∞–Ї–∞–±–∞–і–Ј–µ (—А–Є—Б. 6)27.

–†–Є—Б. 6. –Я—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –°.–Э. –Ъ–∞–Ї–∞–±–∞–і–Ј–µ (1886вАУ1967) вАУ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Є —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–≤–∞ –У—А—Г–Ј–Є–Є (1921вАУ1926)
–Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е —Б—А–Њ–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –Љ—Г–Ј–µ—П –≤ –°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї–µ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Є—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Н—В–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ —Б—Г–Љ–Љ—Л –Ј–∞—В—А–∞—В –љ–∞ –Њ–њ–ї–∞—В—Г –∞—А–µ–љ–і—Г–µ–Љ—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є –Є –Ј–∞–Ї—Г–њ–Ї—Г —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞ –і–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –≤ –љ–Є—Е —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ-–≤–ї–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞. –Э–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—Л –°.–°. –≠—Б–∞–і–Ј–µ –≤ –≤—Л—И–µ—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ –≤—Л–і–∞—З–µ –∞–љ—В—А–∞—Ж–Є—В–∞ 28 –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л.
–Я–Њ—Б–ї–µ —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –Ј–і–∞–љ–Є–µ –Ъ–Т–Ш–Ь –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ –љ–∞ —А–µ–Љ–Њ–љ—В, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В–∞–≤–Њ–Ї. –Ґ–∞–Ї, –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1916 –≥. –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј—П—Й–љ—Л—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї—Г —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В–∞ –і–ї—П —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —З–Є–љ–Њ–≤ —И—В–∞–±–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ 29, –∞ –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1917 –≥. –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Ј–∞–ї–Њ–≤ –Ъ–Т–Ш–Ь —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–љ–∞—Г—З–љ—Г—О –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї—Г –і—А–µ–≤–љ–µ–≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Д—А–µ—Б–Њ–Ї 30.
–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –Љ—Г–Ј–µ—П –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –Ъ–Т–Ш–Ь, –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—В–і–µ–ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —А–∞–±–Њ—В—Г –њ–Њ —Б–±–Њ—А—Г —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В–Њ–≤ –і–ї—П –Љ—Г–Ј–µ—П. –Ю—В–њ—А–∞–≤–ї—П—П –≤ –Є—О–ї–µ 1916 –≥. —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –ѓ. –С–Њ–љ–і–∞—А–µ–љ–Ї–Њ –≤ –°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М –і–ї—П –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –°.–°. –≠—Б–∞–і–Ј–µ –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Э–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О –Ј–∞–µ—Е–∞—В—М –љ–∞ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ь–Є–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Т–Њ–і –Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—Б—В–Є –і–ї—П –Ь—Г–Ј–µ—П –≤—Б–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–µ–µ—Б—П –і–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ—В–Ї—А—Л—В–Ї–Є, –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л, –≥—А–∞–≤—О—А—Л; —Г–Ј–љ–∞—В—М —Ж–µ–љ—Л –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є 13—Е18, —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –±—Г–Љ–∞–≥—Г. –Т —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ь–Є–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Т–Њ–і –±—Л–ї–Њ –±—Л –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П: —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –ї–µ—З–∞—В—Б—П –љ–∞ –≥—А—Г–њ–њ–∞—Е¬ї31. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—В–і–µ–ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В—Л –і–ї—П –Љ—Г–Ј–µ—П –Њ—В —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж. –Ґ–∞–Ї, 23 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1916 –≥. –Х. –Э–Є—В–Є–µ–≤–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –њ–Њ—А—В—А–µ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–µ–і–∞ вАУ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –У.–Ш. –Ъ–∞—А–≥–∞–љ–Њ–≤–∞ 32, –∞ 15 —П–љ–≤–∞—А—П 1917 –≥. –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –Э.–Э. –Ѓ–і–µ–љ–Є—З –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Ї –°.–°. –≠—Б–∞–і–Ј–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї: ¬Ђ–Я—А–µ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О –Т–∞–Љ –і–ї—П —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ –Њ—А–і–µ–љ —Б–≤. –Р–љ–љ—Л, –Ј–≤–µ–Ј–і—Г –Њ—А–і–µ–љ–∞ —Б–≤. –У–µ–Њ—А–≥–Є—П, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Г –Ъ–Њ—В–ї—П—А–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г 33, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –µ–≥–Њ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї—Г. –Я—А–µ–і–Љ–µ—В—Л —Н—В–Є –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ—Л –≤ –і–∞—А –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Ы–µ–Њ–љ–Є–і–Њ–Љ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Ю—А—И–∞–≤–Њ-–Ю—А–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ, –ґ–Є–≤—Г—Й–Є–Љ –≤ –°—В–∞—А–Њ–і—Г–±–µ –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є¬ї34.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Љ—Г–Ј–µ–є. –Т 1920 –≥. –≤–ї–∞—Б—В–Є –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –У—А—Г–Ј–Є–Є –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М –≤ –њ—Г—Б—В—Г—О—Й–µ–Љ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –Ъ–Т–Ш–Ь –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Г—О —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≥–∞–ї–µ—А–µ—О 35. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –Љ—Г–Ј–µ—П –Є–Ј –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Д–Є–ї—П —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Њ—З–љ–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Ъ–Т–Ш–Ь —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤–µ—А–љ—Г—В—М –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б, –Њ–љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ –≤–Њ—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, –Є –≤—Б–µ —П—Й–Є–Ї–Є —Б —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–љ—Л –љ–∞ —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞—А—Е–Є–≤. –Ф–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –°.–°. –≠—Б–∞–і–Ј–µ –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Љ—Г–Ј–µ–є —Г–і–∞—Б—В—Б—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М. 3 —П–љ–≤–∞—А—П 1922 –≥. –≤ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–µ –Ї ¬Ђ–Я—А–Њ–µ–Ї—В—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Њ–њ—Л—В–∞ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ¬ї –±—Л–≤—И–Є–є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Љ—Г–Ј–µ—П –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ–љ–Є–µ: ¬Ђ–С—Л–ї–Њ –±—Л –Ї—А–∞–є–љ–µ –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ь—Г–Ј–µ–є –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј—В–Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б –≤ —Б–≤–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –У–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–µ, –њ—А–Є—З–µ–Љ —В–∞–Љ –ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –Є –Ь—Г–Ј–µ–є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є¬ї36. –Т –Є—В–Њ–≥–µ, –Љ—Г–Ј–µ–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –±—Л–ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ, –љ–Њ —Б 1925 –≥. —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –У—А—Г–Ј–Є–Є —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ–Њ—Й—А—П—В—М—Б—П –њ–µ—А–µ–і–∞—З–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –Ъ–Т–Ш–Ь –≤ –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П (–С–∞–Ї—Г, –Ь–∞—Е–∞—З–Ї–∞–ї–∞, –У—А–Њ–Ј–љ—Л–є, –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–і–∞—А).
–Ґ–∞–Ї –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –љ–µ–і–Њ–Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ –Љ—Г–Ј–µ–є –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М. –Э–∞ –љ–Њ–≤–Њ–Љ –≤–Є—В–Ї–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–Љ: –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –Є—Б—З–µ–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ —Б –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—В—Л –Љ–Є—А–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є —Б—В–∞–ї–Є —А–∞–Ј—А—Г—И–∞—В—М—Б—П –Є –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –µ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є.
1 –Ь–∞—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Х.–Т. –Ь–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ 1914вАУ1917 –≥. (—Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—З–µ—А–Ї). –Я–∞—А–Є–ґ: ¬ЂLa Renaissance¬ї, 1933. –°. 20вАУ21.
2 –Ъ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ–є–љ—Л –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –°—В–∞–≤–Ї–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–±—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є —Д—А–Њ–љ—В –і–≤–∞ –Є–Ј —В—А–µ—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–Є—Е –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї—Г—О –∞—А–Љ–Є—О.
3 –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ъ–Т–Ш–Ь —Б–Љ.: –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ—З–Є–Ї –Р.–Э. –Ь–µ—Б—В–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –≤ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є (–љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П) // ¬Ђ–Р—Е—Г–ї—М–≥–Њ, –Ф–∞–≥–µ—Б—В–∞–љ, –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –§—А–∞–љ—Ж–∞ –†—Г–±–Њ¬ї. –Ъ 155-–ї–µ—В–Є—О —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –§.–Р. –†—Г–±–Њ –Є 120-–ї–µ—В–Є—О –њ–µ—А–≤–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ—Л ¬Ђ–®—В—Г—А–Љ –Р—Е—Г–ї—М–≥–Њ¬ї: –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –љ–∞—Г—З.-–њ—А–∞–Ї—В. –Ї–Њ–љ—Д. 27вАУ30 –Љ–∞—А—В–∞ 2012 –≥. –Ь–∞—Е–∞—З–Ї–∞–ї–∞: RIZO-PRESS, 2012. –°. 48вАУ70.
4 –Я–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –і–∞–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Њ—В—З–µ—В –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Ї—Ж–Є–µ–є –њ–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Т. –†–∞–Ї—И–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В 1 –Є—О–ї—П 1921 –≥. –Т –Њ—В—З–µ—В–µ –Њ–љ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї –Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞—Е –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –Ъ–Т–Ш–Ь –≤ 1918 –≥. –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –Љ—Г–Ј–µ–є –Є–Љ. –У.–Ъ. –Я—А–∞–≤–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б —П–љ–≤–∞—А—П 1915 –≥. –±—Л–ї–Є —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Є–Ј –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–∞ –≤ –°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Ї—Ж–Є–µ–є –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–∞ —Б–Ї—А—Г–њ—Г–ї–µ–Ј–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О –Є –њ—А–Є–љ—П—В–Є—О –љ–∞ —Г—З–µ—В —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В–Њ–≤ –Ъ–Т–Ш–Ь, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–Ј –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤ (–У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–µ —В—А—Г–±—Л, –±—А–∞—В–Є–љ—Л, –Ї–Њ–≤—И–Є, —Б—В–∞–Ї–∞–љ—Л, —З–∞—А–Ї–Є, –ї–Њ–ґ–Ї–Є, –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞ –і–ї—П —Б–∞–ї—Д–µ—В–Њ–Ї, –љ–Њ–ґ–Є, –≤–Є–ї–Ї–Є), –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–µ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —З–∞—Б—В—П–Љ–Є –љ–∞ —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –Ъ–Т–Ш–Ь. –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ —Б–Љ.: –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞—А—Е–Є–≤ –°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –У–Р–°–Ъ). –§. —А-645. –Ю–њ. 1. –Ф. 10. –Ы. 4.
5 –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–Є–≤ –У—А—Г–Ј–Є–Є (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –¶–У–Ш–Р–У). –§. 1087. –Ю–њ. 1. –Ф. 123. –Ы. 561.
6 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 584.
7 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.
8 –Т 2007вАУ2010 –≥–≥. –Ј–і–∞–љ–Є–µ –Љ—Г–Ј–µ—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–і–∞ –Ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Б—В–µ–љ–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–≤—И–∞—П —А–∞—Б—И–Є—А–Є—В—М –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≥–∞–ї–µ—А–µ–Є –У—А—Г–Ј–Є–Є.
9 –Э–Ш–Ю–† –†–У–С. –§. 58. –Ъ–∞—А—В–Њ–љ 79. –Х–і. —Е—А. 16. –Я—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–µ –Є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –ї–Є—Ж —Б–≤–Є—В—Л –Є —З–Є–љ–Њ–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II; –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–µ // –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј (вДЦ 271) –Њ—В 29 –љ–Њ—П–±—А—П 1914 –≥. –°. 1; –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А—М –љ–∞ 1915 –≥. / –Я–Њ–і —А–µ–і. –Р.–Р. –≠–ї—М–Ј–µ–љ–≥–µ—А–∞, –Э.–Я. –°—В–µ–ї—М–Љ–∞—Й—Г–Ї–∞. –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б: –Ґ–Є–њ. –Ъ–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є–Є –Э–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –Х.–Ш.–Т. –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ, 1914. –°. VIII.
10 –¶–У–Ш–Р–У. –§. 1087. –Ю–њ. 1. –Ф. 123. –Ы. 584.
11 –Я—Г—В–µ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –њ–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ—Г–Ј–µ—О / –Т–Њ–µ–љ.-–Є—Б—В. –Њ—В–і. –њ—А–Є –®—В–∞–±–µ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ. –Њ–Ї—А. 5-–µ –Є–Ј–і. –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б: –Ґ–Є–њ. –®—В–∞–±–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ. –Њ–Ї—А., 1915. –°. V.
12 –Ю—А–ї–Њ–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З (1867вАУ1927) вАУ –Ї–љ—П–Ј—М, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А. –Т—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II –Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ.
13 –Ь—Л—И–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ч–∞—Е–∞—А—М–µ–≤–Є—З (1856вАУ1920) вАУ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є, –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –і–Њ –Љ–∞—А—В–∞ 1915 –≥.
14 –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–≤–Є—З –Р.–Ш. –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –Є –§–µ–≤—А–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П: –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –Ь–µ–Љ—Г–∞—А—Л. –Ь–Є–љ—Б–Ї: –•–∞—А–≤–µ—Б—В, 2004. –°. 38.
15 –Р—А—Г—В—О–љ—П–љ –Р.–Ю. –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–є —Д—А–Њ–љ—В. 1914вАУ1917. –Х—А–µ–≤–∞–љ: –Р–є–∞—Б—В–∞–љ, 1971. –°. 150.
16 –Ъ–Њ—А—Б—Г–љ –Э.–У. –°–∞—А—Л–Ї–∞–Љ—Л—И—Б–Ї–∞—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ 1914вАУ1915 –≥–Њ–і—Г. –Ь.: –У–Њ—Б. –≤–Њ–µ–љ. –Є–Ј–і-–≤–Њ –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–∞—В–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –°–Њ—О–Ј–∞ –°–°–†, 1937. –°. 78.
17 –Ь–∞—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Х.–Т. –Ь–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ 1914вАУ1917 –≥. –°. 133вАУ134.
18 –С–Є–≥–∞–µ–≤ –Э.–Р. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–Є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ (–≤ —Б–≤–µ—В–µ –ї–Є—З–љ—Л—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є) (1902вАУ1917) / –Я—Г–±–ї. –Ь.–Т. –°–Є–і–Њ—А–Њ–≤–Њ–є // –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –Р—А—Е–Є–≤: –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е XVIIIвАУXX –≤–≤.: –Р–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е. –Ь.: –°—В—Г–і–Є—П –Ґ–†–Ш–Ґ–≠, 2003. –Ґ. XII. –°. 418.
19 –¶–У–Ш–Р–У. –§. 1087. –Ю–њ.1. –Ф. 212. –Ы. 6.
20 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 2вАУ2 –Њ–±.
21 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 7.
22 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 16.
23 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 148 –Њ–±.
24 ¬ЂвА¶ –Я–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П¬ї: –Т–Њ—А–Њ–±—М–µ–≤ –Ґ.–Ш. –У–Є–±–µ–ї—М ¬Ђ–•—А–∞–Љ–∞ –°–ї–∞–≤—Л¬ї / –Я—Г–±–ї. –У.–Ш. –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤–Њ–є // –Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї –Ь—Г–Ј–µ—П-–њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ—Л ¬Ђ–С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–∞—П –±–Є—В–≤–∞¬ї. 2006. –Т—Л–њ. III. –°. 121.
25 –¶–У–Ш–Р–У. –§. 1087. –Ю–њ. 1. –Ф. 212. –Ы. 50.
26 –У–Р–°–Ъ. –§. —А-645. –Ю–њ. 1. –Ф. 10. –Ы. 4.
27 –Ф–Њ–Ї–ї–∞–і —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Є–∞—В–∞ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –У—А—Г–Ј–Є–Є –°.–Э. –Ъ–∞–Ї–∞–±–∞–і–Ј–µ –љ–∞ –Є–Љ—П –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–∞ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –У—А—Г–Ј–Є–Є –Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ —А–µ—Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є —Б —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –У—А—Г–Ј–Є—О –∞—А—Е–Є–≤–Њ–≤ –Є –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤ 1923 –≥. // –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї. 1924. –Ъ–љ. 1. –°. 280.
28 –Р–љ—В—А–∞—Ж–Є—В вАУ –ї—Г—З—И–Є–є —Б–Њ—А—В –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–≥–ї—П, –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–њ–ї–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М—О.
29 –¶–У–Ш–Р–У. –§. 1087. –Ю–њ. 1. –Ф. 123. –Ы. 589.
30 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 602; –§. 17. –Ю–њ.1. –Ф. 8609. –Ы. 146.
31 –¶–У–Ш–Р–У. –§. 1087. –Ю–њ. 1. –Ф. 212. –Ы. 73вАУ73 –Њ–±.
32 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 601.
33 –Ъ–Њ—В–ї—П—А–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Я–µ—В—А –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З (1782вАУ1852) вАУ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.
34 –¶–У–Ш–Р–У. –§. 1087. –Ю–њ. 1. –Ф. 1125. –Ы. 6.
35 –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б –Є –µ–≥–Њ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є: –Я—Г—В–µ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М / –°–Њ—Б—В. —В—Г—А–Є—Б—В. –Њ—В–і. –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д. –Њ-–≤–∞ –У—А—Г–Ј–Є–Є –њ–Њ–і. —А–µ–і. –Ш.–Р. –Р—Б–ї–∞–љ–Є—И–≤–Є–ї–Є. –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б: –¶–µ—А–Ї—Г–Љ—Б–Є, 1925. –°. 140.
36 –¶–У–Ш–Р–У. –§. 1087. –Ю–њ. 2. –Ф. 22. –Ы. 7 –Њ–±.

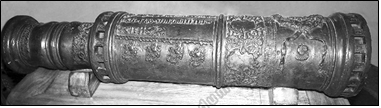


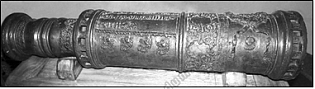




–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є