ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذµ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ² ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾ذ±ذ»ذ°رپر‚ذ¸ ذ² 1941–1944: ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ²ذ°رڈ ر‚ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛ذ° ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¹, ذڑذ¾ذ»ذ¾ر‚رƒرˆذ؛ذ¸ذ½ ذ’.ذ“. (ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¸ذ¹ ذذ¾ذ²ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´)
ذœذ¸ذ½ذ¸رپر‚ذµر€رپر‚ذ²ذ¾ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¤ذµذ´ذµر€ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ°رڈ ذگذ؛ذ°ذ´ذµذ¼ذ¸رڈ ر€ذ°ذ؛ذµر‚ذ½ر‹ر… ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ½ذ°رƒذ؛ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ رپذ²رڈذ·ذ¸ ذ’ذ¾ذ¹ذ½ذ° ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذذ¾ذ²ر‹ذµ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ¢ر€رƒذ´ر‹ ذںرڈر‚ذ¾ذ¹ ذœذµذ¶ذ´رƒذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ½ر„ذµر€ذµذ½ر†ذ¸ذ¸ 14–16 ذ¼ذ°رڈ 2014 ذ³ذ¾ذ´ذ°
ذ§ذ°رپر‚رŒ IIذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³
ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ، 2014
آ© ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ،, 2014
آ© ذڑذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر‚ذ¸ذ² ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ², 2014
ذذ”ذذذ™ ذکذ— ذ¤ذذ ذœ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ ذ² ذ³ذ¾ذ´ر‹ ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹ ذر‚ذµر‡ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ رڈذ²ذ»رڈذ»ذ¸رپرŒ ر€ذµذ¹ذ´ر‹ ذ؟ذ¾ ر‚ر‹ذ»ذ°ذ¼ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°1. ذ،ذ¾ذ³ذ»ذ°رپذ½ذ¾ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رژ ذ’.ذ. ذگذ½ذ´ر€ذ¸ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ°, ر€ذµذ¹ذ´ – رچر‚ذ¾ آ«رپذ¾ذ²ذ¾ذ؛رƒذ؟ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ±ذ¾ذµذ², ذ´ذ¸ذ²ذµر€رپذ¸ذ¾ذ½ذ½ذ¾-ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‹ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ¼ذ°رپرپذ¾ذ²ذ¾-ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸, ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ر‹ر… ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ذ°ذ¼ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ؟رƒر‚ذ¸ رپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ, ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ¸ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ر‹ رƒر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¸ ذ½ذ° ذ´ذ»ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذµ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ¸ذ· ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ¾ذ² رپذ²ذ¾ذµذ³ذ¾ ذ±ذ°ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ذ؛ذ¸ذ´ذ°ذ»ذ¸ ذ¸ر… ذ²ذ¾ذ²رپذµآ»2. ذ’ ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذ¹ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ²ر‹ذµ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ر‹ رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ½ذ°ر€رڈذ´رƒ رپ ذ±ذ°ذ·ذ¾ذ²ر‹ذ¼ذ¸, رپر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ² ذ¾ذ؛ذ؛رƒذ؟ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ°ر…. ذ، ذ؟ذ¾ر‚ذµر€ذµذ¹ ذ±ذ°ذ· ذ¼ذµرپر‚ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ°ذ¼ذ¸ رچر‚ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ¸رڈ رپر‚ذ¸ر€ذ°ذ»ذ¸رپرŒ3.
ذ ذµذ¹ذ´ذ¾ذ²ذ°رڈ ر‚ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛ذ° ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ ذ±ر‹ذ»ذ° ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ½ذ° ذ´ذ»رڈ ذ،ذµذ²ذµر€ذ¾-ذ—ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ° ذ ذ،ذ¤ذ،ذ : ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾ذ±ذ». ذ¸ ذڑذ°ر€ذµذ»ذ¾-ذ¤ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ،ذ،ذ . ذڑذ°ذ؛ ذ؟ذ¸رپذ°ذ» ذ² رپذ²ذ¾ذ¸ر… ذ²ذ¾رپذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ½ذ¸رڈر… ذ±ر‹ذ²رˆذ¸ذ¹ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ذ¸ذ؛ ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ¾ر‚ذ´ذµذ»ذ° 5-ذ¹ ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ر‹ (ذ´ذ°ذ»ذµذµ – ذ›ذںذ‘) ذک.ذک. ذکرپذ°ذ؛ذ¾ذ², ذ·ذ°ر€ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµ ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ر‚ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛ذ¸ ذ² رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾ذ¼ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¼ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ¾رˆذ»ذ¾ ذ² ر‚ر‹ذ»رƒ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¹ آ«ذ،ذµذ²ذµر€آ»4. ذ،ر€ذµذ´ذ¸ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ر‚ذ°ذ؛رƒرژ ر‚ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛رƒ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½ذ¸ذ»ذ° 2-ذ¹ ذ¾رپذ¾ذ±ذ°رڈ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ°رڈ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ° (ذ´ذ°ذ»ذµذµ – ذذںذ‘), ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ°رڈ ذ²ذµذ»ذ° ذ±ذ¾ذµذ²ر‹ذµ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ½ذ° ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذڑذ°ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾ذ±ذ». ذ´ذ¾ ذ؛ذ¾ذ½ر†ذ° ذ¼ذ°ر€ر‚ذ° 1942 ذ³.5 ذ ذµذ¹ذ´ر‹ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ¸ ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ رپذ»ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ذ¹ ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¾ذ¹ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذ¹ رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¸ر… ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ر‚ر€ذµذ±ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذµرˆذµذ½ذ¸رڈ ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ر… ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡ (ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸ذµ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ¼ذ°ر€رˆر€رƒر‚رƒ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ² ر€ذ°ذ´ذ¸رƒرپذµ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذ¹ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½, رپذ½ذ°ذ±ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒرپر‚ذ²ذ¸ذµذ¼ ذ¸ ذ±ذ¾ذµذ؟ر€ذ¸ذ؟ذ°رپذ°ذ¼ذ¸, ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذµذ½ذ¸ذµ رپذ²رڈذ·ذ¸, ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸ذµ ذ±ذ¾ذµذ²ر‹ر… ذ·ذ°ذ´ذ°ذ½ذ¸ذ¹, ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ¼ذµرپر‚ذ½ر‹ر… رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ¹, رƒذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ¸ذµ رپذ²رڈذ·ذ¸ رپ ذ½ذ°رپذµذ»ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¸ ر‚. ذ´.)6.
ذ‘ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذµ ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ² ر€ذ°ذ·ذ²ذ¸ر‚ذ¸ذ¸ ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ر‚ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛ذ¸ ذ½ذ° رپذµذ²ذµر€ذ¾-ذ·ذ°ذ؟ذ°ذ´ذµ ذ¸ذ¼ذµذ» ذ³ذµذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ر„ذ°ذ؛ر‚ذ¾ر€7. ذœذ°ر€رˆر€رƒر‚ ذ¸ ذ¾ذ±رٹذµذ؛ر‚ر‹ ر€ذµذ¹ذ´ذ° ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ذ¾ ذ؟ذ»ذ°ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ² رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾ذ¼ ر‚ر‹ذ»رƒ. ذ’ ر€ذµذ¹ذ´ذµ ذ² ذ·ذ°ذ²ذ¸رپذ¸ذ¼ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾ر‚ ذµذ³ذ¾ ر†ذµذ»ذ¸ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸ رƒر‡ذ°رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ؛ذ°ذ؛ ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ذµ رپذ¾ذµذ´ذ¸ذ½ذµذ½ذ¸رڈ (ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ر‹, ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¸, ذ±ذ°ر‚ذ°ذ»رŒذ¾ذ½ر‹), ر‚ذ°ذ؛ ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‹ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾-ذ´ذ¸ذ²ذµر€رپذ¸ذ¾ذ½ذ½ر‹ذµ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ر‹ ذ¸ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¸ذ¼ رˆر‚ذ°ذ±ذ¾ذ¼ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ (ذ´ذ°ذ»ذµذµ – ذ›ذ¨ذںذ”) ذ² 1941–1942 ذ³ذ³. ذ’ 1942 ذ³. رˆر‚ذ°ذ± ذ¾ر‚ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»رپرڈ ذ¾ر‚ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ²ر‹ر… ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¹, ذ±ذ°ذ·ذ¸ر€رƒرژر‰ذ¸ر…رپرڈ ذ² رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾ذ¼ ر‚ر‹ذ»رƒ ذ¸ذ»ذ¸ ذ½ذ° ذ¾رپذ²ذ¾ذ±ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¾ر‚ ذ¾ذ؛ذ؛رƒذ؟ذ°ذ½ر‚ذ¾ذ² ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ (ذ² ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¼ ذ؛ر€ذ°ذµ), ذ¸ رپذ¾رپر€ذµذ´ذ¾ر‚ذ¾ر‡ذ¸ذ»رپرڈ ذ½ذ° ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ؟ذ¾رپر‚ذ¾رڈذ½ذ½ذ¾ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ² ر‚ر‹ذ»رƒ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ²ذ؟ذ»ذ¾ر‚رŒ ذ´ذ¾ ذ¾رپذ²ذ¾ذ±ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ·ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ر‹ر… ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ¾ذ² ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾ذ±ذ». ذ² ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذµ 1944 ذ³.
ذ›ذµر‚ذ¾ذ¼ 1942 ذ³. ذ›ذ¨ذںذ” ر€ذ°ذ·ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ» ذ؟ذ»ذ°ذ½ ذ±ذ¾ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ½ذ° ذ¾ذ؛ذ؛رƒذ؟ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸, رپذ¾ذ³ذ»ذ°رپذ½ذ¾ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¼رƒ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ر‹, ذ±ذ°ذ·ذ¸ر€رƒرژر‰ذ¸ذµرپرڈ ذ² ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¼ ذ؛ر€ذ°ذµ, ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ر‹ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ؟ذµر€ذµذ¹ر‚ذ¸ ذ² ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذµ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ر‹ ذ¾ذ±ذ»ذ°رپر‚ذ¸ رپ ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡ذµذ¹ ذ¼ذ°ذ؛رپذ¸ذ¼ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر…ذ²ذ°ر‚ذ° ذ½ذ°رپذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ8. ذ”ذ°ذ»ذµذ؛ذ¾ ذ½ذµ ذ²ذ¾ ذ²رپذµر… ذ¾ذ؛ذ؛رƒذ؟ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ°ر… ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾ذ¼رƒ ر€رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²رƒ رƒذ´ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذµ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ. ذںذ¾ ذ²ذ¾رپذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ½ذ¸رڈذ¼ ذ±ر‹ذ²رˆذµذ³ذ¾ ذ؟ر€ذµذ´رپذµذ´ذ°ر‚ذµذ»رڈ ذ—ذ°رƒذ؟ذ¾ر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ رپذµذ»رŒرپذ¾ذ²ذµر‚ذ° ذ‘ذ°ر‚ذµر†ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ° ذ“.ذ“. ذ،ذµذ¼ذµذ½ذ¾ذ²ذ°, ذ² ذµذ³ذ¾ ر€ذ¾ذ´ذ½ر‹ر… ذ¼ذµرپر‚ذ°ر… ذ¾ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ذ°ر… ذ؟ذ¾ر‡ر‚ذ¸ ذ½ذ¸ر‡ذµذ³ذ¾ ذ½ذµ رپذ»ر‹رˆذ°ذ»ذ¸ ذ½ذ° ذ؟ر€ذ¾ر‚رڈذ¶ذµذ½ذ¸ذ¸ 2 ذ»ذµر‚, ر‚. ذµ. ذ´ذ¾ ذ½ذ¾رڈذ±ر€رڈ 1943 ذ³., ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ¸ذ· ذ£ر‚ذ¾ر€ذ³ذ¾رˆرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ° ذ±ر‹ذ» ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ رƒذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ذ¼ذ¾ر‡ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ 5-ذ¹ ذ›ذںذ‘9.
ذ،ذ¾ذ³ذ»ذ°رپذ½ذ¾ ذ؟ذ»ذ°ذ½رƒ, ذ² ذ¸رژذ½ذµ 1942 ذ³. ذ¾ذ؟ذµر€ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ° ذ؟ر€ذ¸ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼ ذ،ذ¾ذ²ذµر‚ذµ ذ،ذµذ²ذµر€ذ¾-ذ—ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ° ذ؟ذ¾ر‚ر€ذµذ±ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ° ذ¾ر‚ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ 4-ذ¹ ذ›ذںذ‘ ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ·ذ´ذ½ذµذµ 21–23 ذ¸رژذ½رڈ 1942 ذ³. ذ²ر‹ذ²ذµرپر‚ذ¸ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´رƒ ذ¸ذ· ذ؛ر€ذ°رڈ ذ² ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذ¹ ذ¸ رپذ¾ذ²ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾ رپ 1-ذ¹ ذذںذ‘ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ½ذ¾ذ²ر‹ذ¹ رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¸ذ¹ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ رپ ذ¾ر…ذ²ذ°ر‚ذ¾ذ¼ ذ½ذ°رپذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذںذ¾ر€ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾, ذڑذ°ر€ذ°ذ¼ر‹رˆذµذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾, ذںرپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذذ¾ذ²ذ¾رپذµذ»رŒرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ¾ذ². ذںذ¾رپذ»ذµ ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ذ° ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ½ذ¾ذ¹ ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¸ ذ¸ رˆذ¾رپرپذµ ذ”ذ½ذ¾ – ذ‘ذµذ¶ذ°ذ½ذ¸ر†ر‹ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ° ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ذ° ذ±ر‹ذ»ذ° ذ¸ذ´ر‚ذ¸ رˆذ¸ر€ذ¾ذ؛ذ¸ذ¼ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ¾ذ¼10. ذ”ذ²ذµ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ر‹ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ر‹ ذ±ر‹ذ»ذ¸ رپذ¾ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ر‚رŒ ذ؛ ذ»ذ°ر‚ذ²ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر†ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ آ«ذ—ذ° ذ،ذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛رƒرژ ذ›ذ°ر‚ذ²ذ¸رژآ»11. ذœذ°ر€رˆر€رƒر‚ ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ذ° ذ±ر‹ذ» ذ² ر‚ذµر‡ذµذ½ذ¸ذµ 10 رپرƒر‚ذ¾ذ؛ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ ذ´ذ²رƒذ¼رڈ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ°ذ¼ذ¸: رپر‚ذ°ر€رˆذµذ³ذ¾ ذ»ذµذ¹ر‚ذµذ½ذ°ذ½ر‚ذ° ذ”.ذœ. ذ“ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ° ذ¸ذ· 1-ذ¹ ذذںذ‘ (4 ر‡ذµذ».) ذ¸ ذ’.ذک. ذڑرƒر…ذ°ر€ذµذ²ذ° ذ¸ذ· 4-ذ¹ ذ›ذںذ‘ (5 ر‡ذµذ».). ذذµ ذ´ذ¾ذ¶ذ¸ذ´ذ°رڈرپرŒ ذ²ذ¾ذ·ذ²ر€ذ°ر‰ذµذ½ذ¸رڈ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟, 20 ذ¸رژذ½رڈ 1942 ذ³. 4-رڈ ذ›ذںذ‘ ذ¸ ذ»ذ°ر‚ر‹رˆرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ ذ²ر‹ذ´ذ²ذ¸ذ½رƒذ»ذ¸رپرŒ ذ¸ذ· ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ر€ذ°رڈ. ذںذ¾رپذ»ذµ ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ذ° ذ’ذ¸ر‚ذµذ±رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ½ذ¾ذ¹ ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¸ ذ² ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذµ ر€ذ°ذ·رٹذµذ·ذ´ذ° ذ،رƒذ´ذ¾ذ¼ذ° ذ¸ ر€. ذ،رƒذ´ذ¾ذ¼ذ° ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذµذ½ ذ±ر‹ذ» ذ¸ذ´ر‚ذ¸ ذ² ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ³. ذرپر‚ر€ذ¾ذ²ذ°, ذ° 4-رڈ ذ›ذںذ‘ – ذ² ذںذ¾ر€ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذ¹ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½. ذںر€ذ¸ ر„ذ¾ر€رپذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ر€ذµذ؛ذ¸ ذ² ذ½ذ¾ر‡رŒ ذ½ذ° 22 ذ¸رژذ½رڈ 1942 ذ³. ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‹ رپر‚ذ¾ذ»ذ؛ذ½رƒذ»ذ¸رپرŒ رپ ذ؛ذ°ر€ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ذ¸ ر‡ذ°رپر‚رڈذ¼ذ¸ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رڈذ¼ذ¸ ذ¸ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ²ر‹ذ½رƒذ¶ذ´ذµذ½ر‹ ذ´ذ²ذ¸ذ³ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ½ذ° رژذ³. ذر‚ ذ´ذµر€ذµذ²ذµذ½رŒ ذںر€ذ¸ذ³ذ¾ذ½ذ¸ ذ¸ ذ¨رƒذ±ذ¸ذ½ذ¾ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ° رˆذ»ذ° ذ½ذµ ذ؛ذ¾ذ»ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ¹, ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾, ذ¾ر…ر€ذ°ذ½رڈرڈ ذ»ذ°ر‚ر‹رˆرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛: ذ½ذ° ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¾ذ¼ ر„ذ»ذ°ذ½ذ³ذµ ذ´ذ²ذ¸ذ³ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ر‹ â„– 67 ذ’.ذں. ذ—رƒذµذ²ذ° ذ¸ â„– 69 ذ.ذ’. ذœذ¾ر€ذ¾ذ·ذ¾ذ²ذ°, ذ° ذ½ذ° ذ»ذµذ²ذ¾ذ¼ – â„– 68 ذ،.ذ. ذ§ذµذ±ر‹ذ؛ذ¸ذ½ذ° ذ¸ â„– 66 ذک.ذک. ذ“ر€ذ¾ذ·ذ½ذ¾ذ³ذ¾12. ذڑ 24 ذ¸رژذ½رڈ 1942 ذ³. ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‹ ذ²ر‹رˆذ»ذ¸ ذ؛ ذ´. ذ’ر‹رˆذµذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´, ذ³ذ´ذµ ذ²رپر‚ر€ذµر‚ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ رپ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ¾ذ¹ ذ’.ذک. ذڑرƒر…ذ°ر€ذµذ²ذ°. ذ’ ذ´. ذڑذ¸ذµذ²ذ؛ذ° ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ° ر€ذ°رپرپر‚ذ°ذ»ذ°رپرŒ رپ ذ»ذ°ر‚ر‹رˆرپذ؛ذ¸ذ¼ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ¼, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ¸ذ» ذ؟رƒر‚رŒ ذ² رژذ³ذ¾-ذ·ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ¼ ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸. ذ،ر‚ذ¾ذ»ذ؛ذ½رƒذ²رˆذ¸رپرŒ رپ ذ؟ر€ذµرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼ ذ؛ذ°ر€ذ°ر‚ذµذ»ذµذ¹ ذ² ذ¼ذ°رپرپذ¸ذ²ذµ ذ“ر€ذ¾ذ¼رƒذ»ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ»ذµرپذ¾ذ², ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ° 3 ذ¸رژذ»رڈ 1942 ذ³. ذ²ذ½ذ¾ذ²رŒ ذ²ر‹رپر‚رƒذ؟ذ¸ذ»ذ° ذ² ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ؛ر€ذ°ذ¹, ذ؛رƒذ´ذ° ذ²ذµر€ذ½رƒذ»ذ°رپرŒ 7 ذ¸رژذ»رڈ 1942 ذ³. ذ’ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´رپر‚ذ²ذ¸ذ¸ ذ±ر‹ذ²رˆذ¸ذ¹ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ر‹ ذگ.ذں. ذ›رƒر‡ذ¸ذ½, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ½ذµ رƒر‡ذ°رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ» ذ² رچر‚ذ¾ذ¼ ر€ذµذ¹ذ´ذµ (ذ² ذ¼ذ°ذµ 1942 ذ³. ذ¾ذ½ ذ±ر‹ذ» رچذ²ذ°ذ؛رƒذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ ذ² رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¸ذ¹ ر‚ر‹ذ» ذ² رپذ²رڈذ·ذ¸ رپ ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ¸ذµذ¼), ذ²رپذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ», ر‡ر‚ذ¾ ذ½ذ°رپذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ´ذµر€ذµذ²ذµذ½رŒ ذ² ر†ذµذ»ذ¾ذ¼ ر€ذ°ذ´رƒرˆذ½ذ¾ ذ¸ ذ³ذ¾رپر‚ذµذ؟ر€ذ¸ذ¸ذ¼ذ½ذ¾ ذ²رپر‚ر€ذµر‡ذ°ذ»ذ¾ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ ذ¸ ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ؟ر€ذ¾رپذ¸ذ»ذ¾ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ر‹ ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر‰ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ½ذ° ذ؟ذ¾رپر‚ذ¾ذ¹ ذ½ذµ ذ² ذ»ذµرپرƒ, ذ° ذ² ذ´ذµر€ذµذ²ذ½رڈر…13. ذ—ذ° ذ²ر€ذµذ¼رڈ ر€ذµذ¹ذ´ذ° ذ؛ ذ»ذ¸ر‡ذ½ذ¾ذ¼رƒ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²رƒ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ر‹ ذ؟ر€ذ¸رپذ¾ذµذ´ذ¸ذ½ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ ذ´ذ¾ 20 ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ؟ذ»ذµذ½ذ½ر‹ر…, ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ±ر‹ذ²رˆذ¸ذ¹ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€ رپر‚ر€ذµذ»ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ° ذ¼ذ°ذ¹ذ¾ر€ ذ¢.ذگ. ذذ¾ذ²ذ¸ذ؛ذ¾ذ². ذ¢ذµذ¼ ذ½ذµ ذ¼ذµذ½ذµذµ, ر€ذµذ¹ذ´ ذ±ر‹ذ» ذ؟ر€ذ¸ذ·ذ½ذ°ذ½ ذ½ذµرƒذ´ذ°ر‡ذ½ر‹ذ¼, ذ؛ذ¾ذ¼ذ±ر€ذ¸ذ³ذ° ذ¼ذ°ذ¹ذ¾ر€ذ° ذک.ذœ. ذڑذ¸رڈذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¼ذµذ½ذ¸ذ» ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذ¹ رپذµذ؛ر€ذµر‚ذ°ر€رŒ ذ،ر‚ذ°ر€ذ¾ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ؛ذ¾ذ¼ذ° ذ’ذڑذں(ذ±) ذ،.ذœ. ذ“ذ»ذµذ±ذ¾ذ².
ذ’ذ¾ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ· ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ° ذ²ر‹رˆذ»ذ° ذ¸ذ· ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ر€ذ°رڈ 29 ذ¸رژذ»رڈ 1942 ذ³., ذ½ذ¾ ذ²ذµر€ذ½رƒذ»ذ°رپرŒ ذ² ذ؛ر€ذ°ذ¹ ذ¸ذ·-ذ·ذ° ذ½ذµذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ذ° ذ’ذ¸ر‚ذµذ±رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ½ذ¾ذ¹ ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¸ ذ½ذ° رƒر‡ذ°رپر‚ذ؛ذµ ذ¨ذ¸ذ»ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€رƒر‡رŒرڈ. 7–12 ذ°ذ²ذ³رƒرپر‚ذ° 1942 ذ³. ذ¾ر‚ر€رڈذ´ر‹ (4 ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ° ذ² رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ 327 ر‡ذµذ».) ذ؟ذ¾ذ¾ر‡ذµر€ذµذ´ذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ذ؛ذ¸ذ½رƒذ»ذ¸ ذ؛ر€ذ°ذ¹ ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ² ذ،ر‚ر€رƒذ³ذ¾ذ؛ر€ذ°رپذ½ذµذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ 14–23 ذ°ذ²ذ³رƒرپر‚ذ° 1942 ذ³.14 ذذ° ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¼ ذ¼ذµرپر‚ذµ 4-ذ¹ ذ›ذںذ‘ ذ½ذµ رƒذ´ذ°ذ»ذ¾رپرŒ رپذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ر‚رŒ ر†ذµذ»ذ¾رپر‚ذ½ذ¾رپر‚رŒ, ذ¾ر‚ر€رڈذ´ر‹ ذ؟ذµر€ذµرˆذ»ذ¸ ذ؛ رپذ°ذ¼ذ¾رپر‚ذ¾رڈر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈذ¼ ذ½ذ° ذ؛ذ¾ذ¼ذ¼رƒذ½ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸رڈر… ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°. ذڑ ذ½ذ¾رڈذ±ر€رژ 1942 ذ³. ذ¾ر‚ر€رڈذ´ر‹ ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ½ذ° ر€ذ°رپرپر‚ذ¾رڈذ½ذ¸ذ¸ 50–70 ذ؛ذ¼ ذ¾ر‚ رˆر‚ذ°ذ±ذ° ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ر‹ ذ¸ ذ² رپذµر€ذµذ´ذ¸ذ½ذµ ذ½ذ¾رڈذ±ر€رڈ 1942 ذ³. رƒر‚ر€ذ°ر‚ذ¸ذ»ذ¸ ر€ذ°ذ´ذ¸ذ¾رپذ²رڈذ·رŒ رپذ¾ رپذ²ذ¾ذ¸ذ¼ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼15.
ذذµرƒذ´ذ°ر‡ذ½ذ¾ رپذ»ذ¾ذ¶ذ¸ذ»رپرڈ ذ¸ ر€ذµذ¹ذ´ 1-ذ¹ ذذںذ‘ ذ² ذ½ذ¾ذ²ر‹ذ¹ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ ذ±ذ¾ذµذ²ر‹ر… ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذ¹. ذ’ ذ¾ذ؛ر‚رڈذ±ر€ذµ 1942 ذ³. ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ° ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ذ³ذ»ذ° ذ›رڈذ´رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ° ذ² رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ ذ¾ذ؛ذ¾ذ»ذ¾ 150 ر‡ذµذ». (ذ¸ذ· ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ر€ذ°رڈ ذ² ر€رڈذ´ذ°ر… ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ر‹ ذ²ر‹رˆذ»ذ¸ 305 ر‡ذµذ»., ذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ر‡ر‚ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذ° ذ»ذ¸ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ° ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ر‹ ذ¾رپر‚ذ°ذ»ذ°رپرŒ ذ² رژذ³ذ¾-ذ·ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ر‹ر… ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ°ر…, رژذ¶ذ½ذµذµ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ½ذ¾ذ¹ ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¸ ذںرپذ؛ذ¾ذ² – ذ”ذ½ذ¾)16. ذڑ ذ²ذµرپذ½ذµ 1943 ذ³. ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ذ¹ رپذ¾رپر‚ذ°ذ² ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ر‹ (60 ر‡ذµذ».) ذ¾ر‰رƒر‰ذ°ذ» ذ¾رپر‚ر€رƒرژ ذ½ذµر…ذ²ذ°ر‚ذ؛رƒ ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒرپر‚ذ²ذ¸رڈ, ذ¾ذ±رƒذ²ذ¸, ذ؟ذ¸ر‚ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؛ ر€ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ¸ ر‚. ذ´.17 ذذµذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ذ؛ ر‚ر€ذ°ذ½رپذ؟ذ¾ر€ر‚ذ½ذ¾ذ¹ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ² ر€ذ°رپذ؟ذ¾ر€رڈذ¶ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ›ذ¨ذںذ” ذ¸ ذ½ذµذ»ذµر‚ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ¾ذ³ذ¾ذ´ذ° ذ؟ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ¸ذ»ذ¸ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´رƒ ذ² ذ؛ر€ذ¸ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ18.
ذ’ر‹ر‚ذµرپذ½ذµذ½ذ¸ذµ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ ذ¸ذ· ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ر€ذ°رڈ ذ² رپذµذ½ر‚رڈذ±ر€ذµ 1942 ذ³. ذ¸ ر„ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ°رڈ ذ؟ذ¾ر‚ذµر€رڈ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¸ر… ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… رپذ¾ذµذ´ذ¸ذ½ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ·ذ¸ذ¼ذ¾ذ¹ 1942–1943 ذ³ذ³. رپر‚ذ°ذ»ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ر‡ذ¸ذ½ذ°ذ¼ذ¸ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر‚ذ؛ذ°ذ·ذ° ر€رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ° ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¾ر‚ ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛ذ¸ رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ رƒذ´ذµر€ذ¶ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ¾رپر‚ذ¾رڈذ½ذ½ر‹ر… ذ±ذ°ذ· ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ر… رپذ¸ذ» ذ² ذ½ذµذ¼ذµر†ذ؛ذ¾ذ¼ ر‚ر‹ذ»رƒ (ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ؛ر€ذ°ذµذ² ذ¸ ذ·ذ¾ذ½). ذ’ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذµ – رپذµر€ذµذ´ذ¸ذ½ذµ 1943 ذ³. 3-رڈ ذ›ذںذ‘ ذگ.ذ’. ذ“ذµر€ذ¼ذ°ذ½ذ°, 5-رڈ ذ›ذںذ‘ ذڑ.ذ”. ذڑذ°ر€ذ¸ر†ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ (رپر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ° ذ² ذ،ذ»ذ°ذ²ذ؛ذ¾ذ²ذ¸ر‡رپذ؛ذ¾ذ¼ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذµ ذ² ر„ذµذ²ر€ذ°ذ»ذµ 1943 ذ³.) ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذµ ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ رپذ¾رپر€ذµذ´ذ¾ر‚ذ¾ر‡ذ¸ذ»ذ¸ رپذ²ذ¾ذ¸ رƒرپذ¸ذ»ذ¸رڈ ذ½ذ° ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ر‚ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛ذµ19. ذ”ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ر‹ ذگ.ذ’. ذ“ذµر€ذ¼ذ°ذ½ذ° رڈذ²ذ»رڈذ»ذ¸رپرŒ ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ رڈر€ذ؛ذ¸ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€ذ¾ذ¼ ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ر… ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ². ذ’ ر‚ذµر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ³ذ¾ذ´ذ°, رپ رپذµذ½ر‚رڈذ±ر€رڈ 1942 ذ؟ذ¾ ذ¾رپذµذ½رŒ 1943 ذ³ذ³., ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ²ذ°رڈ ر‚ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛ذ° ذ؟ر€ذµذ¾ذ±ذ»ذ°ذ´ذ°ذ»ذ° ذ² ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈر… ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´.
ذکرپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»ذ¸ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‡ذ°رژر‚ ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸ذµ ر„ذ°ذ؛ر‚ذ¾ر€ذ° ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ³ذ¾ذ´ذ° ذ¸ ذµذ³ذ¾ ذ²ذ»ذ¸رڈذ½ذ¸ذµ ذ½ذ° ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½20. ذ”ذ»رڈ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذ¹ ذ² رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈر… ذ·ذ¸ذ¼ذ½ذµذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ر‹ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ»ر‹ذ¶ذ°ذ¼ذ¸. ذ’ ذ´ذ¾ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ·ذ°ذ؟ذ¸رپذ؛ذµ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ¸ر‚ذµذ»ذµذ¹ 7-ذ¹ ذ¾ر‚ذ´ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¼رƒ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸رژ ذ؛ذ°ذ؟ذ¸ر‚ذ°ذ½ذ° ذ³ذ¾رپذ±ذµذ·ذ¾ذ؟ذ°رپذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ.ذگ. ذگذ»ذ¼ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ° ذ¸ رپر‚. ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‚ر€رƒذ؛ذ° ذ. ذ ذ¾ذ¼ذ°ذ½ر†ذµذ²ذ° ذ¾ر‚ 29 ذ½ذ¾رڈذ±ر€رڈ 1941 ذ³. رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذ°ذ»ذ¾رپرŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ»ر‹ذ¶ذ¸ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ذ°ذ¼ذ¸ ذ´ذ¾ذ±ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ رƒ ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذ°رپذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ½ذµ ذ²رپذµذ³ذ´ذ° ذ¾ر‚ذ²ذµر‡ذ°ذ»ذ¸ رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈذ¼ ذ±ر‹رپر‚ر€ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ذ°21. ذ§ذ»ذµذ½ ذ›رƒذ¶رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذµذ¶ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ¹ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر†ذµذ½ر‚ر€ذ° ذœ.ذ“. ذگذ±ر€ذ°ذ¼ذ¾ذ² ذ²رپذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ»: آ«ذ’ رچر‚ذ¾ر‚ ذ´ذµذ½رŒ (5 ذ¼ذ°ر€ر‚ذ° 1943 ذ³. – ذ’. ذڑ.) ذ؛ذ¾ذµ-ذ؛ر‚ذ¾ ذ¸ذ· ذ½ذ°رپ ذ؟ر€ذ¾ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ°ذ» ذ¸ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ¸ذ½ر‚ذµذ½ذ´ذ°ذ½ر‚ذ¾ذ². ذڑر‚ذ¾-ر‚ذ¾ ذ¸ذ· ذ½ذ¸ر… ذ½ذ° ر…ذ²ذ¾ذ¹ذ½ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ±ذ°ذ·ذµ ذ´ذ¾ذ´رƒذ¼ذ°ذ»رپرڈ ذ؟ذ¾رپذ»ذ°ر‚رŒ ذ½ذ°ذ¼ ر‚ذ¾ذ½ذ؛ذ¸ذµ, ذ¸ذ·رڈر‰ذ½ر‹ذµ ذ±ذµذ³ذ¾ذ²ر‹ذµ ذ»ر‹ذ¶ذ¸. ذذ°رپر‚رƒذ؟ذ¸ذ» ذ½ذµذ°ذ؛ذ؛رƒر€ذ°ر‚ذ½ذ¾ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ¹ ذ»ر‹ذ¶ذµذ¹ ذ½ذ° ذ؟ذµذ½رŒ ذ¸ذ»ذ¸ ذ؛ذ¾ر€ذµذ½رŒ – ذ¸ ذ¾ذ½ذ° ذ؟ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ°ذ¼. ذذ° ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¼ ذ¸ذ»ذ¸ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¼ ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ذµ ذ²رپذµ ذ±ذµذ³ذ¾ذ²ر‹ذµ ذ»ر‹ذ¶ذ¸ ذ²ر‹رˆذ»ذ¸ ذ¸ذ· رپر‚ر€ذ¾رڈآ»22. ذ’ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´رپر‚ذ²ذ¸ذ¸ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ»ر‹ذ¶ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ½ذ°ذ»ذ°ذ¶ذµذ½ذ¾ ذ² ر‚ر‹ذ»رƒ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ذ½ذ°ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€, ذ؛ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رƒ 1944 ذ³. ذ² ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¸ر… ذ،ذ¾ذ»ذµر†ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ° ذ´ذ»رڈ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ 5-ذ¹ ذ›ذںذ‘ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¾ ذ؛ر€ذ¾ذ¼ذµ 165 ذ؟ذ¾ذ»رƒرˆرƒذ±ذ؛ذ¾ذ², 144 ذ²ذ°ر‚ذ½ر‹ر… ذ؟ذ°ذ»رŒر‚ذ¾, 200 ذ؟ذ°ر€ ر€رƒذ؛ذ°ذ²ذ¸ر†, 75 ذ؟ذ°ر€ ذ²ذ°ذ»ذµذ½ذ¾ذ؛ – 135 ذ؟ذ°ر€ ذ»ر‹ذ¶23.
ذ’ذ°ذ¶ذ½رƒرژ ر€ذ¾ذ»رŒ ذ² ذ²ر‹ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ؛ذµ ر‚ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛ذ¸ ذ»ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¸ر… ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ رپر‹ذ³ر€ذ°ذ» ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ر„ذ°ذ؛ر‚ذ¾ر€. ذ’ رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈر… ذ½ذµرپر‚ذ°ذ±ذ¸ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ° ذ´ذ»رڈ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذ¹ ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ²ر‹ر… ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¹ رپذ¾ر…ر€ذ°ذ½رڈذ»رپرڈ ذ¾ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذ¾رپر‚ذ¾ر€, ذ½ذ¾ ذ½ذµ ذ½ذ° ذ²رپذµر… رƒر‡ذ°رپر‚ذ؛ذ°ر… ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ°. ذ•رپذ»ذ¸ ذ² رژذ¶ذ½ر‹ر… ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ°ر… ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾ذ±ذ»., ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ذ،ذµذ²ذµر€ذ¾-ذ—ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ° ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ذµ رپذ¸ذ»ر‹ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ر‡ر‚ذ¸ ذ±ذµذ· ذ؟ذ¾ر‚ذµر€رŒ ذ؟ذµر€ذµذ¹ر‚ذ¸ ذ»ذ¸ذ½ذ¸رژ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ° ذ¸ ذ²ر‹ذ¹ر‚ذ¸ ذ² ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ ذ±ذ¾ذµذ²ر‹ر… ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذ¹24, ر‚ذ¾ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ذ’ذ¾ذ»ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ¾ذ² ذ؛ ذ؛ذ¾ذ½ر†رƒ 1942 ذ³. ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ ذ² ذ؟ر€ذ¸ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ رپر‚ذ°ذ»ذ¸ ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ ذ½ذµذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ر‹ذ¼ذ¸. ذ’.ذں. ذ،ذ°ذ¼رƒر…ذ¸ذ½ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‡ذ°ذ», ر‡ر‚ذ¾ ذ´ذ»رڈ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ذ’ذ¾ذ»ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ° ذ±ر‹ذ»ذ¸ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ½ر‹ ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ²ر‹ذ¹ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€, رپذ¾ذ؛ر€ذ°ر‰ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ؟ر€ذµذ±ر‹ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ² ر‚ر‹ذ»رƒ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ¸ رƒذ¼ذµذ½رŒرˆذµذ½ذ¸ذµ ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ´ذ¾ 15–20 ر‡ذµذ».25 ذ’ 1941–1942 ذ³ذ³. ذ¨ذںذ” ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ»ذ°رپرŒ ذ؟ذµر€ذµذ±ر€ذ¾رپذ؛ذ° ذ² ر‚ر‹ذ» ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ½ذ° رچر‚ذ¾ذ¼ ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… رپذ¸ذ», ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ر‹ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذµ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ°26 ذ¸ رپذ¾ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رژ ذ›رژذ±ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾ذ؟ذµر€ذ°ر†ذ¸ذ¸. ذذ°ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€, ذ² ر„ذµذ²ر€ذ°ذ»ذµ 1942 ذ³. رƒرپذ؟ذµرˆذ½ذ¾ ذ؟ذµر€ذµرˆذµذ» ذ»ذ¸ذ½ذ¸رژ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ° ذ±ذ°ر‚ذ°ذ»رŒذ¾ذ½ ذ•.ذ¤. ذ¢رƒذ²ذ°ذ»ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذ° ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒرژ ذ¾ذ؛ذ¾ذ»ذ¾ 200 ر‡ذµذ»., ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ´ذ¾ 26 ذ¸رژذ½رڈ 1942 ذ³. ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ» ذ½ذ° ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ°ر… ذœذ³ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾, ذ¢ذ¾رپذ½ذµذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذر€ذµذ´ذµذ¶رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ¾ذ²27.
ذ،ذ°ذ¼ر‹ذ¼ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ¼ رپذ¾ذµذ´ذ¸ذ½ذµذ½ذ¸ذµذ¼, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ·ذ°ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¾ ذ² ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ¾ذ؟ذµر€ذ°ر†ذ¸رڈر… 1942 ذ³. ذ² رچر‚ذ¾ذ¼ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذµ, ذ±ر‹ذ»ذ° 1-رڈ ذ’ذ¾ذ»ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ°رڈ ذںذ‘ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ. ذ’ ذ¼ذ°ر€ر‚ذµ 1942 ذ³. ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ° ذ؟ذµر€ذµرˆذ»ذ° ذ»ذ¸ذ½ذ¸رژ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ° ذ½ذ° ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذر€ذµذ´ذµذ¶رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ›رƒذ¶رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ¾ذ², ذ½ذ¾, ذ½ذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€رڈ ذ½ذ° ذ±ذ¾ذ»رŒرˆرƒرژ ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ – 538 ر‡ذµذ»., ذ° ذ²ذ¾ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ذ¼ ذ¸ ذ¸ذ·-ذ·ذ° ذ½ذ¸ذ·ذ؛ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾ذµذ´ذ¸ذ½ذµذ½ذ¸رڈ28, ذ»ذ¸رˆرŒ ر‡ذ°رپر‚ذ¸ر‡ذ½ذ¾ ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¸ذ»ذ° ذ؟ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ؟ذµر€ذµذ´ ذ½ذµذ¹ ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡ذ¸ ذ¸ رپ ذ؟ذ¾ر‚ذµر€رڈذ¼ذ¸ ذ¾ر‚ذ¾رˆذ»ذ° ذ² رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¸ذ¹ ر‚ر‹ذ». ذ، ر„ذµذ²ر€ذ°ذ»رڈ 1942 ذ³. ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ذ’ذ¾ذ»ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ° رƒرپذ؟ذµرˆذ½ذ¾ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ» ذ¾ر‚ر€رڈذ´ ذ”.ذ¤. ذڑذ¾رپذ¸ر†ر‹ذ½ذ° (ذ؟ر€ذ¸ ذ¾ذ±رٹذµذ´ذ¸ذ½ذµذ½ذ¸ذ¸ 12 ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ² رپذ²ذ¾ذ´ذ½ر‹ذ¹ ذ»ر‹ذ¶ذ½ر‹ذ¹ ذ±ذ°ر‚ذ°ذ»رŒذ¾ذ½ ذ² رڈذ½ذ²ذ°ر€ذµ 1942 ذ³. ذ؟ذ¾ذ´ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذµ رپذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¾ ذ؟ذµر€ذµذ¹ر‚ذ¸ ذ»ذ¸ذ½ذ¸رژ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ° ذ¼ذµذ¶ذ´رƒ ر€ذ°ذ·رٹذµذ·ذ´ذ°ذ¼ذ¸ ذںذ¾ذ³ذ¾رپر‚رŒذµ ذ¸ ذ–ذ°ر€ذ¾ذ؛)29. ذ ذ°ذ½ذµذµ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ ذ”.ذ¤. ذڑذ¾رپذ¸ر†ر‹ذ½ذ° – ذ¾ذ´ذ½ذ¾ ذ¸ذ· ذ؟ذµر€ذ²ر‹ر… ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ²ر‹ر… ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¹ ذ² ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾ذ±ذ»ذ°رپر‚ذ¸ (رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ 29 ذ¸رژذ½رڈ 1941) – ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµذ» ذ´ذ²ذ° رƒرپذ؟ذµرˆذ½ر‹ر… ر€ذµذ¹ذ´ذ° ذ¸ ذ½ذ°ذ½ذµرپ رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ¾ر‚ذµر€ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛رƒ ذ½ذ° ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذںذ¾ر€ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ›رƒذ¶رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ¾ذ².
ذ’ رڈذ½ذ²ذ°ر€ذµ 1942 ذ³. ذ‘ذ¾ذ»رŒرˆذµذ²ذ¸رˆذµر€رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ ذک.ذ،. ذ‘ذ°رˆرƒذ؛ذ¾ذ²ذ° – ذ’.ذک. ذœذµذ´ذ²ذµذ´ذµذ²ذ° ذ±ر‹ذ» ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ ذ؛ ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ¸ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ° ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ 59-ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸, ذ½ذ¾ ذ؟ذµر€ذµذ¹ر‚ذ¸ ذ² ر‚ر‹ذ» ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ½ذµ رپذ¼ذ¾ذ³. ذ’ ذ½ذ¾ر‡رŒ ذ½ذ° 28 رڈذ½ذ²ذ°ر€رڈ 1942 ذ³. ذ¾ر‚ر€رڈذ´ ذ±ر‹ذ» ذ²ر‹ذ½رƒذ¶ذ´ذµذ½ ذ½ذ¾ر‡ذµذ²ذ°ر‚رŒ ذ² ذ»ذµرپرƒ ذ؟ر€ذ¸ ر‚ذµذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚رƒر€ذµ – 400ذ،, 5 ر‡ذµذ». ذ·ذ°ذ±ذ¾ذ»ذµذ»ذ¸ ذ¸ذ·-ذ·ذ° ذ²ذµر‚ر…ذ¾ذ¹ ذ¾ذ´ذµذ¶ذ´ر‹ (ذ² رˆر‚ذ°ذ±ذµ ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¸ ذ±ذ¾ذ¹ر†ذ°ذ¼ ذ½ذµ ذ²ر‹ذ´ذ°ذ»ذ¸ ذ¾ذ±ذ¼رƒذ½ذ´ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ), ذ¸ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ ذ±ر‹ذ» ذ²ذ¾ذ·ذ²ر€ذ°ر‰ذµذ½ ذ² ذœذ°ذ»رƒرژ ذ’ذ¸رˆذµر€رƒ ذ´ذ»رڈ ذ؟ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸رڈ30. ذذ¾ذ²ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´رپذ؛ذ¸ذ¹ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ ذ‘.ذ”. ذ¢ذ°ذ»ذ°ذ½ر‚ذ¾ذ²ذ°, ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ²رˆذ¸ذ¹رپرڈ ذ½ذ° ذ¾رپذ²ذ¾ذ±ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ 52-ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸, ذ² ر„ذµذ²ر€ذ°ذ»ذµ 1942 ذ³. ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ½ذµ رپذ¼ذ¾ذ³ ذ؟ذµر€ذµذ¹ر‚ذ¸ ذ»ذ¸ذ½ذ¸رژ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ°, ذ° ذ² ذ¼ذ°ر€ر‚ذµ 1942 ذ³. ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ² ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ذµ ذ؛ذ°ذ؛ ذ²ذ¾ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذµ ذ؟ذ¾ذ´ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ31. ذںر€ذ¸ذ؛ذ°ذ· â„– 6 ذ؟ذ¾ ذ¾ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ¾ر‚ذ´ذµذ»رƒ ذ›ذ¨ذںذ” ذ¾ر‚ 11 ذ¸رژذ»رڈ 1942 ذ³., ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¸رپر‹ذ²ذ°ذ» ذ»ذµذ¹ر‚ذµذ½ذ°ذ½ر‚رƒ ذڑ.ذں. ذ§رƒر„ر‹ر€ذ¸ذ½رƒ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµرپر‚ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛رƒ ذ؟ذµر€ذµذ´ذ½ذµذ³ذ¾ ذ؛ر€ذ°رڈ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ½ذ° رƒر‡ذ°رپر‚ذ؛ذ°ر… 4-ذ¹, 54-ذ¹ ذ¸ 8-ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¹, ذ؟ر€ذ¸ذ´ذ°ذ²ذ°ذ» ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ذ° ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ¸ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ° ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ°ذ¼ذ¸ آ«ذ¸رپذ؛ذ»رژر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½رƒرژ ذ²ذ°ذ¶ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ¸ ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸ذµآ»32.
ذ،ذ؟رƒرپر‚رڈ ذ³ذ¾ذ´, ذ² ذ¼ذ°ر€ر‚ذµ 1943 ذ³., ذ·ذ°ذ±ر€ذ¾رپذ؛ذ° 1-ذ¹ ذ’ذ¾ذ»ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ذںذ‘ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¾ ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ (ذ²ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´رپر‚ذ²ذ¸ذ¸ – 11-رڈ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ°) ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ°رپرŒ رپذ°ذ¼ذ¾ذ»ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ² ذ³ذ»رƒذ±ذ¾ذ؛ذ¸ذ¹ ر‚ر‹ذ» ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ر‡ر‚ذ¾ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¾ ذµذ¹ ذ¸ذ·ذ±ذµذ¶ذ°ر‚رŒ رپر‚ذ¾ذ»ذ؛ذ½ذ¾ذ²ذµذ½ذ¸ذ¹ رپ ذ؛ذ°ر€ذ°ر‚ذµذ»رڈذ¼ذ¸. ذ’ ذ؟ذ¾رپر‚ذ¾رڈذ½ذ½ذ¾ ذ¼ذµذ½رڈرژر‰ذ¸ر…رپرڈ رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈر… ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ ذ½ذ° ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ²ر€ذ°ذ³ذ° ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ ر€ذµذ¹ذ´ر‹ ر‡ذ°رپر‚ذ¾ ذ؟ر€ذµرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ر†ذµذ»رŒ ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ´ذ° رپذ¸ذ» ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ر‹ ذ¸ذ·-ذ؟ذ¾ذ´ رƒذ´ذ°ر€ذ° ر‡ذ°رپر‚ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°33.
ذذ° ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¼ رچر‚ذ°ذ؟ذµ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ (1941–1942) ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ²ذ°رڈ ر‚ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛ذ° ذ±ر‹ذ»ذ° ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ½ذ° ذ´ذ»رڈ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ¸ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´, ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ²رˆذ¸ر… ذ² ذ؟ر€ذ¸ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ, ذ² ذ½ذµذ؟ذ¾رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ رپذ²رڈذ·ذ¸ رپ ر‡ذ°رپر‚رڈذ¼ذ¸ ذڑر€ذ°رپذ½ذ¾ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸. ذ’ذ¾ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذµ رپذµذ½ر‚رڈذ±ر€رڈ 1941 ذ³. ذ² ر‚ر‹ذ»رƒ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¹ آ«ذ،ذµذ²ذµر€آ» ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ 57 ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ²ر‹ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ², ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ¸ذ· ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´ذ° (ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ 27 ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² رپ ر€ذ°ذ´ذ¸ذ¾رپر‚ذ°ذ½ر†ذ¸رڈذ¼ذ¸, ذ²رپذµذ³ذ¾ 2 ر‚ر‹رپ. ر‡ذµذ».)34. ذںذµر€ذ²ذ¾ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ؛ذ¾ذ¾ر€ذ´ذ¸ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ°رپرŒ ذ¸ذ· ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´ذ° (رپ ذ¸رژذ»رڈ 1941 ذ³. – ذ¾ر€ذ³ر‚ر€ذ¾ذ¹ذ؛ذ¾ذ¹, رپ رپذµذ½ر‚رڈذ±ر€رڈ 1941 ذ³. – ذ¨ر‚ذ°ذ±ذ¾ذ¼ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذ¸ ذ¾ذ±ذ؛ذ¾ذ¼ذµ ذ’ذڑذں(ذ±)), ذ²ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´رپر‚ذ²ذ¸ذ¸ – ذ¾ذ؟ذµر€ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ°ذ¼ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ،ذ¾ذ²ذµر‚ذ°ر… ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ¾ذ² ذ¸ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¹, ذ؟ذ¾ذ´ر‡ذ¸ذ½ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ›ذ¨ذںذ” (رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ ذ² ذ¼ذ°ذµ 1942 ذ³.). ذںذµر€ذµذ´ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ°ذ¼ذ¸, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ رپذ°ذ¼ذ¾رپر‚ذ¾رڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ¸ذ»ذ¸ ذ¾ذ±رٹذµذ´ذ¸ذ½رڈذ»ذ¸رپرŒ ذ² ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹, ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼ رپر‚ذ°ذ²ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡ذ¸ ذ²ذµرپر‚ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛رƒ ذ¸ ذ½ذ°ذ½ذ¾رپذ¸ر‚رŒ رƒذ´ذ°ر€ر‹ ذ؟ذ¾ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¼رƒذ½ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸رڈذ¼ ذ¸ رˆر‚ذ°ذ±ذ°ذ¼ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°35. ذ¢ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ±ذ¾ذ¹ر†ر‹ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ², ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ر…ذ¾ر€ذ¾رˆذ¾ ذ·ذ½ذ°ذ»ذ¸ ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾رپر‚رŒ, ذ·ذ°ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ´ذ¾ذ¼ آ«ذ¾ذ؛ر€رƒذ¶ذµذ½ر†ذµذ²آ» ذ² رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¸ذ¹ ر‚ر‹ذ», ذ¾رپذ²ذ¾ذ±ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ؟ذ»ذµذ½ذ½ر‹ر…, ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ² ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ². ذذ°ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€, ذںذ¾ذ»ذ°ذ²رپذ؛ذ¸ذ¹ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ ذ؛ 5 ر„ذµذ²ر€ذ°ذ»رڈ 1942 ذ³. 32 ر€ذ°ذ·ذ° ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»رڈذ» ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛رƒ ذ² ذ³ذ»رƒذ±ذ¾ذ؛ذ¸ذ¹ ر‚ر‹ذ» ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ذ²ر‹ذ²ذµذ» ذ¸ذ· ر‚ر‹ذ»ذ° 2 ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ±ذ¾ذ¹ر†ذ¾ذ² ذ¸ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€ذ¾ذ² ذ ذڑذڑذگ (133 ر‡ذµذ».), ذ؟ذ¾ذ´ ر€رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ¸ذ· ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ° ر‡ذµر€ذµذ· ذ»ذ¸ذ½ذ¸رژ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ° ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ؟ذµر€ذµذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¾ 11 ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸, 19 ر€ذ°ذ· ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ²ر‹ذ´ذµذ»رڈذ»ذ¸رپرŒ ذ´ذ»رڈ ذ¸رپر‚ر€ذµذ±ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ¸ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ´ر€رƒذ³ذ¸ر… ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ¾ذ²36. ذ‘ذ¾ذ¹ر†ر‹ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ° ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ رپذ¾ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ رڈذ½ذ²ذ°ر€رپذ؛ذ¾ذ¼رƒ ذ½ذ°رپر‚رƒذ؟ذ»ذµذ½ذ¸رژ ر‡ذ°رپر‚ذµذ¹ ذڑر€ذ°رپذ½ذ¾ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸, ذ² ر…ذ¾ذ´ذµ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ¾رپذ²ذ¾ذ±ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ر‹ ذ½ذ°رپذµذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ر‹ ذںذ¾ذ»ذ°ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ،ر‚ذ°ر€ذ¾ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ¾ذ² (ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‹ ذ’.ذں. ذ—رƒذµذ², ذ’.ذک. ذڑرƒر…ذ°ر€ذµذ², ذ’.ذڑ. ذ—ذµذ»ذµذ½ر†ذ¾ذ² ذ¸ ذ´ر€.)37.
ذ’ ذ½ذ¾رڈذ±ر€ذµ – ذ´ذµذ؛ذ°ذ±ر€ذµ 1941 ذ³. ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ² ذ² ر‚ر‹ذ» ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¾ ذ² ذ”ذµذ¼رڈذ½رپذ؛ذ¾ذ¼, ذںذ¾ذ»ذ°ذ²رپذ؛ذ¾ذ¼ ذ¸ ذ،ر‚ذ°ر€ذ¾ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ¼ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ°ر… رپذ¸ذ»ذ°ذ¼ذ¸ ذ¼ذµرپر‚ذ½ر‹ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ¸ 1-ذ¹ ذذںذ‘, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ±ذ°ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ² ذ؟ر€ذ¸ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ذ،ذµذ²ذµر€ذ¾-ذ—ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ°38. ذ،ذ¾ذ³ذ»ذ°رپذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·رƒ 1-ذ¹ ذذںذ‘, ذ±ر‹ذ» ر€ذ°ذ·ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ½ ر‚ر‰ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ؟ذ»ذ°ذ½ ذ½ذ°ذ»ذµر‚ذ° ذ½ذ° رˆر‚ذ°ذ±ذ½ر‹ذµ رƒر‡ر€ذµذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈ 290-ذ¹ ذ؟ذµر…ذ¾ر‚ذ½ذ¾ذ¹ ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¸ ذ² ذ´. ذگذ½ر‚ذ¸ذ؟ذ¾ذ²ذ¾, ذœذ°ذ½رƒذ¹ذ»ذ¾ذ²ذ¾, ذ’ذ¾ر€ذ¾ذ½ر†ذ¾ذ²ذ¾, ذ›رƒذ؛ذ¸ذ½ذ¾ ذ¸ ذ©ذµر‡ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ ذ،ر‚ذ°ر€ذ¾ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ° 12 ذ´ذµذ؛ذ°ذ±ر€رڈ 1941 ذ³. (ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ° ذ²ر‹رپر‚رƒذ؟ذ°ذ»ذ° ذ² رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ 5 ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² (ذک.ذ¤. ذ¢ر€ذ¸ذ³رƒذ±ذ¾ذ²ذ°, ذœ.ذœ. ذںذ¾ذ»ذ؛ذ¼ذ°ذ½ذ°, ذ“.ذ’. ذ¢ذ¸ذ¼ذ¾ر„ذµذµذ²ذ°, ذگ.ذک. ذ¨ذ¸ر€ذ¾ذ؛ذ¾ذ²ذ° (ذ¢.ذں. ذںذµر‚ر€ذ¾ذ²ذ°) ذ¸ ذ،.ذœ. ذ“ذ»ذµذ±ذ¾ذ²ذ°) ر‚ر€ذµذ¼رڈ ذ؛ذ¾ذ»ذ¾ذ½ذ½ذ°ذ¼ذ¸)39.
ذ ذµذ¹ذ´ر‹ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ»ذ¸رپرŒ رپ ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ر€ذ°رڈ رپذ¸ذ»ذ°ذ¼ذ¸ 2-ذ¹ ذ›ذںذ‘ ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ر… ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´. ذ’ ذ´ذµذ؛ذ°ذ±ر€ذµ 1941 ذ³. ذ²ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ر€ذµذ¹ذ´ذ° 4 ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ²ذ¾ ذ³ذ»ذ°ذ²ذµ رپ ذ؛ذ¾ذ¼ذ±ر€ذ¸ذ³ذ¾ذ¼ ذ.ذ“. ذ’ذ°رپذ¸ذ»رŒذµذ²ر‹ذ¼ ذ² ذ›ذ¾ذ؛ذ½رڈذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ ذ³ذ¸ر‚ذ»ذµر€ذ¾ذ²ر†ر‹ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ؟ذµر€ذ²رƒرژ ذ؛ذ°ر€ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½رƒرژ رچذ؛رپذ؟ذµذ´ذ¸ر†ذ¸رژ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ² ذ؛ر€ذ°رڈ. ذ’ رڈذ½ذ²ذ°ر€ذµ – ر„ذµذ²ر€ذ°ذ»ذµ 1942 ذ³. 2-رڈ ذ›ذںذ‘ رپذ¾ذ²ذµر€رˆذ¸ذ»ذ° ذ´ذµر€ذ·ذ؛ذ¸ذµ ذ½ذ°ذ»ذµر‚ر‹ ذ½ذ° ذ³ذ°ر€ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ½ر‹ ذ² ذ³. ذ¥ذ¾ذ»ذ¼ذµ ذ¸ ذ؟ذ¾رپ. ذ”ذµذ´ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذ¸, ذ° ذ¾ر‚ر€رڈذ´ر‹ ذ²ذ½ذ¾ذ²رŒ ذ؟ر€ذ¸ذ±ر‹ذ²رˆذµذ¹ ذ² ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ؛ر€ذ°ذ¹ 5-ذ¹ ذ›ذںذ‘ (ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ) ر€ذ°ذ·ذ³ر€ذ¾ذ¼ذ¸ذ»ذ¸ ذ³ذ°ر€ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ½ ذ² ذ´. ذ¢رژر€ذ¸ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ ذ”ذµذ´ذ¾ذ²ذ¸ر‡رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ°.
ذںر€ذ¸ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذµذ¹ذ´ذ° رƒر‡ذ¸ر‚ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ: ذ¸رپر…ذ¾ذ´ذ½ر‹ذ¹ ذ¸ ذ؛ذ¾ذ½ذµر‡ذ½ر‹ذ¹ ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ر‹ ذ¼ذ°ر€رˆر€رƒر‚ذ°, ذ¼ذ°ر€رˆر€رƒر‚ ذ¸ذ»ذ¸ ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ, ذ؟ذ¾ر…ذ¾ذ´ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ذ¾ر€رڈذ´ذ¾ذ؛, ذ²ذµذ»ذ¸ر‡ذ¸ذ½ذ° ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ذ¾ذ², ذ؟ذ¾ر€رڈذ´ذ¾ذ؛ ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ذ° ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ¸ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ°, ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ³, ذ؟ر€ذµذ¾ذ´ذ¾ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ²ذ¾ذ´ذ½ر‹ر… ذ؟ر€ذµذ³ر€ذ°ذ´, ذ¼ذµرپر‚ذ° ذ´ذ½ذµذ²ذ¾ذ؛ ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¾ذ², ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ؟ر€ذ¸ رپر‚ذ¾ذ»ذ؛ذ½ذ¾ذ²ذµذ½ذ¸ذ¸ رپ ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ذ¼ذ¸ رپذ¸ذ»ذ°ذ¼ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ¸ ذ½ذµذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ¼ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رڈذ¼ذ¸, ذ¼ذµر€ذ¾ذ؟ر€ذ¸رڈر‚ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼رƒ, ذ±ذ¾ذµذ²ذ¾ذ¼رƒ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذµذ½ذ¸رژ, ذ؟ذ¾ر€رڈذ´ذ¾ذ؛ رƒذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ذ´ذµر€ذ¶ذ°ذ½ذ¸رڈ رپذ²رڈذ·ذ¸40.
ذںر€ذ¸ ر€ذ°ذ·ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ؛ذµ ذ¼ذ°ر€رˆر€رƒر‚ذ° ذ¸ ذ±ذ¾ذµذ²ر‹ر… ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡ ذ²ذ°ذ¶ذ½ذµذ¹رˆذµذµ ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ¾ذ±ر€ذµر‚ذ°ذ»ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ¸ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸رڈ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ² ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¼ ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸. ذںذ¾ ذ²ذ¾رپذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ½ذ¸رڈذ¼ ذک.ذک. ذکرپذ°ذ؛ذ¾ذ²ذ°, ذ½ذµر‚ذ¾ر‡ذ½ر‹ذµ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ¾ ذ¼ذ¾ر‰ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ½ذµذ¼ذµر†ذ؛ذ¸ر… ذ³ذ°ر€ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ½ذ¾ذ² ذ² ذر€ذµذ´ذµذ¶رپذ؛ذ¾ذ¼ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذµ (ذ² ذ´. ذ–ذµذ»رŒر†ر‹ ذ¸ ذ؟ذ¾رپ. ذ¢ذ¾ذ»ذ¼ذ°ر‡ر‘ذ²ذ¾) ذ·ذ°رپر‚ذ°ذ²ذ¸ذ»ذ¸ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€ذ° 1-ذ¹ ذ’ذ¾ذ»ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ذںذ‘ ذ؟ذ¾ذ´ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ¤.ذ. ذ¢ذ°ر€ذ°رپذ¾ذ²ذ° ذ¸ذ·ذ¼ذµذ½ذ¸ر‚رŒ ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡رƒ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ر‹ رƒذ¶ذµ ذ² ر…ذ¾ذ´ذµ ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ذ؟ذµر€ذ°ر†ذ¸ذ¸41. ذ’ 1942 ذ³. ذ² ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ°ر…, ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ°ر… ذ¸ ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ°ر… ذ±ر‹ذ»ذ° رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ذ° ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ·ذ°ذ¼ذµرپر‚ذ¸ر‚ذµذ»رڈ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€ذ° ذ؟ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذµ. ذ’ ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡ذ¸ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذµذ³ذ¾ ذ²ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¸:
- ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸رڈ ذ½ذµذ؟ر€ذµر€ر‹ذ²ذ½ذ¾ذ¹, رپذ²ذ¾ذµذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ´ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذµر€ذ½ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ±ذ¾ذµذ¼, ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸ذµذ¼, ذ·ذ°ر…ذ²ذ°ر‚ذ¾ذ¼ ذ؟ذ»ذµذ½ذ½ر‹ر…, ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ² ذ¸ ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپذ¾ذ¼ ذ¼ذµرپر‚ذ½ر‹ر… ذ¶ذ¸ر‚ذµذ»ذµذ¹;
- ذµذ¶ذµذ´ذ½ذµذ²ذ½ذ¾ذµ ذ¾ذ±ذ¾ذ±ر‰ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸ ذ½ذµذ¼ذµذ´ذ»ذµذ½ذ½ذ°رڈ ذ؟ذµر€ذµذ´ذ°ر‡ذ° ذ² ذ¨ذںذ” ذ¸ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رژ ر‡ذ°رپر‚ذµذ¹, رپذ²رڈذ·ذ°ذ½ذ½ر‹ر… رپ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ¼, ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذµ42.
ذ’ 3-ذ¹ ذ›ذںذ‘ ر€ذ°ذ´ذ¸رƒرپ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ½ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذ» 20–25 ذ؛ذ¼, ذ؟ذ¾ ذ·ذ°ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ¼ذ°ر€رˆر€رƒر‚ذ°ذ¼ ذ² ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ ذ²ذµر€ذ¾رڈر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ²ر‹رپر‹ذ»ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ؛ذ¾ذ½ذ½ر‹ذµ ر€ذ°ذ·رٹذµذ·ذ´ر‹ ذ² رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ 2-3 ر‡ذµذ».43 ذ ذµذ¹ذ´ذ¸ر€رƒرژر‰ذ°رڈ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ¾رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ»رڈذ»ذ° ذ³ذ»رƒذ±ذ¾ذ؛رƒرژ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛رƒ ذ½ذ° ر€ذ°رپرپر‚ذ¾رڈذ½ذ¸ذ¸ ذ½ذµ ذ¼ذµذ½ذµذµ 60 ذ؛ذ¼44. ذذ± ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ² 3-ذ¹ ذ›ذںذ‘ رپذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²رƒرژر‚ ذ²ذ¾رپذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ±ر‹ذ²رˆذµذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‡ذ¸ر†ر‹ ذ—.ذڑ. ذگذ½ذ´ر€ذµذµذ²ذ¾ذ¹: آ«ذکذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ½ذ° ذ¼ذ°ر€رˆذµ ذ½ذ°رپ ذ²ر‹رپر‹ذ»ذ°ذ»ذ¸ ذ²ذ؟ذµر€ذµذ´ذ¸ ذ؛ذ¾ذ»ذ¾ذ½ذ½ر‹ ذ½ذ° 3 ذ؛ذ¼. ذڑذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€ ذ´ذ°ذµر‚ ذ½ذ°ذ¼ ذ¼ذ°ر€رˆر€رƒر‚, ذ¸ ذ¼ر‹ ذ¸ذ´ذµذ¼, 2-3 ر‡ذµذ». ذذ´ذµذ²ذ°ذµذ¼رپرڈ, ذ؛ذ°ذ؛ ذ¾ذ´ذµذ²ذ°رژر‚رپرڈ ذ؛ذ¾ذ»ر…ذ¾ذ·ذ½ذ¸ر†ر‹, رپ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ذ¼ذ¾ر‡ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ؛ذ¾ر€ذ·ذ¸ذ½ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ¸ذ´ذµذ¼. ذ—ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ ذ؟ذ¾ ذ؟رƒر‚ذ¸ ذ² ذ´ذµر€ذµذ²ذ½ذ¸, ذ²ر‹رپذ؟ر€ذ°رˆذ¸ذ²ذ°ذµذ¼ ذ²رپر‘. ذذ´ذ½ذ° ذ¾رپر‚ذ°ذµر‚رپرڈ, ذ° ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذµ ذ¸ذ´رƒر‚ ذ´ذ°ذ»رŒرˆذµ. ذڑذ°ذ؛ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ؛ذ¾ذ½ذ½ذ°رڈ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ° ذ؟ذ¾ذ´ر…ذ¾ذ´ذ¸ر‚, ذ¾رپر‚ذ°ذ²رˆذ°رڈرپرڈ ذ² ذ´ذµر€ذµذ²ذ½ذµ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‡ذ¸ر†ذ° ذ´ذ¾ذ؛ذ»ذ°ذ´ر‹ذ²ذ°ذµر‚ ذ¾ذ±رپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ؛رƒ, ذ° رپذ°ذ¼ذ° ذ¸ذ´ذµر‚ ذ´ذ°ذ»رŒرˆذµ ذ´ذ¾ذ³ذ¾ذ½رڈر‚رŒ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ر… ذ´ذ²رƒر…آ»45.
ذ’ر€ذµذ¼رڈ ذ؟ر€ذµذ±ر‹ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ° ذ² ر€ذµذ¹ذ´ذµ ذ؟ذ¾ ر‚ر‹ذ»ذ°ذ¼ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¾ ذ±ر‹ر‚رŒ ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ذ¼ ذ² ذ·ذ°ذ²ذ¸رپذ¸ذ¼ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾ر‚ ذ±ذ¾ذµذ²ر‹ر… ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡, ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ°, رپذ¾ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ¸ ذ´ر€. (2-رڈ ذذںذ‘ رپذ¾ذ²ذµر€رˆذ¸ذ»ذ° ر€ذµذ¹ذ´ ذ² ر‚ذµر‡ذµذ½ذ¸ذµ 5 ذ¼ذµرپرڈر†ذµذ²). ذذ°ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€, ذ”ذµذ¼رڈذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ ذ .ذگ. ذگذ½ذ´ر€ذµذµذ²ذ° – ذک.ذ’. ذ•ر„ذ¸ر‰ذµذ½ذ؛ذ¾ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ» ذ² ر‚ر‹ذ»رƒ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° رپ 26 ذ¾ذ؛ر‚رڈذ±ر€رڈ ذ؟ذ¾ 19 ذ½ذ¾رڈذ±ر€رڈ 1941 ذ³. رپ ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡ذµذ¹ ر€ذ°ذ·ر€رƒرˆذµذ½ذ¸رڈ ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ³ ذ؛ ذ”ذµذ¼رڈذ½رپذ؛رƒ. ذںر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛ذ° ذ±ذ¾ذµذ²ر‹ر… ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذ¹ ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»ذ°, ر‡ر‚ذ¾ ذ² ذ؟ر€ذ¸ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذµذ³ذ¾ رƒرپذ؟ذµر…ذ° ذ¼ذ¾ذ¶ذµر‚ ذ´ذ¾ذ±ذ¸ر‚رŒرپرڈ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ ذ¼ذ°ذ»ذ¾ذ¹ ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸. ذ•رپذ»ذ¸ ذ² ذ¾ر‚ر€رڈذ´ ذ .ذگ. ذگذ½ذ´ر€ذµذµذ²ذ° ذ²ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¾ 47 ر‡ذµذ». ذ¸ ذ¾ذ½ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ» ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ´ذ»ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ رپر€ذ¾ذ؛, ر‚ذ¾ ذ² ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذµ ذ’.ذک. ذذ²ر‡ذ¸ذ½ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ²ذ°, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»رپرڈ ذ½ذ° ذ±ذ¾ذµذ²ذ¾ذ¼ ذ·ذ°ذ´ذ°ذ½ذ¸ذ¸ 14–20 رڈذ½ذ²ذ°ر€رڈ 1942 ذ³., ذ±ر‹ذ»ذ¾ 17 ر‡ذµذ». ذر‚ر€رڈذ´ ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ¸ذ» ذ·ذ°ذ´ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¼ذ¸ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¸ ذ”ذµذ¼رڈذ½رپذ؛ – ذœذ¾ذ»ذ²ذ¾ر‚ذ¸ر†ر‹ ذ¸ ذ”ذµذ¼رڈذ½رپذ؛ – ذ،ر‚ذ°ر€ذ°رڈ ذ رƒرپرپذ°, ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ²ذ°ر‚رŒ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ رپذ°ذ¼ذ¾ذ·ذ°ر‰ذ¸ر‚ر‹ ذ¸ذ· ذ½ذ°رپذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ46. ذںذ¾ذ¼ذ¸ذ¼ذ¾ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ², ذ² ر‚ر‹ذ» ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ² ذ”ذµذ¼رڈذ½رپذ؛ذ¾ذ¼ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذµ ذ¾رپذµذ½رŒرژ 1941 ذ³. ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»رڈذ»ذ¸رپرŒ ذ¾ر‚ذ´ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹, ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذµذ½ذ½ر‹ذµ ر€ذ°ر†ذ¸رڈذ¼ذ¸47.
ذ’ 1942 ذ³. ذ¨ذںذ” ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ¸ذ» ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛رƒ ذ·ذ°ذ±ر€ذ¾رپذ؛ذ¸ ذ² ر‚ر‹ذ» ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ½ذµذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ر… ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ رپذ¾ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡ذ°ذ¼ذ¸ ذ½ذ° ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ رپر€ذ¾ذ؛, ذ¾ ر‡ذµذ¼ رپذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²رƒرژر‚ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ر‹ ذ؟ذ¾ رˆر‚ذ°ذ±رƒ ذ¸ ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚رƒ رپذ±ذ¾ر€ذ° ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ²48. ذœذ°ذ»ذ¾ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ (ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ذ¾ ذ² رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ 6 ر‡ذµذ»., ذ²ذ؛ذ»رژر‡ذ°رڈ ر€ذ°ذ´ذ¸رپر‚ذ°) ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ر‹ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ²ذµرپر‚ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛رƒ, ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚رƒ رپ ذ½ذ°رپذµذ»ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ؟ذ¾ ذ²ذ¾ذ²ذ»ذµر‡ذµذ½ذ¸رژ ذµذ³ذ¾ ذ² ذ±ذ¾ر€رŒذ±رƒ رپ ذ·ذ°ر…ذ²ذ°ر‚ر‡ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ذ¸, ذ²ذµر€ذ±ذ¾ذ²ذ؛رƒ ذ°ذ³ذµذ½ر‚ذ¾ذ² ذ؟ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذµ, ذ؟ذ¾ذ¸رپذ؛ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ¸ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟, رپ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¼ذ¸ ذ±ر‹ذ»ذ° ذ؟ذ¾ر‚ذµر€رڈذ½ذ° رپذ²رڈذ·رŒ. ذ‘ذ¾ذ»ذµذµ ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ذµ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ·ذ°ذ±ر€ذ°رپر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ² ر‚ر‹ذ» ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° رپ ذ·ذ°ذ´ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼ ذ½ذ°ر€رƒرˆذ°ر‚رŒ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذµذ¼ذµر†ذ؛ذ¸ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ¸ ر‚ذµر…ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ (ذ² ذ°ذ²ذ³رƒرپر‚ذµ 1942 ذ³. – ذ² ذ›رƒذ¶رپذ؛ذ¸ذ¹, ذ،ذ»ذ°ذ½ر†ذµذ²رپذ؛ذ¸ذ¹, ذںذ»رژرپرپذ؛ذ¸ذ¹, ذ’ذ¾ذ»ذ¾رپذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذ¹, ذڑذ¸ذ½ذ³ذ¸رپذµذ؟ذ؟رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذµ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ر‹)49. ذکذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ¾ذ±رٹذµذ´ذ¸ذ½رڈذ»ذ¸رپرŒ ذ² ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒرژ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ 50 ر‡ذµذ». ذ´ذ»رڈ ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ذ° ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ¸ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ°50. ذ’رپذµ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‹ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾-ذ´ذ¸ذ²ذµر€رپذ¸ذ¾ذ½ذ½ر‹ذµ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ر‹ ذ¸ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذµذ½ر‹ ر€ذ°ر†ذ¸رڈذ¼ذ¸.
ذذ°ر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ² ر‚ر‹ذ»رƒ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¾ذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر‡ذµذ½ذ¾ ذ¾ر‚رپرƒر‚رپر‚ذ²ذ¸ذµذ¼ رƒ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¸ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ر€ذ°ذ´ذ¸ذ¾رپذ²رڈذ·ذ¸, ذ؛ذ°ر€ر‚, ذ½ذµذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ؛ذ¾ذ¼ ذ±ذ¾ذµذ؟ر€ذ¸ذ؟ذ°رپذ¾ذ² ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒرپر‚ذ²ذ¸رڈ51. ذںر€ذ¸ ذ؛ر€ذ°ر‚ذ؛ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ذ°ر… ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ¸ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ° ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‹ ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ذ¾ ر€ذ°رپرپر‡ذ¸ر‚ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ½ذ° ر‚ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ ذ±ر€ذ°ذ»ذ¸ رپ رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹, ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸ ذ²ذ¾رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒرپرڈ ر€ذ°ذ½ذµذµ ذ·ذ°ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ±ذ°ذ·ذ°ذ¼ذ¸, ذµرپذ»ذ¸ ر‚ذµ رƒذ´ذ°ذ²ذ°ذ»ذ¾رپرŒ رپذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ر‚رŒ, ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰رŒرژ ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذ°رپذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ذ´ذµر€ذ¶ذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذ¸. 1-رڈ ذ’ذ¾ذ»ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ°رڈ ذںذ‘ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ, ذ²ر‹رپر‚رƒذ؟ذ°رڈ ذ¸ذ· ذœذ°ذ»ذ¾ذ¹ ذ’ذ¸رˆذµر€ر‹, ذ±ر‹ذ»ذ° ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذµذ½ذ° ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒرپر‚ذ²ذ¸ذµذ¼ ذ½ذ° 10 رپرƒر‚ذ¾ذ؛ ذ؟رƒر‚ذ¸ ذ´ذ¾ ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ¸ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ°, ذ½ذ¾ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ر‡ذµر€ذµذ· 15 رپرƒر‚ذ¾ذ؛, ذ؟ر€ذµذ¾ذ´ذ¾ذ»ذµذ² ذ¾ذ؛ذ¾ذ»ذ¾ 160 ذ؛ذ¼, رپذ²ذ¾ذ¸ذ¼ ر…ذ¾ذ´ذ¾ذ¼ ذ²ر‹رˆذ»ذ° ذ² ذ·ذ°ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¹ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½, ذ³ذ´ذµ ذ¼ذµرپر‚ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‹ (ذر€ذµذ´ذµذ¶رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ ذک.ذک. ذکرپذ°ذ؛ذ¾ذ²ذ°) ذ½ذµ رپذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذµذµ رپذ½ذ°ذ±ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ, ذ¸ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ° ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ¸ذ»ذ° ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒرپر‚ذ²ذ¸ذµ ذ½ذ° ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ´ذ½ذµذ¹ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ؟ذ¾ ذ²ذ¾ذ·ذ´رƒر…رƒ52.
ذ،رƒر‰ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ½ذµذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ؛ذ¸ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ¸ رپذ½ذ°ذ±ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ±ر‹ذ»ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‡ذµذ½ر‹ ذ² ذ´ذ¾ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ·ذ°ذ؟ذ¸رپذ؛ذµ ر‡ذ»ذµذ½ذ° ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ،ذ¾ذ²ذµر‚ذ° 8-ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ°ر€ذ° ذ.ذ•. ذ،رƒذ±ذ±ذ¾ر‚ذ¸ذ½ذ° ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ ذ¨ذںذ” ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ذ±ذ؛ذ¾ذ¼ذ° ذ’ذڑذں(ذ±) ذœ.ذ¤. ذگذ»ذµذ؛رپذµذµذ²رƒ ذ¸ ذ•.ذ. ذگر‚ر€ذ¾ر‰ذµذ½ذ؛ذ¾ (ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ·ذ´ذ½ذµذµ 28 رپذµذ½ر‚رڈذ±ر€رڈ 1941 ذ³.): ذ؟ذ»ذ¾ر…ذ°رڈ رپذ²رڈذ·رŒ ذ¸ذ·-ذ·ذ° ذ¾ر‚رپرƒر‚رپر‚ذ²ذ¸رڈ ر€ذ°ذ´ذ¸ذ¾, ذ؟ذ¾ر‚ذµر€رڈ ذ¾ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾رپر‚ذ¸, ذ؟ذ»ذ¾ر…ذ¾ذµ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذµ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذµذ½ذ¸ذµ (آ«ذ¾ذ½ذ¸ ذ±رƒذ؛ذ²ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ½ذ¸ر‰ذµذ½رپر‚ذ²رƒرژر‚آ»), ذ؛ر€ذ°ذ¹ذ½ذµ رپذ؛رƒذ´ذ½ذ¾ذµ ذ±ذ¾ذµذ²ذ¾ذµ ذ¾رپذ½ذ°ر‰ذµذ½ذ¸ذµ, ذ½ذµرƒذ´ذ°ر‡ذ½ر‹ذµ ذ´ذ¸رپذ»ذ¾ذ؛ذ°ر†ذ¸رڈ ذ¸ ر†ذµذ»ذ¸ ذ¾ذ؟ذµر€ذ°ر†ذ¸ذ¹ ذ¸ ر‚. ذ´.53
ذذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€رڈ ذ½ذ° ر‚ر€رƒذ´ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ, ذ؛ذ¾ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذµ 1943 ذ³. ذ›ذ¨ذںذ” رƒذ´ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ´ذ¾ذ±ذ¸ر‚رŒرپرڈ ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… رƒرپذ؟ذµر…ذ¾ذ² ذ² ر‚ر‹ذ»رƒ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°. ذ¨ر‚ذ°ذ± ذ¸ ذ¾ذ؟ذµر€ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ¾ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ ذ؛ذ¾ذ¾ر€ذ´ذ¸ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ ذ¸ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ´ذ¸ذ²ذµر€رپذ¸ذ¾ذ½ذ½ر‹ر… ذ¾ذ؟ذµر€ذ°ر†ذ¸ذ¹ ذ½ذ° ذ؛ذ¾ذ¼ذ¼رƒذ½ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸رڈر… ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ ذ½ذ°ذ»ذµر‚ذ°ر… ذ½ذ° ذ³ذ°ر€ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ½ر‹. ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذµ ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¾ذ؟ذ¸ر€ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ½ذ° ذ؟ذ¾ذ´ذ´ذµر€ذ¶ذ؛رƒ ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذ°رپذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ؟ر€ذ¸رپر‚رƒذ؟ذ¸ذ»ذ¸ ذ؛ رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ذ¸رژ ذ·ذ¾ذ½, رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ½ر‹ر… ذ²ذµرپر‚ذ¸ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½رƒ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ² ذ¾ذ؛ذ؛رƒذ؟ذ°ذ½ر‚ذ¾ذ² ذ¸ رپذ»رƒذ¶ذ¸ر‚رŒ ذ±ذ°ذ·ذ¾ذ¹ ذ´ذ»رڈ ر€ذ°ذ·ذ²ذ¸ر‚ذ¸رڈ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ رپذ¾ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ ر‡ذ°رپر‚رڈذ¼ ذ¸ رپذ¾ذµذ´ذ¸ذ½ذµذ½ذ¸رڈذ¼ ذڑر€ذ°رپذ½ذ¾ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذ² ذ¾رپذ²ذ¾ذ±ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذ¸ ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ·ذµذ¼ذ»ذ¸.
1 ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذµ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ (ذںذ¾ ذ¾ذ؟ر‹ر‚رƒ ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹ ذر‚ذµر‡ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ 1941-1945 ذ³ذ³.). ذ–رƒذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذ¹; ذœ., 2001. ذ،. 284.
2 ذگذ½ذ´ر€ذ¸ذ°ذ½ذ¾ذ² ذ’.ذ. ذ ذµذ¹ذ´ر‹ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ // ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¶رƒر€ذ½ذ°ذ». 1973. â„– 3. ذ،. 30.
3 ذ،ذ°ذ¼رƒر…ذ¸ذ½ ذ’.ذں. ذ’ذ¾ذ»ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذµ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‹. ذ ذ°رپرپذ؛ذ°ذ· ذ¾ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ذµ ذ»ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¸ر… ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ذ’ذ¾ذ»ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ°. ذ›., 1969. ذ،. 67.
4 ذکرپذ°ذ؛ذ¾ذ² ذک.ذک. ذ“ر€ذ¾ذ·ذ° ذ½ذ°ذ´ ذر€ذµذ´ذµذ¶ذµذ¼. ذ›., 1975. ذ،. 155.
5 ذ،ذ¼.: ذœذ°رپذ¾ذ»ذ¾ذ² ذ.ذ’. ذذµذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ر‹ذ¹ ر€ذµذ¹ذ´. ذœ., 1972.
6 ذڑذ½رڈذ·رŒذ؛ذ¾ذ² ذگ.ذ،. ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذµ ر€ذµذ¹ذ´ر‹ // ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¶رƒر€ذ½ذ°ذ». 1988. â„– 3. ذ،. 62.
7 ذڑذ¾ذ·ذ»ذ¾ذ² ذ.ذ”., ذڑرƒذ»ذ¸ذ؛ ذ،.ذ’. ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذµ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذ° ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾ذ±ذ»ذ°رپر‚ذ¸ ذ² ذ³ذ¾ذ´ر‹ ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹ ذر‚ذµر‡ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ // ذ،ذµذ²ذµر€ذ¾-ذ—ذ°ذ؟ذ°ذ´ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¸ ذ² ذ³ذ¾ذ´ر‹ ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹ ذر‚ذµر‡ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹. ذ،ذںذ±., 2005. ذ،. 137–138.
8 ذ¦ذµذ½ر‚ر€ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ°ر€ر…ذ¸ذ² ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ؛ذ¾-ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ² ذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³ذ° (ذ´ذ°ذ»ذµذµ – ذ¦ذ“ذگذکذںذ” ذ،ذںذ±). ذ¤. 0-116. ذذ؟. 1. ذ”. 58. ذ›. 4–9.
9 ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ°ر€ر…ذ¸ذ² ذ½ذ¾ذ²ذµذ¹رˆذµذ¹ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذذ¾ذ²ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾ذ±ذ»ذ°رپر‚ذ¸ (ذ´ذ°ذ»ذµذµ – ذ“ذگذذکذذ). ذ¤. 260. ذذ؟. 1. ذ”. 136. ذ›. 2.
10 ذ¦ذ“ذگذکذںذ” ذ،ذںذ±. ذ¤. 0-116. ذذ؟. 1. ذ”. 524. ذ›. 5–6.
11 ذگذ½ذ´ر€ذ¸ذ°ذ½ذ¾ذ² ذ’.ذ. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 33.
12 ذ“ذگذذکذذ. ذ¤. 1667. ذذ؟. 2. ذ”. 412. ذ›. 45.
13 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ›.52. ذ ر€ذ°ذ´ذ¾رپر‚ذ½ذ¾ذ¹ ر€ذµذ°ذ؛ر†ذ¸ذ¸ ذ½ذ°رپذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ¸ ذ² ذ´ذ½ذµذ²ذ½ذ¸ذ؛ذµ رˆر‚ذ°ذ±ذ° 4-ذ¹ ذ›ذںذ‘ (ذ¦ذ“ذگذکذںذ” ذ،ذںذ±. ذ¤. 0-116. ذذ؟. 1. ذ”. 1719. ذ›. 23ذ¾ذ±.).
14 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 524. ذ›. 17. ذ’ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼رڈ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذµذ¹ذ´ذ° 13 ذ°ذ²ذ³رƒرپر‚ذ° 1942 ذ³. ذ½ذ° ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ³ذµ ذںرپذ؛ذ¾ذ² – ذ›رƒذ³ذ° رپذ¾ذ²ذµر€رˆذ¸ذ» ذ؟ذ¾ذ´ذ²ذ¸ذ³ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‡ذ¸ذ؛ ذ›.ذگ. ذ“ذ¾ذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ² (رپ ذ¼ذ°ر€ر‚ذ° 1944 ذ³. – ذ“ذµر€ذ¾ذ¹ ذ،ذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ،ذ¾رژذ·ذ° ذ؟ذ¾رپذ¼ذµر€ر‚ذ½ذ¾), ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ² رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ’.ذک. ذ“ذ»ذ°ذ´ذ؛ذ¾ذ²ذ° ذ؟ذ¾ذ´ذ¾ر€ذ²ذ°ذ» ذ°ذ²ر‚ذ¾ذ¼ذ¾ذ±ذ¸ذ»رŒ ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»ذ° ذ . ذ’ذ¸ر€ر‚ر†ذ° ذ¸ ذ·ذ°ر…ذ²ذ°ر‚ذ¸ذ» ذ²ذ°ذ¶ذ½ر‹ذµ ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ر‹.
15 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ›. 20ذ¾ذ±.
16 ذذµذ؟ذ¾ذ؛ذ¾ر€ذµذ½ذ½ذ°رڈ ذ·ذµذ¼ذ»رڈ ذںرپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ°رڈ. ذ”ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ر‹ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ¸ذ· ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ¹ذ½ذ¾-ذ؛ذ¾ذ¼رپذ¾ذ¼ذ¾ذ»رŒرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ذ´ذ؟ذ¾ذ»رŒرڈ ذ² ذ³ذ¾ذ´ر‹ ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹ ذر‚ذµر‡ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹. 1941–1944. ذ›., 1969. ذ،. 183.
17 ذڑذ°ر€ذ°ذ²ذ°ذµذ² ذ،.ذں. ذ“ر€ذ°ذ¶ذ´ذ°ذ½رپذ؛ذ°رڈ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸رڈ ذ² ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¼ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´ذ¾ذ¼ // ذ¢ر€رƒذ´ر‹ ذ’ر‹رپرˆذµذ³ذ¾ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رƒر‡ذ¸ذ»ذ¸ر‰ذ° ذ³ر€ذ°ذ¶ذ´ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذ¸. ذ’ر‹ذ؟. 36. ذںذ¾ذ´ذ²ذ¸ذ³ذ¸ ذ»ذµر‚ر‡ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ³ر€ذ°ذ¶ذ´ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ² ذ³ذ¾ذ´ر‹ ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹ ذر‚ذµر‡ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹. ذ›., 1969. ذ،. 36.
18 ذ’ ر‚ر‹ذ»رƒ ذ²ر€ذ°ذ³ذ°. ذ‘ذ¾ر€رŒذ±ذ° ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ذ؟ذ¾ذ»رŒر‰ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ½ذ° ذ¾ذ؛ذ؛رƒذ؟ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾ذ±ذ»ذ°رپر‚ذ¸. 1943. ذ›., 1983. ذ،. 5.
19 ذگر„ذ°ذ½ذ°رپرŒذµذ² ذ.ذک. ذ¤ر€ذ¾ذ½ر‚ ذ±ذµذ· ر‚ر‹ذ»ذ°. ذ—ذ°ذ؟ذ¸رپذ؛ذ¸ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€ذ°. ذ›., 1983. ذ،. 262–263
20 ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذµ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ (ذںذ¾ ذ¾ذ؟ر‹ر‚رƒ ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹ ذر‚ذµر‡ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ 1941–1945 ذ³ذ³.). ذ،. 286.
21 ذ¦ذ“ذگذکذںذ” ذ،ذںذ±. ذ¤. 0-116. ذذ؟. 1. ذ”. 30. ذ›. 6.
22 ذگذ±ر€ذ°ذ¼ذ¾ذ² ذœ.ذ“. ذذ° ذ·ذµذ¼ذ»ذµ ذ¾ذ؟ذ°ذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹. ذ،ر‚ر€ذ°ذ½ذ¸ر†ر‹ ذ¸ذ· ذ´ذ½ذµذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ذ°. ذ›., 1968. ذ،. 150–151.
23 ذ¨ذµذ²ذµر€ذ´ذ°ذ»ذ؛ذ¸ذ½ ذں.ذ . ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ°رڈ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ذ° ذ½ذ° ذذ¾ذ²ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ·ذµذ¼ذ»ذµ. ذذ¾ذ²ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´, 1957. ذ،. 43.
24 ذ،ذ¾ذ³ذ»ذ°رپذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·رƒ ذ›ذ¨ذںذ” ذ؟ذ¾ ذ¾ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ¾ر‚ذ´ذµذ»رƒ â„– 36 ذ¾ر‚ 4 ذ´ذµذ؛ذ°ذ±ر€رڈ 1942 ذ³., ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€رƒ ذ،ذ»ذ°ذ½ر†ذµذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ° ذ،ذµر€ذ³ذµذµذ²رƒ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ¾رڈذ»ذ¾ 5 ذ´ذµذ؛ذ°ذ±ر€رڈ 1942 ذ³. ذ²ر‹ذ±ر‹ر‚رŒ ذ¸ذ· ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´ذ° ذ² ذ؟ذ¾رپ. ذ¥ذ²ذ¾ذ¹ذ½ذ°رڈ, رپر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ ذ² رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ 28 ر‡ذµذ». ذ¸ 12 ذ´ذµذ؛ذ°ذ±ر€رڈ ذ؟ر€ذ¸ذ±ر‹ر‚رŒ ذ² رپ. ذœذ°ر€ر‘ذ²ذ¾ ر‡ذµر€ذµذ· ذ’ذ°ذ»ذ´ذ°ذ¹ ذ¸ ذرپر‚ذ°رˆذ؛ذ¾ذ². ذ’ ذœذ°ر€ر‘ذ²ذ¾ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذµذ½ ذ±ر‹ذ» رپ ذ¾ذ؟ذµر€ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ¾ذ¹ ذ؟ر€ذ¸ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼ ذ،ذ¾ذ²ذµر‚ذµ 1-ذ¹ رƒذ´ذ°ر€ذ½ذ¾ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ر€ذ°ذ·ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ر‚رŒ ذ¼ذ°ر€رˆر€رƒر‚ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ° ذ² ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ ذ،ذ»ذ°ذ½ر†ر‹ – ذ¾ذ·. ذ،ذ°ذ¼ر€ذ¾ – ذ›رڈذ´ر‹ – ذ“ذ´ذ¾ذ² (ذ¦ذ“ذگذکذںذ” ذ،ذںذ±. ذ¤. 0-116. ذذ؟. 1. ذ”. 57. ذ›. 51).
25 ذ،ذ°ذ¼رƒر…ذ¸ذ½ ذ’.ذں. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 64.
26 ذڑ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رƒ 1942 ذ³. ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ذ’ذ¾ذ»ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذ° ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذ½ذµ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ 10 ر€ذµذ¹ذ´ذ¾ذ²ر‹ر… ذ¸ 10 ذ¼ذµرپر‚ذ½ر‹ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒرژ ذ½ذµ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ 20–30 ر‡ذµذ». ذ² ذ؛ذ°ذ¶ذ´ذ¾ذ¼ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذµ (ذںذµر‚ر€ذ¾ذ² ذ®.ذں. ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذµ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ² ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾ذ±ذ»ذ°رپر‚ذ¸. 1941–1944. ذ›., 1973. ذ،. 211; ذ،ذ°ذ¼رƒر…ذ¸ذ½ ذ’.ذں. ذ’ذ¾ذ»ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذµ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‹. ذ،. 74).
27 ذںذµر‚ر€ذ¾ذ² ذ®.ذں. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 141.
28 ذذ¾ذ²ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´رپذ؛ذ¸ذµ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‹. ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذµ ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذ° ذذ¾ذ²ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ·ذµذ¼ذ»ذµ ذ² 1941–1944 ذ³ذ³.: ذ،ذ±ذ¾ر€ذ½ذ¸ذ؛ ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ² ذ¸ ذ²ذ¾رپذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ½ذ¸ذ¹. ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¸ذ¹ ذذ¾ذ²ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´, 2001. ذ،. 258.
29 ذ“ذ¾ر€رڈر‚ ذ؛ذ¾رپر‚ر€ر‹ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذµ. ذ’ذ¾رپذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ – رƒر‡ذ°رپر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ±ذ¸ر‚ذ²ر‹ ذ·ذ° ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´ / ذ،ذ¾رپر‚. ذ.ذ’. ذœذ°رپذ¾ذ»ذ¾ذ². ذ›., 1966. ذ،. 104.
30 ذ“ذگذذکذذ. ذ¤. 112. ذذ؟. 3. ذ”. 1. ذ›. 79–80ذ¾ذ±.
31 ذ¦ذ“ذگذکذںذ” ذ،ذںذ±. ذ¤. 0116. ذذ؟. 1. ذ”. 350. ذ›. 3–4, 19 (ذ² ذ±ذµذ·ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذ¸ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ¾ذ±ذ²ذ¸ذ½ذµذ½ر‹ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ¹ذ½ر‹ذµ ذ¸ رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¸ذµ ر€رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ر‚ذµذ»ذ¸ ذذ¾ذ²ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ° ذ¸ ذذ¾ذ²ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ°, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ² ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذµ ذ¸ ذ½ذµ رپر‡ذ¸ر‚ذ°ذ»ذ¸رپرŒ رپ ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¸ر‚ذµر‚ذ¾ذ¼ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€ذ°).
32 ذ¦ذ“ذگذکذںذ” ذ،ذںذ±. ذ¤. 0-116. ذذ؟. 1. ذ”. 57. ذ›. 14.
33 ذڑذ½رڈذ·رŒذ؛ذ¾ذ² ذگ.ذ،. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 55.
34 ذںذµر‚ر€ذ¾ذ² ذ®.ذں. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 109.
35 ذ’ رپذµذ½ر‚رڈذ±ر€ذµ 1941 ذ³. ذ² ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذµ ذ´. ذںذ¾رپذ°ذ´ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذرپر‚ر€ذ¾ذ² ذڑذ¸ر€ذ¸رˆرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ° ذ¸ ذ±ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ° ذ،ذ¾ذ؛ذ¾ذ»ذ¸ذ¹ ذœذ¾ر… ذ±ر‹ذ»ذ¾ رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¾ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ½ر‹ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ², ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ¸ذ· ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´ذ°: ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ° ذگ.ذگ. ذںذ°ذ²ذ»ذ¾ذ²ذ° (ذ¾ر‚ر€رڈذ´ر‹ â„– 173 ذ–رƒر€ذ°ذ²ذ»ذµذ²ذ°, â„– 174 ذگ.ذگ. ذںذ°ذ²ذ»ذ¾ذ²ذ° (ذ؟ذµرپر‚ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذ¹), â„– 175 ذœذ°ر€ذ؛ذ¾ذ²ذ° ذ¸ â„– 176 ذ’ذ¸ذ½ذ¾ذ³ر€ذ°ذ´ذ¾ذ²ذ° (ذ²ذ¾ذ·ذ½ذµرپذµذ½رپذ؛ذ¸ذ¹)), ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ° ذœ.ذœ. ذ’ذ¾ذ²ذ؛ذ° (ذ¾ر‚ر€رڈذ´ر‹ â„– 170 ذœ.ذœ. ذ’ذ¾ذ²ذ؛ذ° (ذ²ذ¾ذ»ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذ¹), â„– 171 ذ¯.ذœ. ذذµذ´ذµذ»رŒرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ (ذ´ر€ذµذ³ذµذ»رŒرپذ؛ذ¸ذ¹), â„– 172 ذ’ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¸ذ½ذ° (ر‚ذ¸ر…ذ²ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹)) ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذµ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ر‹ (ذ¦ذ“ذگذکذںذ” ذ،ذںذ±. ذ¤. 0-116. ذذ؟. 1. ذ”. 10. ذ›. 4).
36 ذ“ذگذذکذذ. ذ¤. 202. ذذ؟. 2. ذ”. 12. ذ›. 1ذ¾ذ±.
37 ذ،ذ¸ذ¼ذ°ذ؛ذ¾ذ² ذگ.ذں. ذ”ذµذ¼رڈذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ؟ذ»ذ°ر†ذ´ذ°ر€ذ¼: ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ¾رپر‚ذ¾رڈذ½ذ¸ذµ 1941–1943 ذ³ذ³. ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¸ذ¹ ذذ¾ذ²ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´, 2012. ذ،. 181.
38 ذذ¾ذ²ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´رپذ؛ذ¸ذµ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‹. ذ،. 165–166.
39 ذ“ذگذذکذذ. ذ¤. 260. ذذ؟. 1. ذ”. 196. ذ›. 14–15.
40 ذگذ½ذ´ر€ذ¸ذ°ذ½ذ¾ذ² ذ’.ذ. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 31.
41 ذکرپذ°ذ؛ذ¾ذ² ذک.ذک. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 168.
42 ذ¦ذ“ذگذکذںذ” ذ،ذںذ±. ذ¤. 0-116. ذذ؟. 1. ذ”. 58. ذ›. 9.
43 ذںذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‹. ذذ¾ذ²ر‹ذµ ذ؟ذ¾ذ´ر€ذ¾ذ±ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾ ذ±ذ¾ذµذ²ر‹ر… ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈر… ذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ر‹ر… ذ¼رپر‚ذ¸ر‚ذµذ»ذµذ¹ ذ½ذ° ذ»ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ·ذµذ¼ذ»ذµ ذ² ذ³ذ¾ذ´ر‹ ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹ ذر‚ذµر‡ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹. 1941–1945 / ذ،ذ¾رپر‚. ذ،.ذ“. ذ،ذ¸ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ², ذں.ذگ. ذ’ذ°رپذ¸ذ»رŒذµذ². ذ،ذںذ±., 1995. ذ،. 208–209.
44 ذ“ذ¾ر€رڈر‚ ذ؛ذ¾رپر‚ر€ر‹ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذµ. ذ،. 327.
45 ذ“ذگذذکذذ. ذ¤. 184. ذذ؟. 3. ذ”. 9. ذ›. 11.
46 ذذ¾ذ²ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´رپذ؛ذ¸ذµ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‹. ذ،. 136–137.
47 ذ¦ذ“ذگذکذںذ” ذ،ذںذ±. ذ¤. 0-116. ذذ؟. 1. ذ”. 312. ذ›. 11–13.
48 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 57; ذذ؟. 4. ذ”. 39.
49 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ›. 25–35.
50 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ›. 17–18.
51 ذر‚رپرƒر‚رپر‚ذ²ذ¸ذµ ذ؛ذ°ر€ر‚ر‹ ذ”ذµذ¼رڈذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ° ذ¸ ذ²ذ·ر€ر‹ذ²ر‡ذ°ر‚ذ؛ذ¸ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‡ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ؟ر€ذ¸ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ·ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ° â„– 2 ذ² ذ”ذµذ¼رڈذ½رپذ؛ذ¾ذ¼ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذµ (ذ¦ذ“ذگذکذںذ” ذ،ذںذ±. ذ¤. 0-116. ذذ؟. 1. ذ”. 312. ذ›. 4ذ¾ذ±.).
52 ذکرپذ°ذ؛ذ¾ذ² ذک.ذک. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 166–167.
53 ذ¦ذ“ذگذکذںذ” ذ،ذںذ±. ذ¤. 0-116. ذذ؟. 1. ذ”. 30. ذ›. 1.


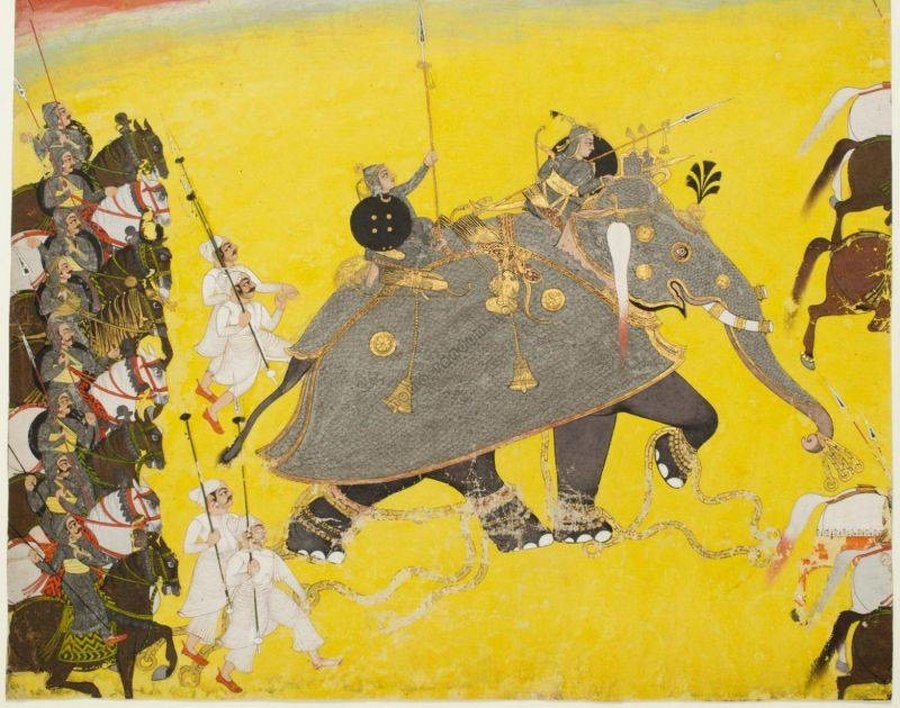
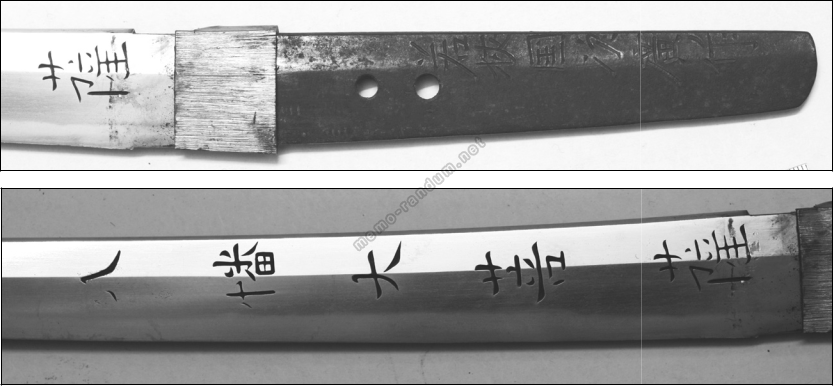




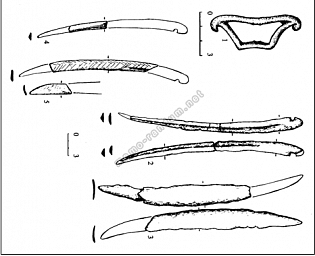
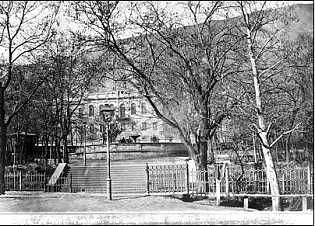
ذڑذ¾ذ¼ذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر€ذ¸ذ¸