О подходах к формированию оружейного собрания в Этнографическом музее в 1902–1940-х годах (На примере кавказских коллекций Российского этнографического музея), Нератова Е.И. (Санкт-Петербург)
Министерство обороны Российской Федерации Российская Академия ракетных и артиллерийских наук Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Война и оружие Новые исследования и материалы Труды Третьей Международной научно-практической конференции 16–18 мая 2012 года
Часть IIСанкт-Петербург
ВИМАИВиВС 2012
© ВИМАИВиВС, 2012
© Коллектив авторов, 2012
СОЗДАНИЮ Этнографического Отдела отводилась большая роль в колоссальном по тем временам проекте имперского музея – Русского музея Императора Александра III. Неслучайно началу его непосредственной деятельности предшествовало большое количество совещаний, прошедших в 1901 г. На них вырабатывались основные принципы организации и работы Отдела и принципы формирования будущих коллекций музея. Обсуждения проходили в присутствии видных ученых того времени (В.В. Радлова, Д.А. Клеменца, В.И. Ламанского, П.П. Семенова-Тянь-Шанского, Н.П. Кондакова, Д.А. Коропчевского, А.Н. Пыпина, В.В. Стасова, А.И. Соболевского, А.Н. Харузина, А.А. Шахматова, П.Н. Шеффера), вице-президента Академии Художеств и будущего министра народного просвещения И.И. Толстого и августейшего управляющего Императорским Русским музеем Великого князя Георгия Михайловича.
Этнографический Отдел Русского музея (ЭОРМ) должен был с самого начала не только в целом соответствовать своей задаче (представлять и изучать народы Российской империи, сопредельных стран и славян), но и сразу быть хорошо систематизированным музеем с грамотно подобранными коллекциями и соответствующим им зданием.
Это серьезное отношение к проектируемому музею, подведение научной почвы под все стороны его деятельности, безусловно, имело важное значение. Однако оно же имело и оборотную сторону, что проявилось еще на стадии обсуждения программы музея.
В результате, наряду с темами, которые разрабатывались детально, оказались и такие, которые предлагалось решать в каждом конкретном случае в «рабочем порядке». Практически негласно к этим вопросам было отнесено и оружие, комплектование собрания которого в фондах нашего музея происходило весьма неоднозначно и неравномерно.
Как же сложилась такая ситуация?
Уже в ходе первого предварительного совещания по вопросам об устройстве и организации Этнографического Отдела Русского музея, проходившего 30 января 1901 г., возник вопрос: «какие именно предметы материального быта должны входить в состав коллекций?»1.
Участники совещания в целом согласились с мнением Д.А. Клеменца, что этнографический музей должен собирать предметы, обладающие начальным критерием «этнографичности», т.е. те, которые человек «делает для своего домашнего обихода, своими инструментами, для удовлетворения своих потребностей»2.
На следующем заседании, состоявшемся 13 февраля 1901 г., было решено составить специальную Программу для собирания коллекций будущего музея3. Для ее разработки было предложено использовать в качестве базовой программу Императорского Русского Географического Общества (ИРГО) «О собирании предметов для Этнографического музея Общества» 1864 г.4, а также все уже существовавшие к началу ХХ в. наработки в этой области знаний5.
Программа для собирания этнографических предметов, изданная Этнографическим Отделом Русского музея в 1902 г., включала следующие темы: поселение, постройки, жилище и его принадлежности; одежда и украшения; техника в народном быту; пища и напитки; занятия и промыслы; семейный быт; суеверия и гадания; народная медицина6. В дальнейшем было издано еще два выпуска этой Программы7, которые мало чем отличались от первого.
Оружие упоминалось только в теме «Занятия и промыслы», в разделах «Охота» и «Обработка металлов». Причем в одном разделе указывалось, что охота интересует ЭОРМ главным образом «в тех местах, где этим занимается большинство населения, где это не забава, а источник жизни» и что, прежде всего, следует обращать внимание на существующие приспособления для ловли и охоты без помощи огнестрельного оружия8. В другом – об оружии было сказано лишь в напечатанном курсивом примечании: «Для некоторых народов отмечаем необходимость собирать и давать сведения об оружии»9.
Эта фраза в Программе явилась спасительной лазейкой для комплектования коллекций, в состав которых входило оружие. Ведь среди этнографов первой половины ХХ в. не было полного единодушия в степени «этнографичности» такого рода предметов.
В то время как Мануфактурные, Промышленные, Всемирные выставки XIX – начала ХХ в. с удовольствием экспонировали традиционное кавказское оружие, решение о том, насколько оно актуально для собрания этнографического музея, принято не было. П.П. Семенов-Тянь-Шанский как член Комитета по устроению Всероссийской кустарной выставки говорил, что «в кустарном производстве вообще есть, конечно, много этнографических предметов, но чтобы иметь этнографическое значение, предмет кустарного производства должен подходить под известные признаки, в определение которых теперь было бы лучше не входить, т.к. это может завести очень далеко»10. К сожалению, это высказывание не помогло в выработке критериев отбора для этнографического собрания предметов, относящихся к кустарному, а также ремесленному производству. Д.А. Клеменц согласился, что сформулировать их сложно и сказал, что подобные вопросы придется решать особо в каждом конкретном случае11. Так научное учреждение, пытавшееся систематизировать и структурировать все области своей деятельности, после долгих дискуссий положилось на случай и на «особые решения».
Более того, Д.А. Клеменц считал, что первое время в музей нужно принимать все, т. к. «провинциальные корреспонденты еще не скоро поймут, что именно нужно музею», обижать их отказами не следует, ибо «ими будет поддерживаться музей»12.
И именно благодаря корреспондентам ЭОРМ, а также частным лицам, собрание музея в начале ХХ в. пополнялось образцами кавказского оружия.
Если проанализировать в целом процесс пополнения коллекций традиционным оружием в 1902–1940 гг., то можно сделать следующие выводы:
1. Приобретение оружия делалось в основном не штатными сотрудниками музея и не в плановых экспедициях, а многочисленными корреспондентами музея. А именно: востоковедом Н.Я. Марром, студентами З.П. Валаевым, М.О. Зандукели, Г.А. Бонч-Осмоловским (впоследствии сотрудником ЭОРМ), архидиаконом С.В. Тер-Аветисяном, агрономом и заведующим управлением кустарной промышленности на Кавказе А.С. Пираловым, художницей А.Л. Млокосевич, Харламовым, ювелиром Саидом Магомед-Оглы. Как видно, большинство этих корреспондентов не были учеными-этнографами. И все они работали как в рамках Программы музея, так и на собственное усмотрение.
2. Из штатных сотрудников музея оружие на Кавказе в начале ХХ в. приобреталось лишь двумя: этнографом, археологом, кавказоведом А.А. Миллером и художником К.З. Кавтарадзе. К.З. Кавтарадзе привез из своей поездки на родину в 1917 г. один кинжал и четыре сабли. А замечательный ученый, а заодно и член Императорского Русского Военно-исторического Общества А.А. Миллер за многие годы своих экспедиций на Кавказ привез в музей лишь один кинжал, одно кремневое ружье и один кремневый пистолет. В 1930–1940-х гг. оружие с Кавказа привозили сотрудники музея: Е.Н. Студенецкая, Л.Ф. Виноградова и В.П. Муратхан. Всего ими было приобретено пять кинжалов, четыре из которых изготовлены в 1930-х гг.
Складывается впечатление, что штатные сотрудники музея не отводили оружию в традиционной культуре народов Кавказа столь же значимую роль, как корреспонденты музея, и потому привозили из своих экспедиций лишь единичные предметы. И это несмотря на то, что для народов Кавказа воинская культура являлась органичной частью народной культуры! Без нее невозможно себе представить быт этих народов, их социальную организацию, многие обычаи и обряды. Оружие было атрибутом общественных отношений, неотъемлемым элементом мужского костюма и, по большей части, результатом работы местных мастеров (клиночников, серебряников, мастеров золотой насечки и многих других), а нередко и произведением искусства.
Впрочем, рассматривая отчеты о приобретениях предметов в поездках, которые оставили корреспонденты музея, становится очевидным, что оружие было весьма недешево в те времена. Поэтому напрашивается вывод, что, не имея четких указаний в Программе насколько оружие является необходимым предметом для этнографического собрания, наши предшественники (сотрудники музея) просто не рисковали делать слишком дорогие приобретения в экспедициях. А частные лица гораздо смелее тратили музейные средства на приобретение тех или иных предметов, не говоря уже о том, что местные жители не могли себе представить, что бытовавшее на Кавказе оружие может быть спорным для этнографического музея.
3. Еще одним источником поступления оружия стали дары музею или продажа предметов частными лицами. Это пополнение не было ни систематическим, ни целенаправленным. Среди дарителей могут быть названы Великий князь Георгий Михайлович, Император Николай II (приобретший для музея коллекцию Ф.М. Плюшкина), П.П. Потоцкий. В оружейные части этих коллекций входило кавказское, иранское и турецкое оружие. Среди частных лиц, продававших традиционное оружие музею, были: М.В. Синегуб, А.П. Эллов, Е.М. Мартынова, Е.Е. Тевяшев и др.
Интересно, что все предложения о поступлении кавказского оружия, которые происходили непосредственно в музее, чаще всего рассматривались как подходящие тематике музея и весьма желательные для пополнения музейных коллекций. И это объяснимо. Совет Этнографического Отдела обсуждал необходимость приема в фонды предлагаемых предметов и решал оплатить их приобретение. Таким образом, оплата происходила уже на основании решения Совета (а не до оного – на свой страх и риск – в экспедиции).
4. Наконец, был такой характерный для 1920–1950-х гг. источник поступления, как передача из других учреждений и из Государственного музейного фонда. В те годы многие музеи были вынуждены безвозвратно отдавать предметы из своих коллекций (и хорошо, если в другие музеи). ЭОРМ очень пострадал во время таких передач, однако в эти же годы удалось и пополнить свои фонды замечательными предметами. Среди них было и кавказское оружие.
Если посмотреть на процентное соотношение поступлений кавказского оружия в фонд музея из разных источников, то можно обнаружить, что более 40 % поступлений приходится на частных лиц-корреспондентов музея, комплектовавших коллекции в своих поездках на Кавказ за счет музея. Около 30 % приходится на поступления от частных лиц, в том числе коллекционеров, даривших или продававших в музей предметы из своих собраний в Петербурге (Петрограде–Ленинграде). Чуть менее 20 % – на поступления из других учреждений. И лишь немногим более 10 % предметов было привезено из экспедиций сотрудниками музея.
Отношение в нашем музее к оружию, как к чему-то второстепенному сохранялось и в дальнейшем. Казалось, что оно не совсем подходило тематике этнографического музея. И основными причинами этого для этнографов начала ХХ в. можно считать следующие:
Во-первых, этнография XIX в. стремилась изучать первобытные народы. И хотя исследователями признавалось, что таких «диких» (иначе: не испорченных цивилизацией) народов уже к началу ХХ в. было относительно немного и все они в большей или меньшей степени претерпели изменения под влиянием европейской культуры, было подспудное («инерционное») стремление к этнографическому «идеалу». И в связи с этим хотелось видеть и оружие таким же первобытным или хотя бы достаточно архаичным.
Во-вторых, мешало справедливое суждение, что оружие чаще всего является результатом работы профессиональных мастеров. Что нередко вызывало решительное расхождение между понятиями «изготовление» и «бытование», столь важными для этнографии.
В-третьих, желание ученых начала ХХ в., определяя круг интересов любой науки, сузить ее. От энциклопедизма XVIII в. наука шагнула к специализации. И исследователи старались оставлять себя в четких рамках своей науки, несмотря на то, что частенько касались пограничных тем.
Эти же причины стали в дальнейшем поводом для передачи части оружейных коллекций в другие учреждения.
Отношение к оружию в собрании нашего музея изменилось совсем недавно. И в настоящее время при первой же имеющейся возможности мы пополняем фонды традиционными образцами оружия народов Кавказа.
1 Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 5.
2 Там же. Л. 20 об.
3 Там же. Л. 6 об.
4 Этнографический сборник ИРГО. СПб., 1864. Вып. VI. Приложения. С. 1–7; Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 27–30.
5 Программа для собирания этнографических сведений, составленная при Этнографическом Отделении императорского Общества Любителей Естествознания, антропологии и Этнографии. М., 1887; Программа для собирания сведений по этнографии. Императорское Русское Географическое Общество. СПб., 1901. С. 1–9.
6 Программа для собирания этнографических предметов. Изд. Этнографического Отдела Русского музея. Изд. 1-е. СПб.
7 Программа для собирания этнографических предметов. Изд. Этнографического Отдела Русского музея. Изд. 2-е. СПб.; Программа для собирания этнографических предметов. Изд. Этнографического Отдела Русского музея. Изд. 3-е. СПб., 1904.
8 Программа для собирания этнографических предметов. Изд. Этнографического Отдела Русского музея. Изд. 1-е. СПб. С. 36; Программа для собирания этнографических предметов. Изд. Этнографического Отдела Русского музея. Изд. 2-е. СПб. С. 41; Программа для собирания этнографических предметов. Изд. Этнографического Отдела Русского музея. Изд. 3-е. СПб., 1904. С. 41.
9 Программа для собирания этнографических предметов. Изд. Этнографического Отдела Русского музея. Изд. 2-е. СПб. С. 29; Программа для собирания этнографических предметов. Изд. Этнографического Отдела Русского музея. Изд. 3-е. СПб., 1904. С. 29.
10 Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 21.
11 Там же.
12 Там же. Л. 63 об.

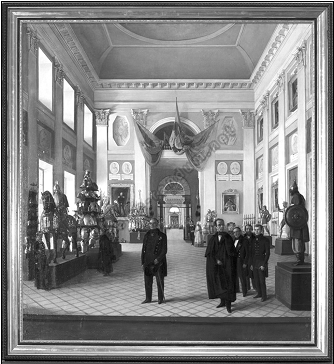
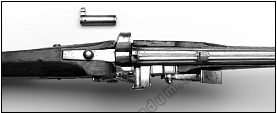
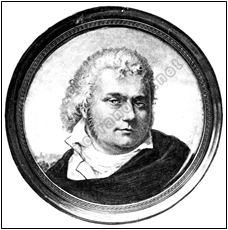
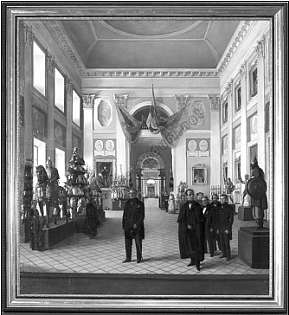
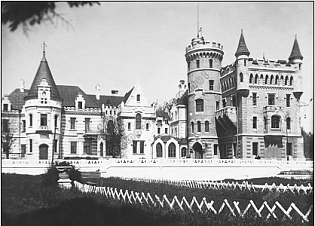


Комментарии