–‰–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ϋ–Η–Ε–Β–Κ ―à―²–Α–±―¹-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –°―Ä–Η―è –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤–Α, –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α –¦.–‰. (–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α)
–€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Α―è –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ ―¹–≤―è–Ζ–Η –£–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –ù–Ψ–≤―΄–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ –Δ―Ä―É–¥―΄ –ü―è―²–Ψ–Ι –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η 14βÄ™16 –Φ–Α―è 2014 –≥–Ψ–¥–Α
–ß–Α―¹―²―¨ IV–Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥
–£–‰–€–ê–‰–£–Η–£–Γ 2014
¬© –£–‰–€–ê–‰–£–Η–£–Γ, 2014
¬© –ö–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, 2014
–û–ë–†–ê–©–ê–·–Γ–§ –Κ ―ç–Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Α―Ä―è–¥―É ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄–Φ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Κ–Α–Κ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α, –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Β–Β ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η. –û–Ϋ–Η –¥–Α―é―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ ―Ö–Ψ–¥–Β –Μ–Ψ–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –Α―Ä–Φ–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –±―΄―²–Β, –Ϋ–Ψ –Η ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―² –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –Η –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ –Η―Ö –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–Β–≤.
–Δ–Α–Κ, –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―â–Η–Β―¹―è –≤ –û―²–¥–Β–Μ–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è (–û–ü–‰ –™–‰–€) –Ω–Ψ–Μ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, ―à―²–Α–±―¹-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –°―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α 1912βÄ™1915 –≥–≥.
–†–Ψ–¥ –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Β–Ϋ ―¹ XVII –≤. –£–Ψ–Β–≤–Ψ–¥–Α –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –¦–Α–≤―Ä–Β–Ϋ―²―¨–Β–≤–Η―΅ –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –±–Ψ―è―Ö ―¹ –Κ―Ä―΄–Φ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―²–Α―²–Α―Ä–Α–Φ–Η 1677 –≥. –£ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α―Ö ―¹ –ù–Α–Ω–Ψ–Μ–Β–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ 1812βÄ™1815 –≥–≥. –Φ―΄ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Φ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –¥–≤―É―Ö –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤―΄―Ö βÄ™ –‰–≤–Α–Ϋ–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅–Α (1775βÄ™1820) –Η –‰–≤–Α–Ϋ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α (1763βÄ™1834). –û–±–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ 1812 –≥. –≤ –±–Ψ―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Α–≤―¹―²―Ä–Ψ-―¹–Α–Κ―¹–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤ –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Η–Η, –¦–Η―²–≤―΄ –Η –ü–Ψ–Μ―¨―à–Η.
–û―²–Β―Ü –°.–ù. –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤–Α ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ-―²―É―Ä–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β 1877βÄ™1878 –≥–≥. –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –Μ–Β–Ι–±-–≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ –≤ –Μ–Β–Ι–±-–≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ –≤ ―΅–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α.
–®―²–Α–±―¹-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –°―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ (1885βÄ™1915) –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―É–Ϋ―²–Β―Ä-–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Μ–Β–Ι–± –≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –Α―Ä–Η―³–Φ–Β―²–Η–Κ―É, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ, –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Ψ–Ω–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é –Η –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é1.
1 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1913 –≥. –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –£.–£. –•–Β―Ä–≤–Β –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Μ –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Β―¹―²―¨ –Μ–Β–Κ―Ü–Η―é –¥–Μ―è –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Κ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―é –¦–Β–Ι–Ω―Ü–Η–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Η―²–≤―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Μ–Β–Ι–±-–≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–Μ ―¹–Β–±―è ―¹–Μ–Α–≤–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨2.
–ü–Ψ –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –£.–ê. –ö–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–≤–Α 28 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1912 –≥. –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Α–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι –Μ–Β–Ι–±-–≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α3. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ϋ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É, ―Ö–Ψ―²―è, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―É―é. –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β, ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Η –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤–Α ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ ―²―è–≥–Ψ―²–Η–Μ–Α.
–ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â―É―é –Α―Ä–Φ–Η―é, –±―΄–Μ–Α –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–Ι: –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹ ―²―è–Ε–Β–Μ―É―é –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é.
–£ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―ç―²–Α–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –ê.–ü. –î–Η―²–Β―Ä–Η―Ö―¹–Α –Ψ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄4.
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―É–Ε–Β 27 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –£.–£. –Δ–Β–Ω–Μ–Ψ–≤―É ―¹ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ. –ù–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Α, –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É: ¬Ϊ–€–Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η ―¹―΅–Η―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η―² –Ϋ–Ψ―΅–Β–≤–Ψ–Κ –≤ –Ψ–Κ–Ψ–Ω–Α―Ö. –û―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –Φ–Ψ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ ―΅–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –¦―é–±–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹―é–¥–Α ―è –Ψ–¥–Ϋ―É –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Ψ―΅–Β–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Φ –≤ –¥–Ψ–Ε–¥―¨, –Α –¥―Ä―É–≥―É―é βÄ™ –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ ―¹–Α―Ä–Α–Β, –Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–ΒβÄΠ¬Μ5.
–£ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Β –Ψ―² 9 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1914 –≥. –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä―É –Δ–Β–Ω–Μ–Ψ–≤―É6 –Ψ–Ϋ –Ω–Η―à–Β―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Μ ―¹–Β–±–Β ―²―Ä–Β–±―É–Β–Φ―É―é –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―É –≤ –Μ–Η―Ü–Β –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ–Α –™.–™. –ï–Μ–Η―¹–Β–Β–≤–Α, ¬Ϊ–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É (–Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –±―΄–Μ 4 –≥–Ψ–¥–Α, 14 –Μ–Β―² –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β), ―²–Α–Κ –Η –Ω–Ψ ―Ä–Ψ–¥―É –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α –Ω–Ψ –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η (–Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―΅–Α―¹―²–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β 1000 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α-―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η―²–Β–Μ―è –±–Α–Ϋ–Κ–Α –Μ–Β―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤), –Α –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä―É, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Μ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―ç―²–Α–Ω–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –Η –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Α ―ç―²–Α–Ω–Α¬Μ. –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α–Μ: ¬Ϊ–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―è –Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―é ―Ä–Ψ―²―É –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –Δ–Α–Κ, –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ϋ–Ψ―é –Η―¹―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –±–Ψ–Μ–Β–Β 100 ―Ä., –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅―É –Κ–Α–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β βÄ™ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ω―Ä–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Κ–Μ–Α–¥ –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―². –†–Β–Κ–≤–Η–Ζ–Η―Ü–Η―è –Ε–Β ―É –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Α―¹―²–Ψ ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²―è–≥–Ψ―²–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Η–≥―Ä–Α―²―¨ ―²–Α–Κ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨, –Κ–Α–Κ―É―é –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨¬Μ7.
–ù–Β –Ϋ–Α–¥–Β―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ ―É–Ε–Β 11 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –≤ ―à―²–Α–± 9-–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –Κ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ―É –ê.–ù. –€–Α―΅–Η–≥–Η–Ϋ―É ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â―É―é –Α―Ä–Φ–Η―é: ¬Ϊ–€–Ψ–Ι –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ –ï–Μ–Η―¹–Β–Β–≤ –≤ ―¹―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Μ―è ―ç―²–Α–Ω–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―è –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―¹―²―Ä–Ψ―è –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é¬Μ8.
12 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Ϋ–Β―É–≥–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α: ¬Ϊ–Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―è –Ω–Ψ–¥–Α–Μ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―² –Ψ–± –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ¬Μ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ε–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―É –Δ–Β–Ω–Μ–Ψ–≤―É ―¹ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ ¬Ϊ–≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―É –™―Ä―É–¥–Β–Κ–Α –Η –≤–Ζ―è―²–Η–Η –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ –¥–≤―É―Ö –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Ψ–≤¬Μ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―Ö, –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –±–Ψ―é¬Μ9.
–ù–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –Φ–Β―¹―²–Β―΅–Κ–Β –Ξ–Φ–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä―΄ –¥–Μ―è –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥ –¥–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι¬Μ, ―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹ ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―³―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Κ, –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –≤ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β10.
–£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è βÄ™ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1914 –≥. –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α –Ψ –Ω―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Η–Ζ –Ξ–Φ–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹–≤―΄―à–Β 300 –Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–≤―¹―²―Ä–Η–Ι―Ü–Β–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β 23 –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥ –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ11.
–½–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –°―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –¥–Β–Μ–Α–Φ–Η βÄ™ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è 200 –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ö–Μ–Β–±–Ψ–Ω–Β–Κ–Α―Ä–Ϋ–Η –¥–Μ―è 2-–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è 1-–Ι –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η; –Ω―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α ―¹ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ: ¬Ϊ464 ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Η, 49 –Α–≤―¹―²―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Η 199 –Μ–Ψ–Ω–Α―², 13 ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤ 89 –Φ–Φ, 2 –≥–Α―É–±–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±, 71 ―è―â–Η–Κ–Α –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η 358 –Ω―É–¥–Ψ–≤ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –±–Β–Ζ ―É–Κ―É–Ω–Ψ―Ä–Κ–ΗβÄΠ¬Μ12.
–£–Ψ―² –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―², –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Φ–Ψ–Μ―è–Β―² –Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Β–≤―΄―Ö –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β–Ι:
¬Ϊ1914 –≥. 1 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è.
–ü―Ä–Ψ―à―É, –Β―¹–Μ–Η –Β―¹―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Α―è, ―É―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ ―΅–Α―¹―²―¨ –≤–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η 70-–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α, –Μ―é–¥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η ―Ö–Μ–Β–±–Α. –· –Ψ―²–¥–Α–Μ –Η–Φ –≤–Β―¹―¨ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ βÄ™ 60 –Ω―É–¥–Ψ–≤. –û―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―Ö–Μ–Β–±–Α –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η―² –≤―΄–Ζ–≤–Α―²―¨ –±―É–Ϋ―². –£―¹–Β–≥–Ψ –Η–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 100 –Ω―É–¥–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄–¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ 1 ―³―É–Ϋ―²―ɬΜ13.
4 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Α―΅―É 139-–≥–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι, ¬Ϊ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥―΄, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Κ –£–Α–Φ –Η–Ζ –Ξ–Φ–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Β –Η –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ –ë–Ψ–¥–Ζ–Β–Ϋ―²―΄–Ϋ―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―è―¹―¨ ―²–Α–Φ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥ –≤ –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Ξ–Φ–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Η―¹―¹―è–Κ–Α–Β―², –Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―è –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η―² –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–≤―è–Ζ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤. –î–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Κ–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η, ―¹ 26 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨¬Μ14.
8 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1914 –≥. –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –î–Η―²–Β―Ä–Η―Ö―¹ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Μ ―à―²–Α–±―¹-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤―É: ¬Ϊ–ù–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Ι―²–Β ―ç―²–Α–Ω –Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Ι―²–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Α –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―ç―²–Α–Ω –≤ –≥. –€–Β―Ö–Ψ–≤.15
–¦–Η―à―¨ 27 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1914 –≥., ―É–Ε–Β ―¹–Ψ ―¹―². –€–Β―Ö–Ψ–≤, ―à―²–Α–±―¹-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É ―ç―²–Α–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α –î–Η―²–Β―Ä–Η―Ö―¹―É –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ¬Ϊ–Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Κ –Φ–Β―¹―²―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Μ.-–≥–≤. –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ¬Μ16, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ 12-–Ι ―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι.
–†–Α–Ω–Ψ―Ä―² –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É 3-–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α –Ψ―² 3 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1914 –≥.:
¬Ϊ–î–Ψ–Ϋ–Ψ―à―É, ―΅―²–Ψ 12 ―Ä–Ψ―²–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Β–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Η–Ζ –¥. –™–Β–±―É–Μ―²–Ψ–≤, –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ―²–Β –¥–≤―É―Ö –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Β–Μ–Β–Ι. –½–Α―¹―²–Α–≤–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –≤–Ω―Ä–Α–≤–Ψ –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä –¥–Μ―è –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –Η –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι. –ï–Φ―É –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Α–Κ–Ε–Β, –Ϋ–Β―² –Μ–Η –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η, –Ϋ–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β. –û―² –Ζ–Α―¹―²–Α–≤―΄ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ 2 –Ω–Ψ–Μ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ–Α, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é―â–Η–Β ―É―â–Β–Μ―¨–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Η –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ¬Μ17.
9 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β 2-–Ι ―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι –Η 14 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥–Ω―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―â–Η–Κ―É –Δ–Η–Φ–Ψ―à―É–Κ―É –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α ―²–Β–Α―²―Ä –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥, –≤–≥–Μ―É–±―¨ –Π–Α―Ä―¹―²–≤–Α –ü–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –≥–¥–Β ―à–Μ–Η –±–Ψ–Η:
¬Ϊ1) –ü–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Α –Β―â–Β –Μ―É―΅―à–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Β, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨ –Ψ―² 1-–≥–Ψ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α 20 –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤, ―¹ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―É–¥―É―² –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨ –Η ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨ –Ψ–±–Ψ–Ζ –Ϋ–Α –Ε. –¥. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α ―¹―². –ö–Β–Μ―¨―Ü―΄ –Φ–Ϋ–Ψ―é –±―É–¥–Β―² ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η –≥–¥–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨. –î–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Ϋ–Α ―¹―². –Γ–Β–¥–Μ–Β―Ü–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ ―²–Β –Ε–Β –Μ―é–¥–ΗβÄΠ
2) –ü―Ä–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ:
–ù–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α―Ö, –¥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Η–Μ–Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Α, –Ϋ–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤βÄΠ
–‰–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Κ –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨.
–Γ―΄―Ä―É―é –≤–Ψ–¥―É –Ϋ–Β –Ω–Η―²―¨. –Δ–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥ –±―É–¥–Β―² –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Κ–Η–Ω―è―²–Ψ–Κ.
–·–±–Μ–Ψ–Κ–Η, –Κ–≤–Α―¹ –Η –Ω―Ä. –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²―¨ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Β―â–Α–Β―²―¹―è.
–½–Α–≤―²―Ä–Α (–Η–Μ–Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é) ―è –≤–Β–¥―É –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ, –Α –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é –Ζ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Ψ–Ι. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―²―¨ –Ϋ–Β –±―É–¥―ɬΜ18.
–Δ–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Δ–Η–Φ–Ψ―à―É–Κ―É 28 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1914 –≥. –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ¬Ϊ–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≤―¹–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö ―΅–Η–Ϋ–Α―Ö ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Β, –¥–Ψ –Ϋ–Α–±―Ä―é―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –±–Β–Μ―¨–Β, –Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤―É –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―é―â–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ψ–≤βÄΠ –½–Α–≤―²―Ä–Α ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –≤ –¥―Ä―É–≥―É―é –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―é, –≤–Β―Ä―¹―²–Α―Ö –≤ 15 –Ψ―²―¹―é–¥–Α, –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –†–Α–¥–Ψ–Φ―É. –ß–Α―¹ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±―É–¥–Β―² ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–Μ―è―Ä–Η–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―² –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–ΗβÄΠ –ï―¹–Μ–Η –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Ω―Ä–Η–±―É–¥―É―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄, ―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Η –Η―Ö¬Μ19.
25 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1915 –≥. –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –±―É–¥―É―΅–Η –Ϋ–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Β –Η –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β, ―Ä–Β―à–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η, –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ü―Ä―É―¹―¹–Η–Η –Η –≤ –™–Α–Μ–Η―Ü–Η–Η. –ù–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Α―è –Ζ–Η–Φ–Ϋ―è―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –≤ –€–Α–Ζ―É―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―Ö. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―É–≤―è–Ζ–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η, –≤ –Η―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Η –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ.
–ü–Ψ–Μ–Κ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –±–Ψ–Ι ―É –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Α –ï–¥–≤–Α–±–Ϋ–Ψ, –≤ 120 –Κ–Φ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –£–Α―Ä―à–Α–≤―΄. –ü―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄ –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤–Α.
¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É 1-–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α –Μ.-–≥–≤. –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α.
1915 –≥. 7 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è. –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Ι –¥–≤–Ψ―Ä –ï–¥–≤–Α–±–Ϋ–Ψ
–ü―Ä–Ψ―à―É –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ–Η ―¹–Β–Φ―¨―é –€–Α―Ä―Ü–Η–Ϋ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –≥-–Ε―É –¦–Α–Ϋ―É–Α, ―É–Β–Ζ–Ε–Α―é―â–Η―Ö –Η–Ζ ―³–Ψ–Μ―¨–≤–Α―Ä–Κ–Α –ï–¥–≤–Α–±–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É, –≤–≤–Η–¥―É –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Α 8 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―èβÄΠ –Γ―΅–Η―²–Α―é –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Φ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Φ―¨―è –≥. –€–Α―Ä―Ü–Η–Ϋ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–ΦβÄΠ¬Μ20
¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Μ.-–≥–≤. –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α
1915 –≥. 8 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è. 9 ―΅. 50 –Φ–Η–Ϋ. –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Ι –¥–≤–Ψ―Ä –ï–¥–≤–Α–±–Ϋ–Ψ
–ü–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 1-–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α –Μ.-–≥–≤. –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―à―É: –¥. –ï–¥–≤–Α–±–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Α –¥–≤―É–Φ―è –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Μ.-–≥–≤. –™―Ä–Β–Ϋ–Α–¥–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ 1-–Ι –Η 3-–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ―΄ –Μ.-–≥–≤. –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α.
–ù–Β–Φ―Ü―΄ –Β―â–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è –≤ –Ψ–≥―Ä–Α–¥–Β –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –ï–¥–≤–Α–±–Ϋ–Ψ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω―É―à–Κ–Η –¥. –ï–¥–≤–Α–±–Ϋ–Ψ. –û–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 34 ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ 2-–≥–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α. –Θ―²―Ä–Ψ–Φ, ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –Μ.-–≥–≤. –™―Ä–Β–Ϋ–Α–¥–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è –Α―²–Α–Κ–Α –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Α, –Ψ ―΅–Β–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Δ–Β–Ω–Μ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨ –¥–Μ―è ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι¬Μ21.
¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É 1-–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–ΑβÄΠ 2-–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Ψ–Ω―É―à–Κ―É –Μ–Β―¹–Α, –Φ–Η–Φ–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―΅–Β―Ä–Α –Φ―΄ ―à–Μ–Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥. –ö ―¹–Β–≤–Β―Ä―É –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ βÄ™ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ―΄. –Γ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É (–Ω–Ψ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 6-–Ι ―Ä–Ψ―²―΄), ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Η–Ι –Ψ–±―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ―¹―è.
–Θ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―Ä–Ψ―²–Β 2 ―É–±–Η―²―΄, 2 ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Η 2 –Κ–Ψ–Ϋ―²―É–Ε–Β–Ϋ―΄ βÄ™ –≤―¹–Β ―à―Ä–Α–Ω–Ϋ–Β–Μ―¨―é. –†―É–Ε–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Μ–Α–±. –ß–Α―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―é―² –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η ―à―Ä–Α–Ω–Ϋ–Β–Μ–Β–Ι βÄ™ –Η, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Η–Ζ –Φ–Ψ―Ä―²–Η―ÄβÄΠ¬Μ22.
–£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –¥–Ϋ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –ü―΄–Ε–Β–≤ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤―É: ¬Ϊ–½–Α–≤―²―Ä–Α 9 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –≤ 6 ―΅. ―É―²―Ä–Α –±―É–¥–Β―² –Α―²–Α–Κ–Α –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Α. –†–Ψ―²–Α–Φ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ 5 ―΅. –Ϋ–Ψ―΅–ΗβÄΠ 2-–Ι ―Ä–Ψ―²–Β ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –≤ –¥. –ï–¥–≤–Α–±–Ϋ–Ψ –Η ―¹―²–Α―²―¨ ―É –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Α, –≥–¥–Β –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Ψ―²―΄ –Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²―΄. –†–Ψ―²–Β ―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Β, –Α ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―è―¹―¨ –¥–Ψ–Φ–Α–Φ–Η. –û–¥–Η–Ϋ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ –≤―΄―Ä―΄―²―΄―Ö ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ψ–Κ–Ψ–Ω–Α―Ö, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Β–Β –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–≥―Ä–Α–¥―΄ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Α. –≠―²–Ψ–Φ―É –≤–Ζ–≤–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è, –Ψ–Κ–Α–Ω―΄–≤–Α―è―¹―¨ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Φ–ΗβÄΠ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä―΄–Β –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ω―΄, ―²―è–Ϋ―É―â–Η–Β―¹―è –Ω–Ψ –≥―Ä–Β–±–Ϋ―é, –Κ―É–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä. –†–Ψ―²–Β –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ―é –Ψ–±–Α –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Α. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ε–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –û–¥–Ϋ―É –¥–≤―É–Κ–Ψ–Μ–Κ―É –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α―²―¨ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Β –Κ 4-–Ι ―Ä–Ψ―²–Β. –ü―Ä–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é ―²–Η―à–Η–Ϋ―É –Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–Ϋ–Κ―É –Κ–Ψ―²–Β–Μ–Κ–Ψ–≤.
–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –ü―΄–Ε–Β–≤23¬Μ.
¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É 1-–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α. 1915 –≥. 9 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è. 2 ―΅. 30 –Φ–Η–Ϋ.
¬Ϊ–ù–Ψ―΅―¨―é –Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ψ―²–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Α―²–Α–Κ―É –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤. –ù–Α –Φ–Ψ–Β–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η. –Γ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Α, ―É–±–Β–¥–Η–≤―à–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Α―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β―², –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Β–Β –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η–Μ―¹―è ―Ä―É–Ε–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ. –£ ―¹–Α―Ä–Α–Β 1 ―É–±–Η―² –Ω―É–Μ–Β–Ι (–≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É), 1 –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ. –ü―Ä–Α–≤–Β–Β –±–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α, ―É –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Α –Ζ–Α–Φ–Β―²–Β–Ϋ –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨, ―²–Α–Κ –Ε–Β –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ι –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –Μ–Β―¹–ΑβÄΠ¬Μ24.
–ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É 4-–≥–Ψ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α 14-–Ι ―Ä–Ψ―²―΄: ¬Ϊ–û–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–±–Ψ–Ι―΅–Β–Β, –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Μ–Ψ―â–Η–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ–Ψ–Ω, ―΅―²–Ψ ―²―è–Ϋ–Β―²―¹―è –Ζ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –Κ –Μ–Β―¹―É. –û–Κ–Ψ–Ω –Ϋ–Α –±―É–≥–Ψ―Ä–Κ–Β. –Δ–Α–Φ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹–Η–¥―è―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Α–¥–Ψ –±―΄ –Η―Ö –Ω–Ψ–¥―¹―²―Ä–Β–Μ–Η―²―¨ –Η –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ζ–Α―¹–Α–¥–Η―²―¨ –≤ –Ψ–Κ–Ψ–Ω –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ –±―΄ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ –Ζ–Α–±―Ä–Α―²―¨―¹―è ―²―É–¥–Α. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Β–¥–Η ―¹―é–¥–Α¬Μ25.
–†–Α–Ω–Ψ―Ä―² –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É 3-–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α.
¬Ϊ1915 –≥. 10 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è. 2 ―΅–Α―¹–Α 30 –Φ–Η–Ϋ. –¥–Ϋ―è. –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Ι –¥–≤–Ψ―Ä –ï–¥–≤–Α–±–Ϋ–Ψ.
–ù–Α―à–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ. –‰–Ζ 1-–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ï–≥–Ψ –£–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―Ä–Ψ―²―΄, –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ 2 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É–±–Η―²―΄ –Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄. –û–Ω―΄―² –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η. –û–Ω―è―²―¨ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Φ–Ψ―Ä―²–Η―Ä―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² –Ϋ–Β–¥―É―Ä–Ϋ–ΨβÄΠ –™―Ä–Β–Ϋ–Α–¥–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Β –Κ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–ΗβÄΠ¬Μ26
–û ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η ―³–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―Ü–Β–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Ϋ–Β–≥―É, –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―è –Ω–Η―â–Η, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―² ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―² –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤–Α:
¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ.
1915 –≥. 10 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 5 ―΅–Α―¹. –î. –ö―É―΅–Β –€–Α–Μ―΄.
–î–Ψ–Ϋ–Ψ―à―É, ―΅―²–Ψ 2-―è ―Ä–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –≤ –¥. –ö―É―΅–Β –€–Α–Μ―΄, –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤. 2 –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ 14-―é ―Ä–Ψ―²―É –ï–≥–Ψ –£–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Η 4-―è ―Ä–Ψ―²–Α (―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è) –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –¥. –€–Α–Κ–Ψ–≤–Κ–Β. 3-―è ―Ä–Ψ―²–Α ―¹ 2 –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Α–Φ–Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Α –≤ ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –·–Ϋ―É―à–Α27. –ë–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β 4 ―¹―É―²–Ψ–Κ –±–Ψ―è –≤―¹―é –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Η –≤–Β―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α–Μ―¹―è ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ. –¦―é–¥–Η –Β―â–Β –Ϋ–Β –Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ―΄. 2-―è ―Ä–Ψ―²–Α –Η–Φ–Β–Β―² 155 ―à―²―΄–Κ–Ψ–≤¬Μ28.
16 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1915 –≥. –ê―Ä–≥–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ―²–Α–Μ ¬Ϊ–Ψ–± ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―³–Β–Μ―¨–¥―³–Β–±–Β–Μ―è 2-–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ ―³–Β–Μ―¨–¥―³–Β–±–Β–Μ―è-–Ω–Ψ–¥–Ω―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Α –‰–≥–Ϋ–Α―²–Η―è –Δ–Η–Φ–Ψ―à―É–Κ–Α; –Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤―¹–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η 3-–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Φ–Μ–Α–¥―à–Η―Ö ―É–Ϋ―²–Β―Ä-–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –€–Α–Φ–Α–Ι–Κ–Ψ–≤–Α –Η –ï–Φ–Β–Μ―¨―è–Ϋ–Α –ë–Α―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ¬Ϊ–≤ –±–Ψ―è―Ö ―É –Ω–Ψ―¹. –ï–¥–≤–Α–±–Ϋ–Ψ 8, 9, 10 –Η 11 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1915 –≥. –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―²–±–Η―²–Η―é –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Α―²–Α–Κ –Ϋ–Α 1-–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ¬Μ –Η 4-–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―³–Β–Μ―¨–¥―³–Β–±–Β–Μ―è –‰. –Δ–Η–Φ–Ψ―à―É–Κ–Α, –Β―³―Ä–Β–Ι―²–Ψ―Ä–Α –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η―è –ë–Α–Ι–Κ–Ψ–≤–Α –Η ―Ä―è–¥–Ψ–≤―΄―Ö –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –Γ–Η–¥–Ψ―Ä―É–Κ–Α, –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –™–Α–≥―É–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –¦–Α―Ä–Η–Ϋ–Α, –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –£–Β–Ω―Ä–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –‰–≤–Α–Ϋ–Α –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ –±–Ψ―è―Ö –Ω―Ä–Η –ï–¥–≤–Α–±–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ ―Ä―É–Ε–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ –Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―² –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α¬Μ. –û―¹–Ψ–±–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ ―É–Ϋ―²–Β―Ä-–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Α –ö–Α–Ω―É―¹―²–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ¬Ϊ–≤ –±–Ψ―é ―É –Ω–Ψ―¹. –ï–¥–≤–Α–±–Ϋ–Ψ 9 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1915 –≥., –Ω–Ψ –≤―΄–±―΄―²–Η–Η –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –Ω–Ψ–Μ―É―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η –≤―΄–≤–Β–Μ –Β–≥–Ψ –Η–Ζ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è¬Μ29.
–£―¹–Β ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è βÄ™ –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–¥–Α βÄ™ –°.–ù. –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Α, –Ψ―² –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤.
¬Ϊ–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –°―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅!
–î–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. –· –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Ω–Η―Ä–Ψ―¹, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―΅–Η –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ ―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Ψ―²―΄. –ü―Ä–Ψ―à―É ―²–Β–±―è –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤ –Μ―é–±–Β–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―²―Ä―É–¥ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―²―¨ –Ω–Α–Ω–Η―Ä–Ψ―¹―΄. –€–Β–Ϋ―è ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –≥–Ϋ–Β―²–Β―² –Φ–Ψ–Β –≥–Μ―É–Ω–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨. –î–Α–Ι –ë–Ψ–≥ ―²–Β–±–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―è.
–®―²–Α–±―¹-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Γ–Α–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι30¬Μ.
–ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥, 4 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1914 –≥.
–Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –±–Α―Ä–Η–Ϋ!
–ù–Α –¥–Ϋ―è―Ö ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Ψ―² –Φ―É–Ε–Α –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –Ω–Η―à–Β―², ―΅―²–Ψ –£―΄ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄ –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ 2-–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α. –≠―²–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ, –Η ―è ―¹–Ω–Β―à―É –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –£–Α―¹ ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ―΄–Φ –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –±–Ψ―è. –®–Μ–Β―² –£–Α–Φ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ –Η –ù―é―à–Α. –î–Α–Ι –ë–Ψ–≥, ―΅―²–Ψ–±―΄ –£―΄ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α–Φ, –Η –Φ―΄ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –£–Α―¹ –Ε–Η–≤―΄–Φ –Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Φ. –£―¹–Β –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –£―΄ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄βÄΠ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –£―΄ –Ε–Η–≤―΄. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Κ –£–Α–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α: –Β―¹–Μ–Η ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¹―è ―¹ –Φ–Ψ–Η–Φ –Φ―É–Ε–Β–Φ (–±―É–¥–Β―² ―É–±–Η―²), ―²–Ψ –±―É–¥―¨―²–Β –¥–Ψ–±―Ä―΄, –Φ–Β–Ϋ―è ―É–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Η―²―¨, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―è –Ω–Η―¹–Β–Φ, ―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É―é―¹―¨, –Ω–Μ–Α―΅―É, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―¹–Ω–Α―²―¨, –Β―¹―²―¨ –Η –¥–Α–Ε–Β ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨. –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–¥–Α, ―΅―²–Ψ –£―΄ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β―²–Β, –Η –Φ―΄, –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, –Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –£–Α―¹ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α―Ö –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨–Β.
–ë–Α―Ä–Η–Ϋ! –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ι―²–Β –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α–Φ: –½–Α―É―à–Κ–Β–≤–Η―΅―É31, –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤―É32, –ü―΄–Ε–Β–≤―É –Η –ö–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Β–≤―É33.
–•–Β–Μ–Α–Β–Φ –£–Α–Φ –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è.
–Θ–≤–Α–Ε–Α―é―â–Η–Β –Η –Μ―é–±―è―â–Η–Β –£–Α―¹ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Η –ù―é―à–Α –Δ―Ä–Ψ―Ü―é–Κ¬Μ34.
–Γ–Ω―É―¹―²―è –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–≤–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –°.–ù. –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –Η –Λ. –Δ―Ä–Ψ―Ü―é–Κ–Α:
¬Ϊ–£–Α―à–Β –£―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–Β.
–£ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε―É―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Α–Ζ–Α―Ä–Β―²–Β, –Φ–Ψ―è ―Ä―É–Κ–Α –≤ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –ö–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ –Δ―Ä–Ψ―è–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι: ―É –Ϋ–Η―Ö ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Α–Μ―¨―Ü―΄ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―².
–®―²–Α–±―¹-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Γ–Α–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ 2-–≥–Ψ35 –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Γ–Φ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β, –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ –°―Ä―¨–Β–≤ –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ: –Ψ–Ϋ –≤ –≥―Ä–Ψ–±–Β –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Β―â–Β, ―ç―²–Ψ –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Α ―¹ –≥. –Γ–Α–Φ–Α―Ä―΄ –Η –Β–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α―é―². –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –≤–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―à―²–Α–±―¹-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Γ–Α–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–≥. –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –‰ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Η –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ –Δ―Ä–Ψ―Ü–Κ–Η–Ι-–Γ–Β–Ϋ―²―é―²–Ψ–≤–Η―΅36 ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ –≤ –Ε–Η–≤–Ψ―², –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –≥. –‰–≤–Α–Ϋ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β.
–ö–Α–Κ ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ-―²–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Γ–Κ–≤–Β―Ä–Ϋ–Η―Ü, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Β–Φ―É –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ψ–Ϋ ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―é. –•–Β–Μ–Α―é –£–Α–Φ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α –Η –Ω–Ψ–±–Β–¥―É –Ϋ–Α–¥ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Β–≤―Ä–Β–¥–Η–Φ―΄–Φ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥.
–ù―é―à–Α –£–Α–Φ –Κ–Μ–Α–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Η –Ζ–Α –£–Α―à―É –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Φ–Ψ–Μ–Η―² –ë–Ψ–≥–Α.
–Λ.–Δ―Ä–Ψ―Ü―é–Κ¬Μ37.
¬Ϊ15.IX.914.
–€–Η–Μ―΄–Ι –°―Ä–Η–Κ, –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é ―²–Β–±―è ―¹ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Α ―²–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―². –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Κ–Α –Η–¥–Β―² –≤―¹–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ―É, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ψ―² –ö–Ψ–Μ–Η –≤―¹–Β –Ϋ–Β―² –Ω–Η―¹–Β–Φ, –Α –Ω–Α–Ω–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ―² –€–Α―Ä–Η–Η –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Β–Ι –Ω–Η―à–Β―². –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è –Β–Φ―É –Β―â–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Α –Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Α ―²–≤–Ψ–Ι –Α–¥―Ä–Β―¹ –Ϋ–Α –î–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â―É―é –Α―Ä–Φ–Η―é. –Π–Β–Μ―É―é ―²–Β–±―è –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ–Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ.
–Δ–≤–Ψ―è –Ϋ―è–Ϋ―è¬Μ38.
–ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Φ ―³―Ä–Α–≥–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –¥–≤―É―Ö –Ω–Η―¹–Β–Φ –Ψ―² –™.–™. –ï–Μ–Η―¹–Β–Β–≤–Α, –Ϋ–Β–¥―É―Ä–Ϋ–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―²–Α–Κ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨―¹―è –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤:
23 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1914 –≥. ¬Ϊ–ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ–Α–Κ –£―΄, –Α ―è –Ϋ–Α―¹―΅–Β―² –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Β–¥―É―Ä–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, ―Ö–Μ–Β–±–Ψ–Φ –Η –Φ―è―¹–Ψ–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ. –Ξ–Μ–Β–± –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Η–Ζ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―Ö–Μ–Β–±–Ψ–Ω–Β–Κ–Α―Ä–Β–Ϋ, ―¹–Κ–Ψ―² –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≥―É―Ä―²–Ψ–≤βÄΠ –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Β –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ, ―²–Ψ ―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η―Ö –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨¬Μ.
8 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è –ï–Μ–Η―¹–Β–Β–≤ –Ω–Η―¹–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è―é―² –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Η―¹―΅–Η―¹–Μ―è–Β–Φ―΄―Ö ―¹–Ψ―²–Ϋ―è–Φ–Η; –¥–Β–Ϋ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η―Ö –Ϋ–Ψ―΅―É–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ 300βÄ™400, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Μ–Β–≥–Κ–Η–Φ. –ü–Η―â―É –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –≤–Α―Ä–Η―²―¨ ―¹ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α, –Α –Ψ–±–Β–¥ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―¹ 7 ―É―²―Ä–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è –¥–Ψ 11βÄ™12 ―΅.¬Μ39.
–‰ βÄ™ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨: ¬Ϊ–®―²–Α–±―¹-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –°―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ ―à―Ä–Α–Ω–Ϋ–Β–Μ―¨―é –≤ –Ε–Η–≤–Ψ―² 17 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –≤ 8 ―΅. ―É―²―Ä–Α –Η ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è –≤ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –≤ 10 ―΅. –≤–Β―΅., –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –Η ―΅–Α―¹ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è.
–ü–Ψ–≥―Ä–Β–±–Β–Ϋ –≤ –±―Ä–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Β –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –Ϋ–Α –Γ–Φ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Β.
–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤¬Μ40.
–°.–ù. –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤―É –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ 30 –Μ–Β―²!
–ù–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η βÄ™ ―¹–Μ–Β–¥―΄ –Ζ–Α–Ω–Β–Κ―à–Β–Ι―¹―è –Κ―Ä–Ψ–≤–ΗβÄΠ
–‰–Ζ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ϋ–Η–Ε–Β–Κ –°.–ù. –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤–Α ―è–≤―¹―²–≤―É–Β―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Μ–≥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥, –≤―¹–Β–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –±–Β―Ä–Β―΅―¨ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―É –Ϋ–Η―Ö, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è, ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η–Β–Ι.
–ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±―¹-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –€–Ψ–Μ–Μ–Β―Ä–Α, –Α–¥―ä―é―²–Α–Ϋ―²–Α –Μ–Β–Ι–±-–≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α. –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ψ–Ϋ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―² –±–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥ –‰–≤–Α–Ϋ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1915 –≥., –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Φ 1-–Ι –Α–≤―¹―²―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Η 9-–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Ι:
¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Α –ë–Ψ–≥―É, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β ―²–Α–Κ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –Θ–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ε–Α–Μ―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨, –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Ψ–ΦβÄΠ –ù–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤ –≤―΄–±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ 700 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –ù–Ψ –¥–Μ―è ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―è, –Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―΄–Φ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ, ―²–Α–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Η ―²―è–Ε–Β–Μ―΄, –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–ΗβÄΠ –û–±―â–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö ―¹–Α–Φ–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Α―è: –≤―¹―é–¥―É –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Β–Φ, –±―¨–Β–Φ, –±–Β―Ä–Β–Φ –≤ –Ω–Μ–Β–Ϋ –Η –≥–Ψ–Ϋ–Η–Φ –≤–Ψ–≤―¹―é. –£―¹–Β –Ε–Β –±–Β–Ζ –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―è –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨: –¥–Α―¹―² –ë–Ψ–≥, ―ç―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Η ―Ä–Β―à–Α―é―â–Η–Ι¬Μ41.
–£ 1916 –≥. –ê.–ù. –€–Ψ–Μ–Μ–Β―Ä –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η.
–€–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ –Ψ–± –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α―Ö βÄ™ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ε–¥―É―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―³–Ψ–Ϋ–¥ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è, –≥–¥–Β ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α–Φ, ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Ψ ―Ö–Ψ–¥–Β –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –≤–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―É–±–Η―²―΄―Ö, ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö, –±–Β–Ζ –≤–Β―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η―Ö –Η –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –Ψ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Η –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ–Α―Ä―²―΄ –Η –Κ―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ι, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―¹―²―΄, ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Ι –Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄.
1 –û–ü–‰ –™–‰–€. –Λ. 137. –ï–¥. ―Ö―Ä. 275. –¦. 69.
2 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 72.
3 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 1.
4 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –ï–¥. ―Ö―Ä. 281. –¦. 1.
5 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 31βÄ™32.
6 –Δ–Β–Ω–Μ–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –£ 1912 –≥. βÄ™ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 89-–≥–Ψ –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α. –£ 1914 –≥. βÄ™ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ.-–≥–≤. –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α. –ù–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–≤. –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è 4-–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Ζ–Α –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ¬Ϊ–±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Φ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α¬Μ –≤ –±–Ψ―è―Ö –Ω–Ψ–¥ –‰–≤–Α–Ϋ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ 10 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1914 –≥.
7 –û–ü–‰ –™–‰–€. –Λ. 137. –ï–¥. ―Ö―Ä. 281. –¦. 34.
8 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 36, 36 –Ψ–±.
9 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –ï–¥. ―Ö―Ä. 280. –¦. 3, 3 –Ψ–±.
10 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –ï–¥. ―Ö―Ä. 279. –¦. 4βÄ™9 –Ψ–±., 19βÄ™22, 24, 37.
11 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 44, 45, 96, 97; –ï–¥. ―Ö―Ä. 280. –¦. 39, 40.
12 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –ï–¥. ―Ö―Ä. 280. –¦. 13βÄ™14, 16, 17, 39, 40.
13 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 34.
14 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 41βÄ™41 –Ψ–±.
15 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –ï–¥. ―Ö―Ä. 281. –¦. 61.
16 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –ï–¥. ―Ö―Ä. 280. –¦. 6.
17 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 10.
18 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 14 βÄ™ 14 –Ψ–±.
19 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 15.
20 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 22.
21 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 23.
22 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 25.
23 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –ï–¥. ―Ö―Ä. 281. –¦. 68, 70βÄ™71. –ü―΄–Ε–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –≤ 1914 –≥. βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Μ.-–≥–≤. –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α. –†–Α–Ϋ–Β–Ϋ 19 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1915 –≥. –ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η 19 –Η―é–Μ―è 1916 –≥. –Θ–±–Η―² 3 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1916 –≥.
24 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –ï–¥. ―Ö―Ä. 280. –¦. 27βÄ™27 –Ψ–±.
25 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 29.
26 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 30.
27 –·–Ϋ―É―à –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ. –ö–Ψ–Ϋ―²―É–Ε–Β–Ϋ 19 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1915 –≥., –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é.
28 –û–ü–‰ –™–‰–€. –Λ. 137. –ï–¥. ―Ö―Ä. 280. –¦. 32.
29 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 33βÄ™34.
30 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 77. –Γ–Α–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –Γ―²–Α―Ö–Η–Β–≤–Η―΅, ―à―²–Α–±―¹-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ.
31 –ü–Ψ–¥–Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ –½–Α―É―à–Κ–Β–≤–Η―΅ –ü–Β―²―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―É–Φ–Β―Ä –Ψ―² ―Ä–Α–Ϋ –≤ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 1915 –≥.
32 –ü–Ψ–¥–Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Ϋ―²―É–Ε–Β–Ϋ 25 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1914 –≥., –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι, –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―²―É–Ε–Β–Ϋ 18 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1915 –≥.
33 –ö–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Β–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, –≤ 1914 –≥. –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ. –Γ 22 –Φ–Α―Ä―²–Α 1915 –≥. –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ. –†–Α–Ϋ–Β–Ϋ 29 –Η―é–Μ―è 1915 –≥.
34 –û–ü–‰ –™–‰–€. –Λ. 137. –ï–¥. ―Ö―Ä. 281. –¦. 88.
35 –Γ–Α–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ –Γ―²–Α―Ö–Η–Β–≤–Η―΅, ―à―²–Α–±―¹-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ. –Θ–±–Η―² 10 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1914 –≥.
36 –Δ―Ä–Ψ―Ü–Κ–Η–Ι-–Γ–Β–Ϋ―²―é―²–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅, –≤ 1914 –≥. –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ. –†–Α–Ϋ–Β–Ϋ 10 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1914 –≥.
37 –û–ü–‰ –™–‰–€. –Λ. 137. –ï–¥. ―Ö―Ä. 281. –¦. 84 βÄ™ 84 –Ψ–±.
38 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 86.
39 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –¦. 80, 81.
40 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –ï–¥. ―Ö―Ä. 280. –¦. 35. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –≤ –≤–Η–¥―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –ê―Ä–≥–Α–Φ–Α–Κ–Ψ–≤, –Κ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―é 1917 –≥. –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η, –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –≤ –†–ö–ö–ê.
41 –Δ–Α–Φ –Ε–Β. –ï–¥. ―Ö―Ä. 201. –¦. 86 –Ψ–±. βÄ™ 87.

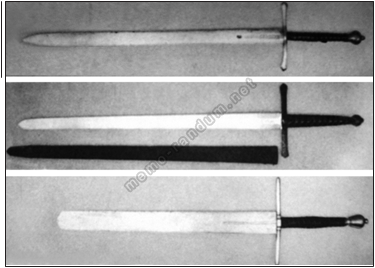


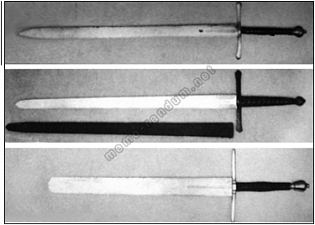



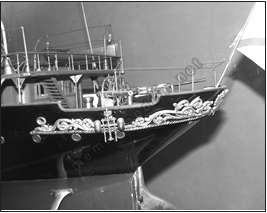
–ö–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η–Η