ąÉčéą░ą║ą░ ą│čāčüą░čĆčüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ: ą╝ą░ą╗ąŠąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╣ 菹┐ąĖąĘąŠą┤ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąŠą│ąŠ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ, ą×.ąÆ. ąÉąĮą░ąĮčīąĖąĮ (ąÜąĖąĄą▓, ąŻą║čĆą░ąĖąĮą░)
ą£ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ążąĄą┤ąĄčĆą░čåąĖąĖ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąÉą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖčÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĮą░čāą║ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝čāąĘąĄą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ čüą▓čÅąĘąĖ ąÆąŠą╣ąĮą░ ąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąØąŠą▓čŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ąóčĆčāą┤čŗ ą¤čÅč鹊ą╣ ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖąĖ 14ŌĆō16 ą╝ą░čÅ 2014 ą│ąŠą┤ą░
ą¦ą░čüčéčī IąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│
ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ 2014
┬® ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ, 2014
┬® ąÜąŠą╗ą╗ąĄą║čéąĖą▓ ą░ą▓č鹊čĆąŠą▓, 2014
ąØąÉ ąĪąĢąōą×ąöąØą»ą©ąØąśąÖ ąöąĢąØą¼ ą▓ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąŠą│čĆą░čäąĖąĖ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąŠąĄ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ ąŠčüą▓ąĄčēąĄąĮąŠ ą▓ąŠ ą▓čüąĄčģ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖčģ čéčĆčāą┤ą░čģ ą┐ąŠ ąÜčĆčŗą╝čüą║ąŠą╣ (ąÆąŠčüč鹊čćąĮąŠą╣) ą▓ąŠą╣ąĮąĄ 1853ŌĆō1856 ą│ą│. ąØąŠ ą┤ąĄčéą░ą╗čīąĮąŠą╝čā ąĖąĘčāč湥ąĮąĖčÄ čéą░ą║čéąĖą║ąĖ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖą╣ ąĮąĄą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ čćą░čüč鹥ą╣ ąĖ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖą╣ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą▒ąŠčĆčüčéą▓čāčÄčēąĖčģ ą░čĆą╝ąĖą╣ ą▓ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą╣ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ čāą║čĆą░ąĖąĮčüą║ąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĄ čāą┤ąĄą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ. ąśąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗąĄ čāč湥ąĮčŗąĄ ą┤ąŠčĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖąŠąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖ čüąŠą▓ąĄčéčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ą£. ąæąŠą│ą┤ą░ąĮąŠą▓ąĖčć1, ąÉ. ąŚą░ą╣ąŠąĮčćą║ąŠą▓čüą║ąĖą╣2, ąÉ. ąĪą▓ąĄčćąĖąĮ3, ąĢ. ąóą░čĆą╗ąĄ4, čćčīąĖ čéčĆčāą┤čŗ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ąĮčŗ ą░ą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ, čéą░ą║ąČąĄ ąĮąĄ čüčéą░ą▓ąĖą╗ąĖ ą▓ čüą▓ąŠąĖčģ čĆą░ą▒ąŠčéą░čģ ąĮą░čāčćąĮąŠą╣ ąĘą░ą┤ą░čćąĖ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖčÅ ąĮąĄą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čģąŠą┤ą░ ą┐ąŠą╗ąĄą▓čŗčģ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖą╣ čü č鹊čćą║ąĖ ąĘčĆąĄąĮąĖčÅ čéą░ą║čéąĖą║ąĖ. ąæąŠą╗ąĄąĄ č鹊ą│ąŠ, ą£. ąæąŠą│ą┤ą░ąĮąŠą▓ąĖč湥ą╝ ąĖ ąĢ. ąóą░čĆą╗ąĄ, čćčīąĖ čéčĆčāą┤čŗ ą┐ąŠ ąÜčĆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮąĄ ąĖ ą┐ąŠ čüąĄą╣ ą┤ąĄąĮčī čüčćąĖčéą░čÄčéčüčÅ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ, ą╝ąĮąŠą│ąĖąĄ čäą░ą║čéčŗ ą║ą░čüą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖą╣ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ąĘą░ąĖą╝čüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮčŗ ąĖąĘ ąĘą░čĆčāą▒ąĄąČąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖ ą┐ąŠą┤ą░ąĮčŗ ą▓ ąĖąĮč鹥čĆą┐čĆąĄčéą░čåąĖąĖ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĖ čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąĖčģ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗ąĄą╣ ąĖ ą╝ąĄą╝čāą░čĆąĖčüč鹊ą▓, ą▓ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝ ąÉ. ąÜąĖąĮą│ą╗菹║ą░5 ąĖ ąĪ. ąæą░ąĘą░ąĮą║čāčĆą░6. ąóą░ą║ąĖąĄ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗąĄ ąĘą░ąĖą╝čüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĄ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘą░ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ čü čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ąĖ ą║ ą┐čĆąŠčćąĮąŠą╝čā ąĘą░ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖčÄ ą▓ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĄ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮąŠą╣ ąĖąĮč鹥čĆą┐čĆąĄčéą░čåąĖąĖ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹊ą▓ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ą▒ąŠąĄą▓ ą▓ čģąŠą┤ąĄ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąŠą│ąŠ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ, ą│ą┤ąĄ ą▓čüčÅč湥čüą║ąĖ ą┐čĆąĄą▓ąŠąĘąĮąŠčüčÅčéčüčÅ ą┤ąŠčüč鹊ąĖąĮčüčéą▓ą░ ą▒čĆąĖčéą░ąĮčüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĖ ą┐čĆąĄčāą╝ąĄąĮčīčłą░čÄčéčüčÅ, ą░ čćą░čüč鹊 ąĖ ą▓ąŠą▓čüąĄ ąĘą░ą╝ą░ą╗čćąĖą▓ą░čÄčéčüčÅ ąĘą░čüą╗čāą│ąĖ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąÆ ąĮą░čüč鹊čÅčēąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čŹč鹊 ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ąŠ ą║ ą┐čĆąŠčåą▓ąĄčéą░ąĮąĖčÄ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮąŠą│ąŠ čĆąŠą┤ą░ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĖč乊čéą▓ąŠčĆč湥čüčéą▓ą░, ą╝ą░ą╗ąŠ ąŠčéčĆą░ąČą░čÄčēąĄą│ąŠ čĆąĄą░ą╗čīąĮčŗąĄ čüąŠą▒čŗčéąĖčÅ. ąæąŠą╗ąĄąĄ č鹊ą│ąŠ, ą▓čüčÅą║ąŠą│ąŠ čĆąŠą┤ą░ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗąĄ ą╝ąĖčäčŗ ą▓ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĄ čüąŠąĘą┤ą░ą╗ąĖ ąŠčéčĆąĖčåą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╣ ąŠą▒čĆą░ąĘ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ 菹┐ąŠčģąĖ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆą░ ąØąĖą║ąŠą╗ą░čÅ ąå ą▓ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠą╗ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╝čā ąŠą▒čĆą░ąĘčā ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ąĖą║č鹊čĆąĖą░ąĮčüą║ąŠą╣ ąÉąĮą│ą╗ąĖąĖ. ąźąŠčéčÅ ą║ą░ą║ąĖąĄ-ą╗ąĖą▒ąŠ ąŠą┤ąĮąŠąĘąĮą░čćąĮčŗąĄ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ čŹč鹊ą╝čā čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąĖą║ąŠą▓ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ. ąÆčŗčłąĄčüą║ą░ąĘą░ąĮąĮąŠąĄ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅąĄčé ą▓ą░ąČąĮąŠčüčéčī ąĖ ą░ą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠčüčéčī ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖą╣ ą┐ąŠ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąŠą╝čā čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÄ.
ąÆ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖąĄ ą│ąŠą┤čŗ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ąĖ ąĮą░ ąŻą║čĆą░ąĖąĮąĄ čüąĮąŠą▓ą░ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ąĄčéčüčÅ čĆąŠčüčé ąĮą░čāčćąĮąŠą│ąŠ ąĖ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüą░ ą║ čüąŠą▒čŗčéąĖčÅą╝ ąÜčĆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ, čćč鹊 ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ąŠ ą┐ąŠ-ąĮąŠą▓ąŠą╝čā ą▓ąĘą│ą╗čÅąĮčāčéčī ąĮą░ 菹┐ąŠčģčā ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą░čĆą╝ąĖčÄ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆą░ ąØąĖą║ąŠą╗ą░čÅ ąå. ąŁč鹊 ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčƹȹ┤ą░čÄčé čĆą░ą▒ąŠčéčŗ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗčģ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĖ čāą║čĆą░ąĖąĮčüą║ąĖčģ čāč湥ąĮčŗčģ ąĖ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗ąĄą╣: ą×. ąÉą╣čĆą░ą┐ąĄč鹊ą▓ą░, ąĢ. ąæąĄą╗ąŠą▓ąŠ, ąÆ. ąÆąĖąĮąŠą│čĆą░ą┤ąŠą▓ą░, ąø. ąÆčŗčüą║ąŠčćą║ąŠą▓ą░, ąÆ. ąöčāą▒čĆąŠą▓ąĖąĮą░, ąØ. ąÜąŠčĆąŠč鹥ąĄą▓ąŠą╣, ąÉ. ąÜčĆąĖą▓ąŠą┐ą░ą╗ąŠą▓ą░, ąÉ. ąÜčāčģą░čĆčāą║ą░, ąś. ąÜčāą┤čĆčÅą▓čåąĄą▓ąŠą╣, ąó. ąøąĖčéą▓ąĖąĮą░, ą«. ąØą░čāą╝ąŠą▓ąŠą╣, C. ą¤ąĖąĮčćčāą║ą░, ąÆ. ąĀčŗą▒ą░ą╗ą║ąĖ, ą×. ąĪą░ą▓č湥ąĮą║ąŠ, ąÉ. ąĪą░ą║ąŠą▓ąĖčćą░, ąĪ. ą¦ąĄąĮąĮčŗą║ą░ ąĖ ą┤čĆ. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ, ą┐ąŠčüą▓čÅčēąĄąĮąĮčŗąĄ ą▒ąŠąĄą▓čŗą╝ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅą╝ čü čāčćą░čüčéąĖąĄą╝ ąĮąĄą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĮą░ ąÜčĆčŗą╝čüą║ąŠą╝ č鹥ą░čéčĆąĄ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖą╣ 1854ŌĆō1856 ą│ą│., ą▓ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĄ ą┐ąŠą║ą░ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ čüą╗ą░ą▒ąŠ. ąŁč鹊 ąŠčéąĮąŠčüąĖčéčüčÅ, ą▓ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, ą║ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝čā ą▒ąŠčÄ ą│čāčüą░čĆčüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéą░ ąś. ąĀčŗąČąŠą▓ą░ čü čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ąĮąŠą│ąŠ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ą░ ąö. ąĪą║ą░čĆą╗ąĄčéčéą░. ą”ąĄą╗čīčÄ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╣ ą┐čāą▒ą╗ąĖą║ą░čåąĖąĖ ąĖ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘ čŹč鹊ą│ąŠ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠčÅ.
ąÆ ą┤ąŠčĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖąŠąĮąĮąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąŠą│čĆą░čäąĖąĖ ąÜčĆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąĮą░ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąŠą▒čĆą░ąĘą░ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą║ą░ą║ čĆąŠą┤ą░ ą▓ąŠą╣čüą║ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą▓ą╗ąĖčÅą╗ąŠ čćčĆąĄąĘą╝ąĄčĆąĮąŠąĄ čāą▓ą╗ąĄč湥ąĮąĖąĄ ą╝čŗčüą╗čÅčēąĄą╣ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ 菹╗ąĖčéčŗ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮąŠą╣ ą╗ąĖč鹥čĆą░čéčāčĆąŠą╣ ą┐ąŠ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĖ ąĄąĄ ą╝ąĄčüčéčā ą▓ ą░čĆą╝ąĖčÅčģ č鹊ą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ. ą¤ąĄčĆą▓ąĄąĮčüčéą▓ąŠ ąĘą░ą║čĆąĄą┐ąĖą╗ąŠčüčī ąĘą░ ą▒čĆąĖčéą░ąĮčåą░ą╝ąĖ. ąśą╝ąĄąĮąĮąŠ ąŠ ąĮąĖčģ ą▓ čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖąĖ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĖčüč鹊čĆąĖą║ąŠą▓ ąĖ ą┤ą░ąČąĄ čüą░ą╝ąĖčģ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖčüč鹊ą▓ ąĮąĄą▓ąŠą╗čīąĮąŠ čüč乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ ą║ą░ą║ ąŠ ą╗čāčćčłąĖčģ ąĘąĮą░č鹊ą║ą░čģ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┤ąĄą╗ą░. ąźąŠčéčÅ ą▓ čüą░ą╝ąŠą╣ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą▒čĆąĖčéą░ąĮąĖąĖ ąĄčēąĄ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ąÜčĆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮąŠą╣ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗ąĖčüčī čĆą░ą▒ąŠčéčŗ, čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčēąĖąĄ ąĮą░ ąŠčéčüčéą░ą▓ą░ąĮąĖąĄ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą║ą░ą║ čĆąŠą┤ą░ ą▓ąŠą╣čüą║ ą▓ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĖ ąŠčé ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣ ą▓ąĄą┤čāčēąĖčģ čüčéčĆą░ąĮ č鹊ą│ą┤ą░čłąĮąĄą╣ ąĢą▓čĆąŠą┐čŗ7. ąóą░ą║ąČąĄ čéą░ą╝ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĮą░ čÅą▓ąĮčŗąĄ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░čéą║ąĖ, čéčĆąĄą▒čāčÄčēąĖąĄ ąĮąĄą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čāčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ. ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ąĖčüčģąŠą┤čÅ ąĖąĘ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ą░ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąĖą║ąŠą▓, čüą░ą╝ąĖčģ ą▒čĆąĖčéą░ąĮčåąĄą▓, ąĮą░ čüą▓ąŠčÄ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖčÄ ąĮą░čćą░ą╗ą░ 50-čģ ą│ą│. XąåX čüč鹊ą╗ąĄčéąĖčÅ, ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą┤ąĄą╗ą░čéčī ą▓čŗą▓ąŠą┤, čćč鹊 ąŠąĮą░ ą┐čĆąĖąĮčåąĖą┐ąĖą░ą╗čīąĮąŠ ą╝ą░ą╗ąŠ č湥ą╝ ąŠčéą╗ąĖčćą░ą╗ą░čüčī ąŠčé čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ čüčéčĆą░ą┤ą░ą╗ą░ ąŠčé ą┐ąŠčģąŠąČąĖčģ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝. ąŻčĆąŠą▓ąĄąĮčī ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓, ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ, ą╝ąŠčĆą░ą╗čīąĮčŗą╣ ąŠą▒ą╗ąĖą║ ąĮąĖąČąĮąĖčģ čćąĖąĮąŠą▓ ą▓ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąŠą╝ ą▒čŗą╗ąĖ ąĮą░ ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠą▓ąŠą╝ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ. ą×čéą┤ąĄą╗čīąĮčŗąĄ čćą░čüčéąĮčŗąĄ čüą╗čāčćą░ąĖ ąĮąĄ ą▓ą╗ąĖčÅą╗ąĖ ąĮą░ ąŠą▒čēąĄąĄ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą║ą░ą║ čĆąŠą┤ą░ ą▓ąŠą╣čüą║. ąóąĄą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ ą▓ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąŠą│čĆą░čäąĖąĖ ą▓ąŠ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ą░čģ ąĮą░ ąÜčĆčŗą╝čüą║čāčÄ ą▓ąŠą╣ąĮčā ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗ąŠčüčī ą╝ąĮąŠąČąĄčüčéą▓ąŠ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĖčģ ąĮą░čüą╗ąŠąĄąĮąĖą╣, ą▓čŗąĘą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ą░čüčüąŠčåąĖą░čéąĖą▓ąĮčŗą╝ ą▓ąŠčüą┐čĆąĖčÅčéąĖąĄą╝ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆą░ ąØąĖą║ąŠą╗ą░čÅ ąå ą║ą░ą║ ąŠą┤čĆčÅčģą╗ąĄą▓čłąĄą╣ ąĖ ąŠčéčüčéą░ą╗ąŠą╣ ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü ą░čĆą╝ąĖčÅą╝ąĖ ąŚą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠą╣ ąĢą▓čĆąŠą┐čŗ. ąØąĄą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ čŹč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ čüą▓čÅąĘą░ąĮąŠ čü ąŠčüą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ą╝ąĖą╗čÄčéąĖąĮčüą║ąĖčģ čĆąĄč乊čĆą╝ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ 60ŌĆō70-čģ ą│ą│. XąåX ą▓.8 ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ ąŠą▒ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮąŠą╝ ą┐čĆąĄą▓ąŠčüčģąŠą┤čüčéą▓ąĄ ┬½ą▓ąŠ ą▓čüąĄą╝┬╗ ąĮą░ą┤ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĄą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ąÜčĆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą┐čĆąŠčćąĮąŠ ąĘą░ą║čĆąĄą┐ąĖą╗ąŠčüčī ą▓ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ą╝čŗčüą╗ąĖ. ąóą░ą║, ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╣ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖą║ ąĖ ą┐čāą▒ą╗ąĖčåąĖčüčé ąĀ.ążą░ą┤ąĄąĄą▓ čüąŠąŠą▒čēą░ą╗ ąŠ čĆą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆąĄ čü ąŠą┤ąĮąĖą╝ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖą╝ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą╝&ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖčüč鹊ą╝ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄąĄ. ąÉąĮą│ą╗ąĖčćą░ąĮąĖąĮ ą▓ąŠčüčģąĖčēą░ą╗čüčÅ ą║ą░ąĘą░ą║ą░ą╝ąĖ ąĖ č湥čĆą║ąĄčüą░ą╝ąĖ, ą░ ąĮą░čłčā čĆąĄą│čāą╗čÅčĆąĮčāčÄ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖčÄ, ąĮą░ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĄ ą╗čāčćčłąĖčģ ą│ą▓ą░čĆą┤ąĄą╣čüą║ąĖčģ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓, ąŠčģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĖąĘąŠą▓ą░ą╗ čéą░ą║: ┬½ŌĆ”ąĮčā čćč鹊 ą▓čŗ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖč鹥 ąŠ ą╝čāąČąĖą║ą░čģ, čü čéčĆčāą┤ąŠą╝ ąŠą▒čāč湥ąĮąĮčŗčģ ą▓ąĄčĆčģąŠą▓ąŠą╣ ąĄąĘą┤ąĄ! ąĀą░ąĘą▓ąĄ čā ąĮą░čü čéą░ą║ ąĄąĘą┤čÅčé? ąś č湥ą╝ ą▒čŗ čÅ čüčéą░ą╗ čéčāčé ą▓ąŠčüčģąĖčēą░čéčīčüčÅ?┬╗9. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ąĀ.ążą░ą┤ąĄąĄą▓ ą▒ąĄąĘą░ą┐ąĄą╗ą╗čÅčåąĖąŠąĮąĮąŠ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą▓ą░ą╗ ą┐čĆą░ą▓ąŠčéčā ąĘą░ ą░ąĮą│ą╗ąĖčćą░ąĮąĖąĮąŠą╝. ąÆ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ ą┐ąŠčüąŠą▒ąĖčÅčģ ą┤ą╗čÅ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖčÅ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ ą▓ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ čāčćąĖą╗ąĖčēą░čģ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ąŠą▒čēąĄą┤ąŠčüčéčāą┐ąĮčŗčģ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅčģ ą┐ąŠ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ, ą║ą░čüą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąŠą│ąŠ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĮą░ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ, ąĮą░ąĮąĄčüąĄąĮąĮąŠąĄ ą░ąĮą│ą╗ąĖčćą░ąĮą░ą╝ąĖ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą│čāčüą░čĆčüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ąĄ ąĮą░ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąĖčģ (ąÜą░ą┤čŗą║ąĖąŠą╣čüą║ąĖčģ) ą▓čŗčüąŠčéą░čģ10. ą¤čĆąĖč湥ą╝ ąĖčüč鹊čĆąĖą║ąĖ ą╝ą░ą╗ąŠ ąŠą▒čĆą░čēą░ą╗ąĖ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ąŠč湥ą▓ąĖą┤čåąĄą▓ čüąŠą▒čŗčéąĖą╣ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čüą▓ąŠąĖčģ ą║ąŠą╗ą╗ąĄą│. ąÆą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ ą▓ ą║čĆčāą┐ąĮąŠą╝ 菹ĮčåąĖą║ą╗ąŠą┐ąĄą┤ąĖč湥čüą║ąŠą╝ ąĖąĘą┤ą░ąĮąĖąĖ ą┐ąŠ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ čāą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĮąĖąĄ ąŠą▒ čāčüą┐ąĄčģąĄ ą░čéą░ą║ąĖ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ą│čāčüą░čĆ ąĮą░ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║čāčÄ čéčÅąČąĄą╗čāčÄ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║čāčÄ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čā ą▓čüčéčĆąĄčćą░ąĄčéčüčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ŌĆō ą▓ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠą╣ 菹ĮčåąĖą║ą╗ąŠą┐ąĄą┤ąĖąĖ ąĖąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ąś.ąö. ąĪčŗčéąĖąĮą░: ┬½1-čÅ ą╗ąĖąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠąĮąĄčüą╗ą░čüčī č湥čĆąĄąĘ ą▒ąĖą▓ą░ą║ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĖ čāą┤ą░čĆąĖą╗ą░ ąĮą░ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖčÄ ą▒čĆąĖą│. ąĪą║ą░čĆą╗ąĄčéčéą░, ąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄ čĆčāą║ąŠą┐ą░čłąĮąŠą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ąĘą░čüčéą░ą▓ąĖą╗ą░ ąĄąĄ ąŠčéčüčéčāą┐ąĖčéčī┬╗11. ąØąŠ ą┐ąĄčĆąĄą╗ąŠą╝ąĖčéčī čüą╗ąŠąČąĖą▓čłąĄąĄčüčÅ ą║ č鹊ą╝čā ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ą▓ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąŠą│čĆą░čäąĖąĖ ąŠčéčĆąĖčåą░č鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓ąŠčüą┐čĆąĖčÅčéąĖąĄ č鹊ą│ąŠ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ą▒čŗą╗ąŠ čāąČąĄ čüą╗ąŠąČąĮąŠ.
ą¤ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÄ ą░ą▓č鹊čĆą░, ą┤ą╗čÅ ąŠą▒čŖąĄą║čéąĖą▓ąĮąŠą│ąŠ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┤ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░čéčī ąĄą│ąŠ č湥čĆąĄąĘ ą┐čĆąĖąĘą╝čā čéą░ą║čéąĖą║ąĖ ąĖ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓ ąĮąĄą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ čāčćą░čüčéąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖčüčüą╗ąĄą┤čāąĄą╝čŗčģ čüąŠą▒čŗčéąĖą╣.
ąĪ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą▓ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ čüčģą▓ą░čéą║ąĄ 13 (25) ąŠą║čéčÅą▒čĆčÅ 1854 ą│. ą┐čĆąĖąĮčÅą╗ąĖ čāčćą░čüčéąĖąĄ ąōčāčüą░čĆčüą║ąĖą╣ ąĢą│ąŠ ąśą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆčüą║ąŠą│ąŠ ąÆčŗčüąŠč湥čüčéą▓ą░ ąÜąĮčÅąĘčÅ ąØąĖą║ąŠą╗ą░čÅ ą£ą░ą║čüąĖą╝ąĖą╗ąĖą░ąĮąŠą▓ąĖčćą░ ą┐ąŠą╗ą║ (ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆ ąś. ąźą░ą╗ąĄčåą║ąĖą╣) ąĖ ąōčāčüą░čĆčüą║ąĖą╣ ąōčĆąŠčüčü-ąōąĄčĆčåąŠą│ą░ ąĪą░ą║čüąĄąĮ-ąÆąĄą╣ą╝ą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ (ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆ ąÉ. ąæčāč鹊ą▓ąĖčć). ą×ą▒ą░ ą┐ąŠą╗ą║ą░ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖ 2-čÄ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čā 6-ą╣ ą╗ąĄą│ą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą┤ąĖą▓ąĖąĘąĖąĖ. ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ ąŠą▒čÅąĘą░ąĮąĮąŠčüčéąĖ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆą░ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆ ąś. ąźą░ą╗ąĄčåą║ąĖą╣, ą▓ą╝ąĄčüč鹊 ą▓čŗą▒čŗą▓čłąĄą│ąŠ ą┐ąŠ ą▒ąŠą╗ąĄąĘąĮąĖ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆą░ ąś. ąÆąĄą╗ąĖčćą║ąŠ. ą×ą▒čÅąĘą░ąĮąĮąŠčüčéąĖ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆą░ ąōčāčüą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ąĢą│ąŠ ąśą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆčüą║ąŠą│ąŠ ąÆčŗčüąŠč湥čüčéą▓ą░ ąÜąĮčÅąĘčÅ ąØąĖą║ąŠą╗ą░čÅ ą£ą░ą║čüąĖą╝ąĖą╗ąĖą░ąĮąŠą▓ąĖčćą░ ą┐ąŠą╗ą║ą░ ą┐čĆąĖąĮčÅą╗ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ ąś. ąÆąŠą╣ąĮąĖą╗ąŠą▓ąĖčć12. ą×ą▒čēąĄąĄ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╝ąĖ čćą░čüčéčÅą╝ąĖ ąĖ ą║ąŠąĮąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĄą╣ ą▓ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąŠą╝ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ąŠąĘą╗ąŠąČąĄąĮąŠ ąĮą░ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗&ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéą░ ąś. ąĀčŗąČąŠą▓ą░.
ąöą╗čÅ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖą╣ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą┐ąŠą┤ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓ąŠą╣ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ čāčÅčüąĮąĖčéčī ą┤ą╗čÅ čüąĄą▒čÅ ąĘą░ą╝čŗčüąĄą╗ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ, ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą│ą╗ą░ą▓ąĮąŠą║ąŠą╝ą░ąĮą┤čāčÄčēąĖą╝ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╝ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ą░ą╝ąĖ ą▓ ąÜčĆčŗą╝čā ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą░ą┤čīčÄčéą░ąĮč鹊ą╝, ą░ą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗ąŠą╝ ą║ąĮčÅąĘąĄą╝ ąÉ.ą£ąĄąĮčłąĖą║ąŠą▓čŗą╝, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą▓čŗčÅčüąĮąĖčéčī ąĘą░ą┤ą░čćąĖ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ čćą░čüč鹥ą╣. ąØą░čüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ą╝ąĄčćą░ą╗ąŠčüčī čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą¦ąŠčĆą│čāąĮčüą║ąŠą│ąŠ čāčēąĄą╗čīčÅ, ą┐ąŠ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ ą║ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓ąĄ čü čåąĄą╗čīčÄ ąĘą░čģą▓ą░čéą░ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąŠą▓čŗčģ čĆąĄą┤čāč鹊ą▓, ą┐čĆąĖą║čĆčŗą▓ą░ą▓čłąĖčģ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą╗ą░ą│ąĄčĆčī čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮąĖ ą¦ąŠčĆą│čāąĮ ąĖ čā ąÆąŠčĆąŠąĮčåąŠą▓čüą║ąŠą╣ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĖ13. ąŚą░ą┤ą░čćą░ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéčā ą¤. ąøąĖą┐čĆą░ąĮą┤ąĖ čüčéą░ą▓ąĖą╗ą░čüčī, ąĖčüčģąŠą┤čÅ ąĖąĘ ą┤ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ąĘą░ą╝čŗčüą╗ą░: ┬½ŌĆ”ą░čéą░ą║ąŠą▓ą░čéčī ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮčŗą╣ ąĮąĄą┐čĆąĖčÅč鹥ą╗čīčüą║ąĖą╣ čāą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą╗ą░ą│ąĄčĆčī, ą┐čĆąĖą║čĆčŗą▓ą░čÄčēąĖą╣ ą┤ąŠčĆąŠą│čā ąĖąĘ ąĪąĄą▓ą░čüč鹊ą┐ąŠą╗čÅ ą▓ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čā┬╗14. ąŚą░ą┤ą░čćčā ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą¦ąŠčĆą│čāąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąŠčéčĆčÅą┤ą░ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ čüą░ą╝ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčé ą¤. ąøąĖą┐čĆą░ąĮą┤ąĖ. ąØąĄą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ čāčćą░čüčéąĮąĖą║ ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ čüąŠą▒čŗčéąĖą╣ ąĢ. ąÉčĆą▒čāąĘąŠą▓ ą▓ čüą▓ąŠąĖčģ ą▓ąŠčüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĮąĖčÅčģ ą┐ąŠ čŹč鹊ą╝čā ą┐ąŠą▓ąŠą┤čā ą┐ąĖčüą░ą╗: ┬½ŌĆ”ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ąĖčéčī ąÜąĖąĄą▓čüą║ąĖą╣ ąĖ ąśąĮą│ąĄčĆą╝ą░ąĮą╗ą░ąĮą┤čüą║ąĖą╣ ą│čāčüą░čĆčüą║ąĖąĄ ą┐ąŠą╗ą║ąĖ, č湥čĆąĄąĘ ą▓ąĘčÅčéčŗąĄ čāąČąĄ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąĖąĄ ą▓čŗčüąŠčéčŗ, ąĮą░ ąĮąĄą┐čĆąĖčÅč鹥ą╗čīčüą║ąĖą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┐ą░čĆą║, čüč鹊čÅą▓čłąĖą╣ ą┐čĆą░ą▓ąĄąĄ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮąĖ ąÜą░ą┤čŗą║ąĖąŠą╣. ąōčāčüą░čĆčŗ, ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤čÅ ą▓ ąĮąĄą│ąŠą┤ąĮąŠčüčéčī ą┐ą░čĆą║ąŠą▓čŗąĄ ą┐ąŠą▓ąŠąĘą║ąĖ, ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ąŠčéčüčéčāą┐ąĖčéčī; ą┐ąŠčüą╗ąĄ č湥ą│ąŠ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╝ ąŠą│ąĮąĄą╝ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą╗ąŠčüčī ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąĄčüčéąĖ ą▓ąĘčĆčŗą▓ ą▓ ą┐ą░čĆą║ąĄ, ąŠčéą▓ąĄčüčéąĖ ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĮąĄą┐čĆąĖčÅč鹥ą╗čī ą▒čŗą╗ ą▒čŗ čāąČąĄ ą╗ąĖčłąĄąĮ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ┬╗15.
ą¤ąŠčüą╗ąĄ č乊čĆčüąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čĆąĄą║ąĖ ą¦ąĄčĆąĮą░čÅ čćą░čüčéčÅą╝ąĖ ą¦ąŠčĆą│čāąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąŠčéčĆčÅą┤ą░ ą┐ąŠą┤ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéą░ ą¤. ąøąĖą┐čĆą░ąĮą┤ąĖ ąōčāčüą░čĆčüą║ąĖą╣ ąĢą│ąŠ ąśą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆčüą║ąŠą│ąŠ ąÆčŗčüąŠč湥čüčéą▓ą░ ąÜąĮčÅąĘčÅ ąØąĖą║ąŠą╗ą░čÅ ą£ą░ą║čüąĖą╝ąĖą╗ąĖą░ąĮąŠą▓ąĖčćą░ ą┐ąŠą╗ą║, ąōčāčüą░čĆčüą║ąĖą╣ ąōčĆąŠčüčü-ąōąĄčĆčåąŠą│ą░ ąĪą░ą║čüąĄąĮ-ąÆąĄą╣ą╝ą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║, ąŻčĆą░ą╗čīčüą║ąĖą╣ 1-ą╣ ą║ą░ąĘą░čćąĖą╣ ą┐ąŠą╗ą║ ąĖ ą┤ą▓ąĄ ą║ąŠąĮąĮčŗąĄ ą▒ą░čéą░čĆąĄąĖ ą▓čŗčüčéčĆąŠąĖą╗ąĖčüčī ą▓ ą║ąŠą╗ąŠąĮąĮą░čģ ą║ ą░čéą░ą║ąĄ ą▓ ąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĖąĖ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ ąĮą░ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĖąĄ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ. ąÆ čŹč鹊 ąČąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čü čüąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ąĪąĄą▓ą░čüč鹊ą┐ąŠą╗čÅ ą┐čĆąĖą▒čŗą╗ ąŠčéčĆčÅą┤ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆą░ ąś.ą¢ą░ą▒ąŠą║čĆąĖčéčüą║ąŠą│ąŠ ąĖ ąĘą░ąĮčÅą╗ ążąĄą┤čÄčģąĖąĮčŗ ą▓čŗčüąŠčéčŗ, ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄčćąĖą▓ ą┐čĆą░ą▓čŗą╣ čäą╗ą░ąĮą│ ą¦ąŠčĆą│čāąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąŠčéčĆčÅą┤ą░. ąÆ ą┐čÅčéčī čćą░čüąŠą▓ čāčéčĆą░ ąĮą░čćą░ą╗čüčÅ čłčéčāčĆą╝ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąŠą▓čŗčģ čĆąĄą┤čāč鹊ą▓ ą╗ą░ą│ąĄčĆčÅ čüąŠčĹʹĮąĖą║ąŠą▓. ąÆ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ą░čéą░ą║ąĖ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą┐ąĄčģąŠčéčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ąĘčÅčéčŗ č湥čéčŗčĆąĄ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąŠą▓čŗčģ čĆąĄą┤čāčéą░. ą¤ąŠčüą╗ąĄ čŹč鹊ą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłą╗ą░ ą┐ąĄčĆąĄą│čĆčāą┐ą┐ąĖčĆąŠą▓ą║ą░ čüąĖą╗ ą▓ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ą¤ąŠ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ąĮąĖčÄ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéą░ ą¤. ąøąĖą┐čĆą░ąĮą┤ąĖ, 5-ą╣ ąĖ 6-ą╣ čŹčüą║ą░ą┤čĆąŠąĮčŗ ąōčāčüą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ąōčĆąŠčüčü-ąōąĄčĆčåąŠą│ą░ ąĪą░ą║čüąĄąĮ-ąÆąĄą╣ą╝ą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░ ą▒čŗą╗ąĖ ąŠčéą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ąĮą░ ą┐čĆą░ą▓čŗą╣ čäą╗ą░ąĮą│ ąĘą░ ążąĄą┤čÄčģąĖąĮčŗ ą▓čŗčüąŠčéčŗ ą┤ą╗čÅ čāčüąĖą╗ąĄąĮąĖčÅ ąŠčéčĆčÅą┤ą░ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆą░ ąś.ą¢ą░ą▒ąŠą║čĆąĖčéčüą║ąŠą│ąŠ16. ąÉąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖąĄ ą▓ąŠą╣čüą║ą░ ą▓ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓ąĄ, ą▓čüčéčĆąĄą▓ąŠąČąĄąĮąĮčŗąĄ ąĮą░čćą░ą╗ąŠą╝ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ąĮą░čüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ, ą▓čŗą┤ą▓ąĖąĮčāą╗ąĖčüčī ąĖąĘ ą│ąŠčĆąŠą┤ą░ ąĖ ąĘą░ąĮčÅą╗ąĖ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖąĖ ą║ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮąĄ ą╝ąĄąČą┤čā čāąČąĄ ą┐ąŠč鹥čĆčÅąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąŠą▓čŗą╝ąĖ čĆąĄą┤čāčéą░ą╝ąĖ ąĖ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓ąŠą╣. ą×čéčüčéčāą┐ąĖą▓čłąĖąĄ ąĖąĘ čĆąĄą┤čāč鹊ą▓ čéčāčĆą║ąĖ ą▓čüčéą░ą╗ąĖ ąĮą░ ą┐čĆą░ą▓ąŠą╝ čäą╗ą░ąĮą│ąĄ ą░ąĮą│ą╗ąĖčćą░ąĮ. ąōąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆčā ąö. ąÜą░čĆą┤ąĖą│ą░ąĮčā čü ą╗ąĄą│ą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ąŠą╣ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ąĮąŠ ą▓čŗą┤ą▓ąĖąĮčāčéčīčüčÅ ą║ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąĖą╝ (ąÜą░ą┤čŗą║ąĖąŠą╣čüą║ąĖą╝) ą▓čŗčüąŠčéą░ą╝, ą▓ čĆą░ą╣ąŠąĮ ą┐ąŠč鹥čĆčÅąĮąĮčŗčģ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąŠą▓čŗčģ čĆąĄą┤čāč鹊ą▓, ą░ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ąĮąŠą╝čā ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗čā ąö. ąĪą║ą░čĆą╗ąĄčéčéčā čü čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ąŠą╣ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ąĘą░ąĮčÅčéčī ą┐ąŠąĘąĖčåąĖąĖ ąĮą░ ą╗ąĄą▓ąŠą╝ čäą╗ą░ąĮą│ąĄ 93&ą│ąŠ ą©ąŠčéą╗ą░ąĮą┤čüą║ąŠą│ąŠ (ą│ąŠčĆčåčŗ ąÉčĆą│ą░ą╣ą╗ą░ ąĖ ąĪą░ąĘąĄčĆą╗ąĄąĮą┤ą░) ą┐ąĄčģąŠčéąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░.
ą¤ąŠčüą╗ąĄ ą▓ąĘčÅčéąĖčÅ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąŠą▓čŗčģ čĆąĄą┤čāč鹊ą▓ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčé ąś. ąĀčŗąČąŠą▓ ą┤ą▓ąĖąĮčāą╗ ą▓ ą▒ąŠą╣ ą│čāčüą░čĆčüą║čāčÄ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čā. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ąŠą┤ąĖąĮ čŹčüą║ą░ą┤čĆąŠąĮ ąōčāčüą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ąōčĆąŠčüčü-ąōąĄčĆčåąŠą│ą░ ąĪą░ą║čüąĄąĮ-ąÆąĄą╣ą╝ą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░ ą▒čŗą╗ ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮ ą▓ ą┤ąŠą╗ąĖąĮąĄ ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąĖą║čĆčŗčéąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąōčāčüą░čĆčüą║ąĖąĄ ą┐ąŠą╗ą║ąĖ ą┤ą▓ąĖą│ą░ą╗ąĖčüčī ą┤ąĖą▓ąĖąĘąĖąŠąĮąĮčŗą╝ąĖ ą║ąŠą╗ąŠąĮąĮą░ą╝ąĖ ą▓ ą┤ą▓ąĄ ą╗ąĖąĮąĖąĖ. ą¦č鹊ą▒čŗ ą┤ąŠčüčéąĖčćčī ą┐ąŠąĘąĖčåąĖą╣ ąĮąĄą┐čĆąĖčÅč鹥ą╗čÅ, ą│čāčüą░čĆą░ą╝ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąĄčĆąĄčüąĄčć ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłčāčÄ ą┤ąŠą╗ąĖąĮčā ą╝ąĄąČą┤čā ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąĖą╝ąĖ (ąÜą░ą┤čŗą║ąĖąŠą╣čüą║ąĖą╝ąĖ) ąĖ ążąĄą┤čÄčģąĖąĮčŗą╝ąĖ ą▓čŗčüąŠčéą░ą╝ąĖ. ą¤čĆąŠą╣ą┤čÅ čŹčéčā ą┤ąŠą╗ąĖąĮčā, ą│čāčüą░čĆčüą║ą░čÅ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ą░ ą┤ąŠą╗ąČąĮą░ ą▒čŗą╗ą░ ą┐ąŠą┤ąĮčÅčéčīčüčÅ ąĮą░ ą▓ąŠąĘą▓čŗčłąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, ąŠą▒čĆą░ąĘčāąĄą╝čŗąĄ čćą░čüčéčīčÄ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąĖčģ (ąÜą░ą┤čŗą║ąĖąŠą╣čüą║ąĖčģ) ą▓čŗčüąŠčé. ąĢ. ąÉčĆą▒čāąĘąŠą▓ čéą░ą║ ąŠą┐ąĖčüčŗą▓ą░ą╗ ą╝ąĄčüčéąĮąŠčüčéčī, ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖąĖ ą░ąĮą│ą╗ąĖčćą░ąĮ: ┬½...ąĮąĄą┐čĆąĖčÅč鹥ą╗čīčüą║ą░čÅ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖčÅ, ą▓ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĖ ąĮą░čłąĄą│ąŠ ą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖčÅ, ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ą░ ą▓ąĖą┤ ą│čĆąŠą╝ą░ą┤ąĮąĄą╣čłąĄą│ąŠ ą╗čÄąĮąĄčéą░, ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą║ ąĮą░ą╝ ą│ąŠčƹȹĄą╣, čäą╗ą░ąĮą│ąĖ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ą▒čŗą╗ąĖ: ąĪą░ą┐čāąĮ-ą│ąŠčĆą░ ąĖ ą▓čŗčüąŠčéčŗ ą▒ą╗ąĖąĘ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čŗ; čāą│ąŠą╗ ąČąĄ ąĄą│ąŠ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗čüčÅ ą┐ąŠ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ ą║ ąōąĄąŠčĆą│ąĖąĄą▓čüą║ąŠą╝čā ą╝ąŠąĮą░čüčéčŗčĆčÄ┬╗17. ąśčüčģąŠą┤čÅ ąĖąĘ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖčÅ ą╝ąĄčüčéąĮąŠčüčéąĖ ą│čāčüą░čĆčüą║ąĖąĄ ą┐ąŠą╗ą║ąĖ čĆąĖčüą║ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą┐ąŠą┐ą░čüčéčī ą┐ąŠą┤ ąŠą│ąŠąĮčī ąĮąĄą┐čĆąĖčÅč鹥ą╗čīčüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĖ ą┐ąĄčģąŠčéčŗ, čĆą░čüą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą▓čłąĖčģčüčÅ ąĮą░ ąĪą░ą┐čāąĮ-ą│ąŠčĆąĄ ąĖ ąŠą║čĆąĄčüčéąĮčŗčģ ą▓ąŠąĘą▓čŗčłąĄąĮąĮąŠčüčéčÅčģ, čćč鹊 ąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłą╗ąŠ ą▓ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĄą╝. ąĢčēąĄ ą┤ąŠ ąĮąĄą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čüąŠą┐čĆąĖą║ąŠčüąĮąŠą▓ąĄąĮąĖčÅ čü ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĄą╣ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░ ą│čāčüą░čĆčüą║ą░čÅ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ą░ ąĮą░čćą░ą╗ą░ ąĮąĄčüčéąĖ ą┐ąŠč鹥čĆąĖ ąŠčé ąŠą│ąĮčÅ ąĮąĄą┐čĆąĖčÅč鹥ą╗čīčüą║ąĖčģ čüčéčĆąĄą╗ą║ąŠą▓ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąöąŠčüčéąĖą│ąĮčāą▓ čĆčāą▒ąĄąČą░ ąĮą░čćą░ą╗ą░ ą░čéą░ą║ąĖ ąĮą░ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄą╝čŗą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┐ą░čĆą║, ą│čāčüą░čĆčüą║ąĖąĄ ą┐ąŠą╗ą║ąĖ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąĖčüčī ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĄą╣ ą░ąĮą│ą╗ąĖčćą░ąĮ, ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ą┤ąŠ čŹč鹊ą│ąŠ čüą║čĆčŗą▓ą░ą╗ąĖ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąĖąĄ (ąÜą░ą┤čŗą║ąĖąŠą╣čüą║ąĖąĄ) ą▓čŗčüąŠčéčŗ. ąöą░ą╗ąĄąĄ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą▒ąŠą╣, čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čé ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ą▓ ą▒čāą┤čāčēąĄą╝ ą┐ąŠčĆąŠą┤ąĖą╗ ą╝ąĮąŠąČąĄčüčéą▓ąŠ čüą┐ąŠčĆąŠą▓. ąĪą╗ąĄą┤čāąĄčé čāčćąĖčéčŗą▓ą░čéčī č鹊čé čäą░ą║čé, čćč鹊 čüą░ą╝čŗąĄ ą┐ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮčŗąĄ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖčÅ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ čüčģą▓ą░čéą║ąĖ čü čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ą▓ąŠąĄ ąĮąĄą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ čāčćą░čüčéąĮąĖą║ąŠą▓ čüąŠą▒čŗčéąĖą╣. ąŁč鹊 ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčé ąś. ąĀčŗąČąŠą▓, ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ ą▓čüąĄą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĖ ą║ąŠąĮąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą¦ąŠčĆą│čāąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąŠčéčĆčÅą┤ą░ ąĖ ąĢ. ąÉčĆą▒čāąĘąŠą▓, čłčéą░ą▒čü-čĆąŠčéą╝ąĖčüčéčĆ ąōčāčüą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ąōčĆąŠčüčü-ąōąĄčĆčåąŠą│ą░ ąĪą░ą║čüąĄąĮ-ąÆąĄą╣ą╝ą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░. ąśčģ čüčĆą░ą▓ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╣ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘ ą┤čĆčāą│ čü ą┤čĆčāą│ąŠą╝ ąĖ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅą╝ąĖ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗, čćč鹊 ą┐čĆąĖ ąĮą░ą╗ąĖčćąĖąĖ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čĆą░čüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ą▓ ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖčÅčģ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ąĄčüčéčī ąĖ ą╝ąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒čēąĄą│ąŠ. ą×ą▒ą░ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ čāčćą░čüčéąĮąĖą║ą░ ą│čāčüą░čĆčüą║ąŠą╣ ą░čéą░ą║ąĖ ą┐ąĖčłčāčé ą┐čĆąŠ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮčāčÄ ą▓čüčéčĆąĄčćčā čü ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖą╝ąĖ ą┤čĆą░ą│čāąĮą░ą╝ąĖ, ą┐ąŠčüčéčĆąŠąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą▓ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ą░čģ. ą×ą▒ą░ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ą░čÄčé, čćč鹊 ą░ąĮą│ą╗ąĖčćą░ąĮąĄ ą▓čüčéčĆąĄčéąĖą╗ąĖ ą│čāčüą░čĆąŠą▓, čüč鹊čÅ ąĮą░ ą╝ąĄčüč鹥, čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ą┤ą░ą▓ ąĖą╝ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī čüąŠą▓ąĄčĆčłąĖčéčī ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝čŗąĄ ą┐ąĄčĆąĄčüčéčĆąŠąĄąĮąĖčÅ ą║ ą░čéą░ą║ąĄ. ąÉ čéą░ą║ąČąĄ ąŠą▒ą░ čāčćą░čüčéąĮąĖą║ą░ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ą┐ąĖčłčāčé ąŠą▒ ąŠčéčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖąĖ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖčģ ą┤čĆą░ą│čāąĮ ąĖ ą▒ąĄčüą┐čĆąĄą┐čÅčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╝ ą▓ąŠąĘą▓čĆą░čēąĄąĮąĖąĖ čüą▓ąŠąĖčģ ą│čāčüą░čĆčüą║ąĖčģ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ ąĮą░ ąĖčüčģąŠą┤ąĮčŗąĄ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖąĖ. ąæąŠą╗ąĄąĄ č鹊ą│ąŠ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčé ąś. ąĀčŗąČąŠą▓ ąĖ čłčéą░ą▒čĆąŠčéą╝ąĖčüčéčĆ ąĢ. ąÉčĆą▒čāąĘąŠą▓ čāą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĮąŠ ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠą▓ąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čģąŠą┤ą░ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ŌĆō ąŠčé čüąĄą╝ąĖ ą┤ąŠ ą┤ąĄčüčÅčéąĖ ą╝ąĖąĮčāčé. ąóą░ą║ąČąĄ ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠą▓ąŠ čāą┐ąŠą╝čÅąĮčāą╗ąĖ ąŠą▒ ąŠčüąŠą▒ąŠą╣ ąŠąČąĄčüč鹊č湥ąĮąĮąŠčüčéąĖ čüčģą▓ą░čéą║ąĖ, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ąĖ ąĮąĄ ąČąĄą╗ą░ą╗ąĖ čāčüčéčāą┐ą░čéčī ą┤čĆčāą│ ą┤čĆčāą│čā. ąÆąŠčüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĮąĖčÅ ą▒čŗą╗ąĖ ąĮą░ą┐ąĖčüą░ąĮčŗ čŹčéąĖą╝ąĖ ą╗čÄą┤čīą╝ąĖ ą▓ čĆą░ąĘąĮąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĖ ąŠą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░ąĮčŗ ą▓ čĆą░ąĘąĮčŗčģ ąĖąĘą┤ą░ąĮąĖčÅčģ, ąĮąĄąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠ ą┤čĆčāą│ ąŠčé ą┤čĆčāą│ą░. ą×ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖą▓ ą▓čüąĄ čŹč鹊, ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą┤ąĄą╗ą░čéčī ą▓čŗą▓ąŠą┤čŗ ąŠ ąĮą░ą╗ąĖčćąĖąĖ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ ą┤ąŠčüč鹊ą▓ąĄčĆąĮąŠčüčéąĖ ą▓ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĖ čüąŠą▒čŗčéąĖą╣. ą¤čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ąŠą╝ ą│čāčüą░čĆčüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ ą▒čŗą╗ą░ čéčÅąČąĄą╗ą░čÅ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ą░čÅ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ą░ ą┐ąŠą┤ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ąĮąŠą│ąŠ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ą░ ąö. ąĪą║ą░čĆą╗ąĄčéčéą░. ąĪąŠčüčéą░ą▓ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ: 1-ą╣ ą║ąŠčĆąŠą╗ąĄą▓čüą║ąĖą╣ ą┤čĆą░ą│čāąĮčüą║ąĖą╣ ą┐ąŠą╗ą║; 2-ą╣ ą║ąŠčĆąŠą╗ąĄą▓čüą║ąĖą╣ ąĪąĄą▓ąĄčĆąŠ-ąæčĆąĖčéą░ąĮčüą║ąĖą╣ ą┤čĆą░ą│čāąĮčüą║ąĖą╣ ą┐ąŠą╗ą║; 4-ą╣ ą║ąŠčĆąŠą╗ąĄą▓čüą║ąĖą╣ ąśčĆą╗ą░ąĮą┤čüą║ąĖą╣ ą│ą▓ą░čĆą┤ąĄą╣čüą║ąĖą╣ ą┤čĆą░ą│čāąĮčüą║ąĖą╣ ą┐ąŠą╗ą║; 5-ą╣ ą│ą▓ą░čĆą┤ąĄą╣čüą║ąĖą╣ ą┐čĆąĖąĮčåąĄčüčüčŗ ą©ą░čĆą╗ąŠčéčéčŗ ąŻčŹą╗čīčüą║ąŠą╣ ą┤čĆą░ą│čāąĮčüą║ąĖą╣ ą┐ąŠą╗ą║; 6-ą╣ ąśąĮąĮąĖčüą║ąĖą╗ą╗ąĖąĮą│čüą║ąĖą╣ ą┤čĆą░ą│čāąĮčüą║ąĖą╣ ą┐ąŠą╗ą║18. ą×čéą╝ąĄčéąĖą╝, čćč鹊 ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ 菹┐ąĖąĘąŠą┤čŗ ą▓ čĆą░čüčüą║ą░ąĘą░čģ čāą┐ąŠą╝čÅąĮčāčéčŗčģ ą░ą▓č鹊čĆąŠą▓ ąĮą░čģąŠą┤čÅčé ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖąĄ ą▓ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąŠą│čĆą░čäąĖąĖ. ąĢ. ąÉčĆą▒čāąĘąŠą▓ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ ąĮą░ ąĮą░ą╗ąĖčćąĖąĄ ąĮąĄą║ąĖčģ ą║ąŠąĮąŠą▓čÅąĘąĄą╣ ąĖ čüąĄčĆą▓ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ čüč鹊ą╗ąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą│čāčüą░čĆą░ą╝ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠčüčī ą┐čĆąĄąŠą┤ąŠą╗ąĄą▓ą░čéčī ąĮą░ ą┐čāčéąĖ ą║ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖą╝ ą┤čĆą░ą│čāąĮą░ą╝. ąÆ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ čŹč鹊 ą▒čŗą╗ą░ čćą░čüčéčī ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą╗ą░ą│ąĄčĆčÅ, ą┐ąŠ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖą╝ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░ą╝ ŌĆō čćą░čüčéčī čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą╗ąĄą│ą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆą░ ąö. ąÜą░čĆą┤ąĖą│ą░ąĮą░. ąÉąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖą║ ąÜ. ąźąĖą▒ą▒ąĄčĆčé ą┐ąĖčüą░ą╗, čćč鹊 čłąŠčéą╗ą░ąĮą┤čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī ą┐čĆąŠą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░čéčī ą┤ąŠčĆąŠą│čā č湥čĆąĄąĘ ą┐ą░ą╗ą░č鹊čćąĮčŗą╣ ą│ąŠčĆąŠą┤ąŠą║ ą╗ąĄą│ą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ19. ą©ąŠčéą╗ą░ąĮą┤čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĄą╣ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╣ ą░ą▓č鹊čĆ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ 2-ą╣ ą║ąŠčĆąŠą╗ąĄą▓čüą║ąĖą╣ ąĪąĄą▓ąĄčĆąŠ-ąæčĆąĖčéą░ąĮčüą║ąĖą╣ ą┤čĆą░ą│čāąĮčüą║ąĖą╣ ą┐ąŠą╗ą║, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą▓ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ ąĖą╝ąĄą╗ ąĄčēąĄ ąĮą░ąĘą▓ą░ąĮąĖąĄ ┬½čłąŠčéą╗ą░ąĮą┤čüą║ąĖąĄ čüąĄčĆčŗąĄ┬╗. ąĢčēąĄ ąÜ. ąźąĖą▒ą▒ąĄčĆčé ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąŠčé ąĮą░čćą░ą╗ą░ ą┤ąŠ ą║ąŠąĮčåą░ ą▒ąŠčÅ, ą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĮąŠ čüąŠą▓ą┐ą░ą┤ą░ąĄčé čüąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝, čāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗą╝ ąś. ąĀčŗąČąŠą▓čŗą╝ ąĖ ąĢ. ąÉčĆą▒čāąĘąŠą▓čŗą╝: ┬½ąĪą┐čāčüčéčÅ ą▓ąŠčüąĄą╝čī ą╝ąĖąĮčāčé ą┐ąŠčüą╗ąĄ č鹊ą│ąŠ, ą║ą░ą║ ąĪą║ą░čĆą╗ąĄčéčé ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ą╗ ą┐ąŠą┤ą░čéčī čüąĖą│ąĮą░ą╗ ą║ ąĮą░čüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÄ, čĆčāčüčüą║ąĖąĄ ą│ą░ą╗ąŠą┐ąŠą╝ ąŠčéčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą┐ąŠ ąÆąŠčĆąŠąĮčåąŠą▓čüą║ąŠą╣ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā ąÆąĄčĆčģąĮąĄą│ąŠ ą┐čĆąŠčģąŠą┤ą░┬╗20. ąöčĆčāą│ąŠą╣ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖą╣ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čī, ąö. ąĪčāąĖčéą╝ą░ąĮ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗, čéą░ą║ąČąĄ ą║ą░ą║ ąĖ ąś. ąĀčŗąČąŠą▓ ąĖ ąĢ. ąÉčĆą▒čāąĘąŠą▓, ąĮą░ č鹊čé čäą░ą║čé, čćč鹊 ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ąĮčŗą╣ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ ąö. ąĪą║ą░čĆą╗ąĄčéčé ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ čüą▓ąŠąĖčģ ą┤čĆą░ą│čāąĮ, ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ą▓čüčéčĆąĄčéąĖą▓ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ą│čāčüą░čĆ ąĮą░ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąĖčģ (ąÜą░ą┤čŗą║ąĖąŠą╣čüą║ąĖčģ) ą▓čŗčüąŠčéą░čģ. ąóą░ą║ąČąĄ ąĖąĘ ąĄą│ąŠ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖčÅ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąĘą░ą║ą╗čÄčćąĖčéčī, čćč鹊 ą┐ąŠą╗ą║ąĖ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ ą▓čüčéčāą┐ą░ą╗ąĖ ą▓ čĆčāą▒ą║čā ąĮąĄ čĆą░ąĘą▓ąĄčĆąĮčāčéčŗą╝ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓čŗą╝ čüčéčĆąŠąĄą╝, ą░ ą┐ąŠčŹčüą║ą░ą┤čĆąŠąĮąĮąŠ, ą┐ąŠ ą╝ąĄčĆąĄ ą▓čŗčģąŠą┤ą░ ąĮą░ čāą┤ąŠą▒ąĮčŗą╣ čĆčāą▒ąĄąČ ą░čéą░ą║ąĖ, ą╝ąĖąĮčāčÅ ą▓čüąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗąĄ ą┐čĆąĄą┐čÅčéčüčéą▓ąĖčÅ, ąĘą░čéčĆčāą┤ąĮčÅą▓čłąĖąĄ ą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖąĄ (ą▓ąĖąĮąŠą│čĆą░ą┤ąĮąĖą║ąĖ, ąĮąĄčĆąŠą▓ąĮąŠčüčéąĖ čĆąĄą╗čīąĄčäą░ ą╝ąĄčüčéąĮąŠčüčéąĖ ąĖ ą┐čĆ.)21. ą¤ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÄ ą░ą▓č鹊čĆą░, čāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗąĄ čäą░ą║čéčŗ ą╝ąŠą│čāčé čüą╗čāąČąĖčéčī ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖąĄą╝ ą┤ąŠčüč鹊ą▓ąĄčĆąĮąŠčüčéąĖ ąŠą┐ąĖčüčŗą▓ą░ąĄą╝čŗčģ čüąŠą▒čŗčéąĖą╣, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ąŠ ąĮąĖčģ čāą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÄčé čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąĖ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ą░čÅ čüč鹊čĆąŠąĮą░. ą×ą┤ąĮąŠąĘąĮą░čćąĮąŠ ą▓ ąĖčüč鹊čĆąĖąŠą│čĆą░čäąĖąĖ čĆą░ąĘąĮčÅčéčüčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ čŹč鹊ą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ čüčģą▓ą░čéą║ąĖ. ą×ą▒ąĄ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ąŠą┤ąĮąŠąĘąĮą░čćąĮąŠ ą┐čĆąĖą┐ąĖčüą░ą╗ąĖ ą┐ąŠą▒ąĄą┤čā ą║ą░ąČą┤ą░čÅ čüąĄą▒ąĄ. ąÆ ą┐čĆąĖąĮčåąĖą┐ąĄ čŹč鹊 ąĮąĄ ąĄą┤ąĖąĮąĖčćąĮčŗą╣ čüą╗čāčćą░ą╣ ą▓ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄčé ąĮąĄąŠčüą┐ąŠčĆąĖą╝ąŠą│ąŠ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĖąĘ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą▒ąŠčĆčüčéą▓čāčÄčēąĖčģ čüč鹊čĆąŠąĮ. ą×č湥ą▓ąĖą┤ąĄčå ą┤ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖą╣ ąŠčäąĖčåąĄčĆ ąÉ. ąÜąĖąĮą│ą╗菹║ čéą░ą║ąČąĄ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ ąĮą░ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠąĄ ąŠčéčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ: ┬½ąÆ č鹊 ąČąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ą░čÅ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖčÅ, ą┐ąŠą┤ ąĮą░čćą░ą╗čīčüčéą▓ąŠą╝ ąĪą║ą░čĆą╗ąĄčéčéą░, čłąĄą┤čłą░čÅ ą║ ąÜą░ą┤čŗą║ąĖąŠčÄ, ąĮą░ą┐ą░ą╗ą░ ąĮą░ čĆčāčüčüą║čāčÄ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖčÄ; ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłą╗ąŠ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠąĄ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ, ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ čĆčāčüčüą║ąĖąĄ ąŠčéčüčéčāą┐ąĖą╗ąĖŌĆ”┬╗22 ąĢčüą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖčéčī čüąĄą▒ąĄ, čćč鹊 ą│čāčüą░čĆčüą║ą░čÅ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ą░ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąŠčéčüčéčāą┐ąĖą╗ą░, č鹊ą│ą┤ą░ ą┐ąŠč湥ą╝čā ą░ąĮą│ą╗ąĖčćą░ąĮąĄ ąĮąĄ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮčÅą╗ąĖ ąĮąĖą║ą░ą║ąĖčģ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĖčģ čĆąĄčłąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖą╣ ą┤ą╗čÅ ąĄąĄ ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čāąĮąĖčćč鹊ąČąĄąĮąĖčÅ, ą║ą░ą║ čŹč鹊ą│ąŠ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ą░ ąĖ ą▓ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ ą▓čüčÅč湥čüą║ąĖ čŹč鹊ą╝čā čüą┐ąŠčüąŠą▒čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ą░ ą▒ąŠąĄą▓ą░čÅ ąŠą▒čüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░. ąóąŠčé ąČąĄ ąÜ. ąźąĖą▒ą▒ąĄčĆčé ąŠą▒čŖčÅčüąĮčÅą╗ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĄ ą┐čĆąĄčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ ą░ąĮą│ą╗ąĖčćą░ąĮ č鹥ą╝, čćč鹊 ąŠąĮą░, čÅą║ąŠą▒čŗ, ą┐ąŠč鹥čĆčÅą╗ą░ čüčéčĆąŠą╣23. ąö. ąĪčāąĖčéą╝ą░ąĮ ąŠą▒čŖčÅčüąĮčÅą╗ čŹč鹊čé čäą░ą║čé ąŠą▒ąĄčüą┐ąŠą║ąŠąĄąĮąĮąŠčüčéčīčÄ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ąĮąŠą│ąŠ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ą░ ąö. ąĪą║ą░čĆą╗ąĄčéčéą░, č鹥ą╝, čćč鹊, čāą▓ą╗ąĄą║čłąĖčüčī ą┐čĆąĄčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝, ąĄą│ąŠ ą┤čĆą░ą│čāąĮčŗ ąŠą║ą░ąČčāčéčüčÅ ą┐ąŠą┤ ą│čāą▒ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ąŠą│ąĮąĄą╝ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ čü ążąĄą┤čÄčģąĖąĮčŗčģ ą▓čŗčüąŠčé24. ąĢčēąĄ čüč鹊ąĖčé čāč湥čüčéčī, čćč鹊 čĆčÅą┤ąŠą╝ ą▓ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ą░čģ, ą│ąŠč鹊ą▓ą░čÅ ą║ ą░čéą░ą║ąĄ, čüč鹊čÅą╗ą░ ą╗ąĄą│ą║ą░čÅ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ą░čÅ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ą░ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆą░ ąö. ąÜą░čĆą┤ąĖą│ą░ąĮą░. ąĪą╗ąŠąČąĖą▓čłą░čÅčüčÅ ą▒ąŠąĄą▓ą░čÅ ąŠą▒čüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ą░ ąŠčé ąĮąĄą│ąŠ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ░čéčī ąĖ čĆą░ąĘą▓ąĖčéčī čāčüą┐ąĄčģ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ. ąóąĄą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ ąŠą▒ąĄ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ ą▒ąĄąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ą╗ąĖ ąĘą░ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╝ ąŠčéčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝.
ąóąĄą┐ąĄčĆčī ą┐ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮąŠ ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╝čüčÅ ąĮą░ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠą╝ ą┐čĆąĄą▓ąŠčüčģąŠą┤čüčéą▓ąĄ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ą│čāčüą░čĆ ą▓ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╣ čüčģą▓ą░čéą║ąĄ, ąŠ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ ą▒ąĄčüą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠ ą┐ąĖčłčāčé ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗąĄ ąĖčüč鹊čĆąĖą║ąĖ, ą┤ą░ą▒čŗ ą┐ąŠą┤č湥čĆą║ąĮčāčéčī ąĘą░čüą╗čāą│ąĖ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╣ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ. ąŻ ą║ą░ąĮą░ą┤čüą║ąŠą│ąŠ čāč湥ąĮąŠą│ąŠ ąÉ. ąóčĆčāą▒ąĄčåą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąĮą░ą╣čéąĖ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄąĄ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖąĄ: ┬½ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┤ą╗čÅ ą▒čĆąĖčéą░ąĮčåąĄą▓ čŹč鹊čé čāčüą┐ąĄčģ ą╝ąŠąČąĮąŠ čüčćąĖčéą░čéčī ą▓čŗą┤ą░čÄčēąĖą╝čüčÅ: ąĪą║ą░čĆą╗ąĄčéčé ą┐ąŠą▓ąĄą╗ ą▓ ą▒ąŠą╣ 800 ą┤čĆą░ą│čāąĮ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ 1600 čĆčāčüčüą║ąĖčģ ą│čāčüą░čĆ ąĖ ą┐ąŠą▒ąĄą┤ąĖą╗, ąĘą░čüčéą░ą▓ąĖą▓ ą▓čĆą░ą│ą░ ąŠčéčüčéčāą┐ąĖčéčī┬╗25. ąĢčēąĄ ąŠą┤ąĖąĮ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čī ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ čüąŠą▒čŗčéąĖą╣ ą║ą░ą┐čĆą░ą╗ ąō. ą¤ą░čā菹╗ą╗ ąĖąĘ 13-ą│ąŠ ą╗ąĄą│ą║ąŠą│ąŠ ą┤čĆą░ą│čāąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░ ą╗ąĄą│ą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ą░čüčī ą▓ ąĮąĄą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▒ą╗ąĖąĘąŠčüčéąĖ ąŠčé čüčģą▓ą░čéą║ąĖ, ą┐ąŠ ą┐ąŠą▓ąŠą┤čā ą┤ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ąĖ ąŠčéčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓čüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗: ┬½ąÆ ąĮą░čüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĖą┤ąĄčé čüą╗ąĄą┤čāčÄčēą░čÅ čłąĄčĆąĄąĮą│ą░; ąĘą░ą▓čÅąĘčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ čéąĖą┐ąĖčćąĮą░čÅ čüčģą▓ą░čéą║ą░ ąĮą░ čüą░ą▒ą╗čÅčģ. ąĀčāčüčüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮąĮąĖčåąĄ čŹč鹊 ą┐ąŠą┤ąĮą░ą┤ąŠąĄą╗ąŠ; ąŠąĮąĖ čĆą░ąĘą▓ąĄčĆąĮčāą╗ąĖčüčī ąĖ ą┐ąŠą╝čćą░ą╗ąĖčüčī ą▓ąŠ ą▓čüčÄ ą┐čĆčŗčéčī ąĮą░ąĘą░ą┤ ą┐ąŠą┤ąĘą░ą╗ą┐čŗ čĆčāąČąĄą╣ąĮąŠą│ąŠ ąŠą│ąĮčÅŌĆ”┬╗26 ąÜą░ą║ ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, čŹč鹊 ą▒ąŠą╗ąĄąĄ č湥ą╝ čüą║čĆąŠą╝ąĮąŠąĄ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ┬½ą▓čŗą┤ą░čÄčēąĄą│ąŠčüčÅ čāčüą┐ąĄčģą░┬╗ ąŠčé čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čÅ čüčģą▓ą░čéą║ąĖ, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖąĄ ą┤čĆą░ą│čāąĮčŗ čÅą║ąŠą▒čŗ ąŠą▒čĆą░čéąĖą╗ąĖ ą▓ ą▒ąĄą│čüčéą▓ąŠ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠ ą┐čĆąĄą▓ąŠčüčģąŠą┤čÅčēąĖąĄ čüąĖą╗čŗ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░. ą¤ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗčģ čüąŠąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖą╣ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ą│čāčüą░čĆ ąĖ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖčģ ą┤čĆą░ą│čāąĮ, ą║ą░ą║ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤ąĄąĮčŗ ą▓čŗčłąĄ, ą╝ąĮąŠąČąĄčüčéą▓ąŠ, ąĮąŠ ą▓čüąĄ ąŠąĮąĖ ą╝ą░ą╗ąŠ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčé ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ. ą¦ą░čüč鹊 ąĖčüč鹊čĆąĖą║ąĖ čüąŠąŠą▒čēą░čÄčé ą┐čĆąŠčüč鹊 čłčéą░čéąĮčāčÄ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ ąĖą╗ąĖ ąŠą▒čēčāčÄ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ, čćč鹊 ą▒čŗą╗ą░ ą▓ ą¦ąŠčĆą│čāąĮčüą║ąŠą╝ ąŠčéčĆčÅą┤ąĄ, ąĮąĄ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÅ, čćč鹊 ąĮą░ ą┤čĆą░ą│čāąĮ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ąĮąŠą│ąŠ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ą░ ąö. ąĪą║ą░čĆą╗ąĄčéčéą░ ą▓čŗčłą╗ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ą▓ą░ ą│čāčüą░čĆčüą║ąĖčģ ą┐ąŠą╗ą║ą░, ąĮąĄą┐ąŠą╗ąĮąŠą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą░, ąĖ č鹊 ąŠą┤ąĖąĮ ąĖąĘ ąĮąĖčģ ą▒ąĄąĘ čéčĆąĄčģ čŹčüą║ą░ą┤čĆąŠąĮąŠą▓. ąóąĄąŠčĆąĄčéąĖč湥čüą║ąĖ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ą░ ąĖąĘ ą┤ą▓čāčģ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ ą╗ąĄą│ą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ ą┤ą▓ą░ čĆą░ąĘą░ ą┐čĆąĄą▓ąŠčüčģąŠą┤ąĖą╗ą░ ą┐ąŠ čłčéą░čéąĮąŠą╣ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║čāčÄ čéčÅąČąĄą╗čāčÄ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║čāčÄ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čā, čüąŠčüč鹊čÅą▓čłčāčÄ ąĖąĘ ą┐čÅčéąĖ ą┤čĆą░ą│čāąĮčüą║ąĖčģ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓27. ąØąŠ ą┐ąŠą┤ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓ąŠą╣ čŹč鹊 ą╝ąŠą│ą╗ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘąŠą╣čéąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ č鹊ą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ, ąĄčüą╗ąĖ ą▓ čüčéčĆąŠą╣ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ąĖ ą▒čŗ čüč鹊 ą┐čĆąŠčåąĄąĮč鹊ą▓ ą╗ąĖčćąĮąŠą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą░. ąÜą░ą║ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą▓čŗčłąĄ, čéčĆąĖ čŹčüą║ą░ą┤čĆąŠąĮą░ ą▓ąĄą╣ą╝ą░čĆčüą║ąĖčģ ą│čāčüą░čĆ ą▓ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╝ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝ ą▒ąŠčÄ ąĮąĄ čāčćą░čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ, ą░ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ ąĘą░ą┤ą░čćąĖ, ąĖ ąś. ąĀčŗąČąŠą▓čŗą╝ ąĖ ąĢ. ąÉčĆą▒čāąĘąŠą▓čŗą╝ ą┐čĆčÅą╝ąŠ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊 čŹčüą║ą░ą┤čĆąŠąĮčŗ ąĖčģ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓, ąĄčēąĄ ą┤ąŠ ąĮą░čćą░ą╗ą░ čüčģą▓ą░čéą║ąĖ, ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ą┤ą░ą╗ąĄą║ąŠ ąĮąĄ ą┐ąŠą╗ąĮčŗą╣ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čé ą╗ąĖčćąĮąŠą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą░. ąŁčéąĖ čäą░ą║čéčŗ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅčÄčé čüą┤ąĄą╗ą░čéčī ą▓čŗą▓ąŠą┤, čćč鹊 ą▓ ą▒ąŠčÄ ąĮą░ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąĖčģ (ąÜą░ą┤čŗą║ąĖąŠą╣čüą║ąĖčģ) ą▓čŗčüąŠčéą░čģ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖąĄ ą│čāčüą░čĆčŗ, ąĄčüą╗ąĖ ąĖ ą┐čĆąĄą▓ąŠčüčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖčģ ą┤čĆą░ą│čāąĮ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčīčÄ, č鹊 čŹč鹊 ą┐čĆąĄą▓ąŠčüčģąŠą┤čüčéą▓ąŠ čÅą▓ąĮąŠ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ čĆąĄčłą░čÄčēąĖą╝. ąöą╗čÅ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ŌĆō čćč鹊 ąČąĄ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłą╗ąŠ ąĮą░ ą▓čŗčüąŠčéą░čģ ą┐ąŠą┤ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓ąŠą╣ ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĘąĮą░ą╝ąĄąĮąĖč鹊ą│ąŠ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ, ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī ąĖčüčüą╗ąĄą┤čāąĄą╝čŗą╣ 菹┐ąĖąĘąŠą┤ čü č鹊čćą║ąĖ ąĘčĆąĄąĮąĖčÅ čéą░ą║čéąĖą║ąĖ. ąóąŠą│ą┤ą░ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ čü ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ą┤ąŠą╗ąĄą╣ ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠčüčéąĖ ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčī ą║ą░čĆčéąĖąĮčā, ą▒ą╗ąĖąĘą║čāčÄ ą║ ą┐čĆą░ą▓ą┤ąĄ, ąĖ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖčéčī čĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ ąŠčéčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ. ąÆąŠąĄąĮąĮą░čÅ ąĮą░čāą║ą░ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄčé ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖą╝ąĖ čćą░čüčéčÅą╝ąĖ čüą▓ąŠąĖčģ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖą╣ ą▓ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠčüčéąĖ ąŠčé čüą╗ąŠąČąĖą▓čłąĄą╣čüčÅ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ ąŠą▒čüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ. ą¤čĆąĖčćąĖąĮąŠą╣ čŹč鹊ą╝čā ą┤ą░ą╗ąĄą║ąŠ ąĮąĄ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ čüą╗čāąČąĖčé ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ, ą┐ąŠą╗čāč湥ąĮąĮąŠąĄ ąŠčé ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░. ąÆ ąĮą░čłąĄą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ, ą▓ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĄąĮąĖąĖ ąŠčéčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ą│čāčüą░čĆ čüą╝ąŠąČąĄčé ą┐ąŠą╝ąŠčćčī ąĘąĮą░ąĮąĖąĄ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĘą░ą┤ą░čćąĖ ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ čüčéą░ą▓ąĖą╗ą░čüčī ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗą╝ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆčā čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąśčéą░ą║, ą║ą░ą║ ą▒čŗą╗ąŠ čüą║ą░ąĘą░ąĮąŠ ą▓čŗčłąĄ, ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĘą░ą┤ą░čćąĖ ąŠčé ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéą░ ą¤. ąøąĖą┐čĆą░ąĮą┤ąĖ ą│čāčüą░čĆčüą║ąĖą╝ ą┐ąŠą╗ą║ą░ą╝ čüčéą░ą▓ąĖą╗ą░čüčī ą░čéą░ą║ą░ ąĮą░ ąĮąĄą┐čĆąĖčÅč鹥ą╗čīčüą║ąĖą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┐ą░čĆą║. ąÆčŗą╣ą┤čÅ ą║ ąŠą▒čŖąĄą║čéčā ą░čéą░ą║ąĖ, ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčé ąś. ąĀčŗąČąŠą▓ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĖą╗ ą▓ą╝ąĄčüč鹊 ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄą╝ąŠą│ąŠ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┐ą░čĆą║ą░ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ ą░ąĮą│ą╗ąĖčćą░ąĮ. ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ą│čāčüą░čĆ ąĖ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖčģ ą┤čĆą░ą│čāąĮ čĆą░ąĘą┤ąĄą╗čÅą╗ą░ čćą░čüčéčī ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą│ąŠ ą┐ą░ą╗ą░č鹊čćąĮąŠą│ąŠ ą╗ą░ą│ąĄčĆčÅ ą╗ąĄą│ą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ, čüą║ąŠčĆąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ, ąĮą░ą║ą░ąĮčāąĮąĄ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą▒čŗą╗ą░ ą┐čĆąĖąĮčÅčéą░ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╝ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ąĘą░ čāą┐ąŠą╝čÅąĮčāčéčŗą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┐ą░čĆą║. ąÜą░ą║ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ ąŠč湥ą▓ąĖą┤čåą░ą╝ąĖ ąĖ ąĖčüč鹊čĆąĖą║ą░ą╝ąĖ čü č鹊ą╣ ąĖ čü ą┤čĆčāą│ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, čŹčéą░ ą▓čüčéčĆąĄčćą░ čüčéą░ą╗ą░ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠčüčéčīčÄ ą┤ą╗čÅ ąŠą▒ąŠąĖčģ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ąŠą▓, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ąĖčģ ą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖąĄ čüą║čĆčŗą▓ą░ą╗ ą┐ąĄčĆąĄčüąĄč湥ąĮąĮčŗą╣ čĆąĄą╗čīąĄčä ą╝ąĄčüčéąĮąŠčüčéąĖ. ą¤čĆąŠąĖąĘąŠčłąĄą╗ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą▒ąŠą╣, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ ąŠą▒ąĄ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ čüąĄą▒čÅ čü ąĮą░ąĖą╗čāčćčłąĄą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ. ąŚąĮą░čÅ ą▒ąŠąĄą▓čāčÄ ąĘą░ą┤ą░čćčā, ą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčāčÄ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéčā ąś. ąĀčŗąČąŠą▓čā ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą¦ąŠčĆą│čāąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąŠčéčĆčÅą┤ą░, ąĄą│ąŠ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĖąĄ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ ą▓ą┐ąŠą╗ąĮąĄ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖą╝čŗ. ąÆčŗą╣ą┤čÅ ąĮą░ čāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗą╣ čĆčāą▒ąĄąČ ą░čéą░ą║ąĖ ąĖ ą┤ą░ą▓ ą▒ąŠą╣ ąĮąĄą┐čĆčÅč鹥ą╗čÄ, ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą┐ąŠčüčćąĖčéą░ą╗ čüą▓ąŠčÄ ąĘą░ą┤ą░čćčā ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĮąŠą╣.
ąÜą░ą║ ą▒čŗ čéą░ą╝ ąĮąĖ ą▒čŗą╗ąŠ, ąĮąŠ ą┤ą░ą╗ąĄąĄ ąŠą▒čüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ ą┤ą╗čÅ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ą│čāčüą░čĆ ą▓čüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ čüą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ą╗ą░čüčī ąĮąĄą▒ą╗ą░ą│ąŠą┐čĆąĖčÅčéąĮąŠ. ąöą░ąČąĄ ąĄčüą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī, čćč鹊 čéčÅąČąĄą╗ą░čÅ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ą░čÅ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ą░ ąŠčéčüčéčāą┐ąĖą╗ą░ čü ą┐ąŠč鹥čĆčÅą╝ąĖ, ą▓čüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ ąŠąĮą░ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ą░ čāąĮąĖčćč鹊ąČąĄąĮą░ ąĖ čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą╗ą░ čüą▓ąŠčÄ ą▒ąŠąĄčüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéčī. ąØą░ ą┐čĆą░ą▓ąŠą╝ čäą╗ą░ąĮą│ąĄ, ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┤ą▓čāčģ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ą│čāčüą░čĆčüą║ąĖčģ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓, ą▓ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ą░čģ, ą│ąŠč鹊ą▓ą░čÅ ą║ ą░čéą░ą║ąĄ, čüč鹊čÅą╗ą░ ą╗ąĄą│ą║ą░čÅ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ą░čÅ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ą░ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆą░ ąö. ąÜą░čĆą┤ąĖą│ą░ąĮą░. ąØą░ ą╗ąĄą▓ąŠą╝ čäą╗ą░ąĮą│ąĄ ŌĆō čéčāčĆąĄčåą║ą░čÅ ą┐ąĄčģąŠčéą░. ąÆ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĄ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖą╣ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░, ąĘą░ ą╗ąĄą│ą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ąŠą╣, ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā ąĪą░ą┐čāąĮ-ą│ąŠčĆčŗ, ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ą░čÅ ą┐ąĄčģąŠčéą░ ąĖ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖčÅ, ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮąĖ ąÜą░ą┤čŗą║ąĖąŠą╣ ą┐ąŠ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ ą║ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓ąĄ ą▓čŗčüčéčĆąŠąĖą╗čüčÅ 93-ą╣ ą©ąŠčéą╗ą░ąĮą┤čüą║ąĖą╣ ą┐ąĄčģąŠčéąĮčŗą╣ ą┐ąŠą╗ą║, ą░ ąĘą░ ąĮąĖą╝, ąĮą░ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ čĆą░čüčüč鹊čÅąĮąĖąĖ, ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ą░čÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÅ. ąÜą░ą║ąĖąĄ čüąĖą╗čŗ ąĮąĄą┐čĆąĖčÅč鹥ą╗čÅ ąĮą░čģąŠą┤čÅčéčüčÅ ą┤ą░ą╗ąĄąĄ ą▓ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓ąĄ ąĖ ą║ą░ą║ą░čÅ čéą░ą╝ čüą╗ąŠąČąĖą╗ą░čüčī ąŠą▒čüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░, ąĮą░ č鹊čé ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčé ąś. ąĀčŗąČąŠą▓ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ąĘąĮą░čéčī. ąØąŠ ąŠąĮ ąĘąĮą░ą╗ ąŠą▒ ąŠą▒čēąĄą╣ ąĘą░ą┤ą░č湥 ą▓čüąĄą│ąŠ ą¦ąŠčĆą│čāąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąŠčéčĆčÅą┤ą░ ŌĆō ąĘą░ąĮčÅčéčī č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąŠą▓čŗąĄ čĆąĄą┤čāčéčŗ čāą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╗ą░ą│ąĄčĆčÅ čüąŠčĹʹĮąĖą║ąŠą▓, čćč鹊 ą▓ čģąŠą┤ąĄ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąŠ ą┐ąĄčģąŠč鹊ą╣. ąĢčüą╗ąĖ ą▒čŗ ąś. ąĀčŗąČąŠą▓ ąĮą░čćą░ą╗ ą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖąĄ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čŗ, č鹊 ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗąĄ čüąĖą╗čŗ ą¦ąŠčĆą│čāąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąŠčéčĆčÅą┤ą░ ąŠčüčéą░ą╗ąĖčüčī ą▒čŗ ą┤ą░ą╗ąĄą║ąŠ ą┐ąŠąĘą░ą┤ąĖ, ąĮą░ ąĘą░ąĮčÅčéčŗčģ čĆąĄą┤čāčéą░čģ, ąĮą░ ążąĄą┤čÄčģąĖąĮčŗčģ ą▓čŗčüąŠčéą░čģ, ą▓ ą┤ąŠą╗ąĖąĮąĄ čĆąĄą║ąĖ ą¦ąĄčĆąĮą░čÅ ąĖ, ąĖčüčģąŠą┤čÅ ąĖąĘ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░ąĄą╝čŗčģ ąĖą╝ąĖ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖą╣, ąĮąĄ čüą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗ ąŠą║ą░ąĘą░čéčī ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║ąĖ ą│čāčüą░čĆą░ą╝. ąÆąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗą╣ ą┐čĆąŠčĆčŗą▓ ą┤ą░ą╗ąĄąĄ ą║ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓ąĄ ą┤ą▓čāčģ ą│čāčüą░čĆčüą║ąĖčģ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓, ąĮąĄą┐ąŠą╗ąĮąŠą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą░ ąĖ ąŠčüą╗ą░ą▒ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą▓ čüčģą▓ą░čéą║ąĄ čü ą┤čĆą░ą│čāąĮą░ą╝ąĖ, ą▒ąĄąĘ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║ąĖ čüą▓ąŠąĄą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĖ ą┐ąĄčģąŠčéčŗ, ą▓čĆčÅą┤ ą╗ąĖ ą╝ąŠą│ ą┐čĆąĖą▓ąĄčüčéąĖ ą║ čāčüą┐ąĄčģčā. ąÆ čéą░ą║ąŠą╣ ąŠą▒čüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĄ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčé ąś. ąĀčŗąČąŠą▓ ą┐čĆąĖąĮčÅą╗ ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ čĆą░ąĘčāą╝ąĮąŠąĄ čĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ: ąŠčéą║ą░ąĘą░čéčīčüčÅ ąŠčé ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĄą│ąŠ ąĮą░čüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą▓ąĄčĆąĮčāčéčīčüčÅ ąĮą░ ąĖčüčģąŠą┤ąĮčŗąĄ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖąĖ. ąóąĄą╝ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ, čćč鹊 ąĘą░ą┤ą░čćčā, ą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčāčÄ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝, ąś. ąĀčŗąČąŠą▓ čüčćąĖčéą░ą╗ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĮąŠą╣, ą░ čåąĄą╗čī čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ŌĆō ąĘą░čģą▓ą░čé ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ č湥čéčŗčĆąĄčģ čĆąĄą┤čāč鹊ą▓ ąĮąĄą┐čĆąĖčÅč鹥ą╗čÅ ŌĆō ą▒čŗą╗ą░ čāąČąĄ ą┤ąŠčüčéąĖą│ąĮčāčéą░. ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ą┤ą░ąĮąĮčŗą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą▒ąŠą╣ ąĮąĄ ąĖą╝ąĄą╗ ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą│ąŠ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéą░. ąØąŠ ą┤ą╗čÅ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, ą┤ą╗čÅ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ ąö. ąĪą║ą░čĆą╗ąĄčéčéą░ ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĄą╣ ą┐ąŠą╗čÅ ą▒ąŠčÅ, ą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠ ąČąĄ, ą▓čŗą│ą╗čÅą┤ąĄą╗ąŠ ą║ą░ą║ ąŠčéčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ. ą× č湥ą╝ ąĖ ąĮąĄ ą┐čĆąĄą╝ąĖąĮčāą╗ąĖ ą▓ čüą║ąŠčĆąŠą╝ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąĮą░ą┐ąĖčüą░čéčī ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗ąĖ28.
ą×čüčéą░ąĄčéčüčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ąŠą│ą░ą┤čŗą▓ą░čéčīčüčÅ, ą┐ąŠč湥ą╝čā ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčé ą¤. ąøąĖą┐čĆą░ąĮą┤ąĖ ą▓ čüą▓ąŠąĄą╝ ą┤ąŠąĮąĄčüąĄąĮąĖąĖ ą║ąĮčÅąĘčÄ ąÉ.ą£ąĄąĮčłąĖą║ąŠą▓čā ąĮąĄ čāą║ą░ąĘą░ą╗ ą┐ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮąŠčüč鹥ą╣ čŹč鹊ą│ąŠ ą▒ąŠčÅ29. ąĪą║ąŠčĆąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ą┐ąŠč鹊ą╝čā, čćč鹊 ą┤ą░ąĮąĮčŗą╣ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą▒ąŠą╣ ąĮąĄ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ čĆąĄčłą░čÄčēąĄą│ąŠ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ąĮą░ ąĖčüčģąŠą┤ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąŠą│ąŠ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ, čā ąś. ąĀčŗąČąŠą▓ą░ ą┐ąŠ ą┐ąŠą▓ąŠą┤čā čŹč鹊ą╣ čüčģą▓ą░čéą║ąĖ ąĄčüčéčī ąĘą░ą┐ąĖčüčī. ┬½ą» ŌĆ” ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄ ą▓ąĖą┤ą░ą╗ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čéą░ą║ąĖ, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ąŠą▒ąĄ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, čü čĆą░ą▓ąĮčŗą╝ ąŠąČąĄčüč鹊č湥ąĮąĖąĄą╝, čüč鹊ą╣ą║ąŠčüčéčīčÄ ąĖ, ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą║ą░ąĘą░čéčī, čāą┐ąŠčĆčüčéą▓ąŠą╝ čĆčāą▒ąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą╝ąĄčüč鹥 čéą░ą║ąŠąĄ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ, ą┤ą░ ąĖ ą▓ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ą░čéą░ą║ ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠ ą▓čüčéčĆąĄčéąĖčłčī čéą░ą║ąĖčģ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąŠą▓ŌĆ” ąÉčéą░ą║ą░ čŹčéą░ čüą░ą╝čŗą╝ąĖ ąĮąĄą┤ąŠą▒čĆąŠąČąĄą╗ą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ ąĮą░čü ą╗čÄą┤čīą╝ąĖ ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī ąĮą░ąĘą▓ą░ąĮą░ ąĖąĮą░č湥, ą║ą░ą║ čüą░ą╝ąŠčÄ čüą╝ąĄą╗ąŠčÄ, čĆąĄčłąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčÄ, ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓ąŠčÄŌĆ”┬╗30 ą¤ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÄ ą░ą▓č鹊čĆą░, ąŠčéą╗ąĖčćąĮčŗą╝ąĖ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░č鹥ą╗čÅą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ ąŠčåąĄąĮą║ąĖ ą░čéą░ą║ąĖ ą│čāčüą░čĆčüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ ąĮą░ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║čāčÄ čéčÅąČąĄą╗čāčÄ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖčÄ ą▓ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąŠą╝ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖąĖ ą╝ąŠą│čāčé ą┐ąŠčüą╗čāąČąĖčéčī ąĮą░ą│čĆą░ą┤čŗ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓ ąĖ ąĮąĖąČąĮąĖčģ čćąĖąĮąŠą▓, ąĮą░ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĄ ąōčāčüą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ąōčĆąŠčüčü-ąōąĄčĆčåąŠą│ą░ ąĪą░ą║čüąĄąĮ-ąÆąĄą╣ą╝ą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░. ąśąĘ ą┤ą▓ą░ą┤čåą░čéąĖ ą┤ąĄą▓čÅčéąĖ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓ ą┐ąŠą╗ą║ą░, čāčćą░čüčéą▓ąŠą▓ą░ą▓čłąĖčģ ą▓ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╣ ą░čéą░ą║ąĄ, ą┤ą▓ąĄąĮą░ą┤čåą░čéčī ą▒čŗą╗ąĖ ąĮą░ą│čĆą░ąČą┤ąĄąĮčŗ ąŠčĆą┤ąĄąĮą░ą╝ąĖ ąĖą╗ąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠą╝ ą▓ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╣ čćąĖąĮ. ąśąĘ ąĮąĖąČąĮąĖčģ čćąĖąĮąŠą▓ ą┐ąŠą╗ą║ą░ ŌĆō čüąĄą╝čī ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ąĖ ąĘąĮą░ą║ ąŠčéą╗ąĖčćąĖčÅ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą×čĆą┤ąĄąĮą░ čüą▓čÅč鹊ą│ąŠ ąōąĄąŠčĆą│ąĖčÅ ą¤ąŠą▒ąĄą┤ąŠąĮąŠčüčåą░. ą×ą┤ąĖąĮ čāąĮč鹥čĆ-ąŠčäąĖčåąĄčĆ ąĘą░ čģčĆą░ą▒čĆąŠčüčéčī ą▒čŗą╗ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąĄą┤ąĄąĮ ą▓ ą║ąŠčĆąĮąĄčéčŗ. ąÜąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆ ą┐ąŠą╗ą║ą░ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗&ą╝ą░ą╣ąŠčĆ ąÉ. ąæčāč鹊ą▓ąĖčć čāą┤ąŠčüč鹊ąĖą╗čüčÅ ą╝ąŠąĮą░čĆčłąĄą│ąŠ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą▓ąŠą╗ąĄąĮąĖčÅ31. ąŁč鹊 ąĘą░ ą▒ąŠą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą┤ą╗ąĖą╗čüčÅ, ą┐ąŠ ą▓ąŠčüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĮąĖčÅą╝ čāčćą░čüčéąĮąĖą║ąŠą▓, čüąĄą╝čī-ą┤ąĄčüčÅčéčī ą╝ąĖąĮčāčé.
ąśčéą░ą║, ą▒ąŠą╣ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ą│čāčüą░čĆ čü ą░ąĮą╗ąĖą╣čüą║ąĖą╝ąĖ ą┤čĆą░ą│čāąĮą░ą╝ąĖ, ąĮąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅąĮą░ ąŠąČąĄčüč鹊č湥ąĮąĮąŠčüčéčī, ąĮąĄ ą┐ąŠą▓ą╗ąĖčÅą╗ ąĮą░ ąĖčüčģąŠą┤ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąŠą│ąŠ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ ą┐ąŠą╗čīąĘčā ą║ą░ą║ąŠą╣-ą╗ąĖą▒ąŠ ąĖąĘ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą▒ąŠčĆčüčéą▓čāčÄčēąĖčģ čüč鹊čĆąŠąĮ. ąÆąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, ą┐ąŠ čŹčéąĖą╝ ą┐čĆąĖčćąĖąĮą░ą╝ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╝čā ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝čā ą▒ąŠčÄ ąĮą░ ą┐ąŠą┤čüčéčāą┐ą░čģ ą║ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓ąĄ ąĮąĄ čāą┤ąĄą╗čÅą╗ąŠčüčī ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ ą▓ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąŠą│ą░čäąĖąĖ. ąóąĄą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ, ą┐ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÄ ą░ą▓č鹊čĆą░, ą║ą░ą║ čŹč鹊čé ą▒ąŠą╣, čéą░ą║ ąĖ ą▓čüčÅ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖčÅ ą▓ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąŠą╝ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖąĖ ąĘą░čüą╗čāąČąĖą▓ą░čÄčé ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐čĆąĖčüčéą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ, č湥ą╝ čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ą┐čĆąĖąĮčÅč鹊 čüčćąĖčéą░čéčī. ąØąĄ čüč鹊ąĖčé ąĘą░ą▒čŗą▓ą░čéčī, čćč鹊 ąĖ čüą░ą╝ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆ ąØąĖą║ąŠą╗ą░ą╣ ąå ą┐čĆąĖą┤ą░ą▓ą░ą╗ čŹč鹊ą╝čā čĆąŠą┤čā ą▓ąŠą╣čüą║ ą▓ą░ąČąĮąĄą╣čłąĄąĄ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ, ą║ą░ą║ ą│ą╗ą░ą▓ąĮąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą▓ąĖąČąĮąŠą╣ čüąĖą╗ąĄ ą░čĆą╝ąĖąĖ32. ąÆ ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╣ ą╝ąĄčĆąĄ ąĘą░čüą╗čāąČąĖą▓ą░čÄčé ąĮą░čāčćąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄąŠčüą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖč鹊ą│ąĖ ąĖ čāčĆąŠą║ąĖ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüą║ąŠą│ąŠ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ čåąĄą╗ąŠą╝33. ą¤ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 ą┤ą░ąĮąĮčŗąĄ čüąŠą▒čŗčéąĖčÅ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ čüąŠčüčéą░ą▓ąĮąŠą╣ čćą░čüčéčīčÄ ąŠą▒čēąĄą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ 菹┐ąŠčģąĖ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆą░ ąØąĖą║ąŠą╗ą░čÅ ąå ŌĆō ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ, ą║ č鹊ą╝čā ąČąĄ, ą▓ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ą╝ą░ą╗ąŠąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą╣.
1 ąæąŠą│ą┤ą░ąĮąŠą▓ąĖčć ą£.ąś. ąÆąŠčüč鹊čćąĮą░čÅ ą▓ąŠą╣ąĮą░ 1853ŌĆō1856 ą│ą│. ąó. III. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ąż. ąĪčāčēąĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ, 1876. 471 čü.
2 ąÆąŠčüč鹊čćąĮą░čÅ ą▓ąŠą╣ąĮą░ 1853ŌĆō1856 ą│ą│. ą×ą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖą╣ čüčāčģąŠą┐čāčéąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéą░ ąÉ.ą£. ąŚą░ą╣ąŠąĮčćą║ąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ // ąśčüč鹊čĆąĖčÅ čĆčāčüčüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ. ą£.: ąŁą║čüą╝ąŠ, 2007. ąĪ. 411ŌĆō472.
3 ąĪą▓ąĄčćąĖąĮ ąÉ. ąŁą▓ąŠą╗čÄčåąĖčÅ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖčüą║čāčüčüčéą▓ą░. ąó. ąåąå. ą£.-ąø.: ąÆąŠąĄąĮąĮą░čÅ ą╗ąĖč鹥čĆą░čéčāčĆą░, 1928. 619 čü.
4 ąóą░čĆą╗ąĄ ąĢ.ąÆ. ąÜčĆčŗą╝čüą║ą░čÅ ą▓ąŠą╣ąĮą░. ąÆ 2 čé. ą£.: ąÉąĪąó, 2005. 1368 čü.
5 Kinglake A. Invasion of the Crimea. V. IŌĆōVIII. London, 1863ŌĆō1887. ąĀ. 2800.
6 ąÆasančüąŠurt C. de. LŌĆÖexp dition de Crim e. LŌĆÖarmee francaise a Gallipoli, Vame et Sebastopol. Chronicles militaries de la guerre dŌĆÖOrient. V. 1, 2. Paris, 1858. S. 430.
7 ąØąŠą╗ą░ąĮ ąø. ąśčüč鹊čĆąĖčÅ ąĖ čéą░ą║čéąĖą║ą░ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ąó-ą▓ą░ ┬½ą×ą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮą░čÅ ą¤ąŠą╗čīąĘą░┬╗, 1871. 293 čü.
8 ąÆąŠąĄąĮąĮčŗąĄ čĆąĄč乊čĆą╝čŗ 60ŌĆō70-čģ ą│ą│. XąåX ą▓. // ąÆąŠąĄąĮąĮą░čÅ ąĖčüč鹊čĆąĖčÅ ą×č鹥č湥čüčéą▓ą░: ąĪ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖčģ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮ ą┤ąŠ ąĮą░čłąĖčģ ą┤ąĮąĄą╣. ąó. 2 / ą¤ąŠą┤ čĆąĄą┤. ąÆ. ąÉ. ąŚąŠą╗ąŠčéą░čĆąĄą▓ą░. ą£.: ą£ąŠčüą│ąŠčĆą░čĆčģąĖą▓, 1995. ąĪ. 5ŌĆō28.
9 ążą░ą┤ąĄąĄą▓ ąĀ.ąÉ. ąÆąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗąĄ čüąĖą╗čŗ ąĀąŠčüčüąĖąĖ. ąó. II: ąØą░čł ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╣ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü. ąÆąŠčüč鹊čćąĮčŗą╣ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ąÆ. ąÆ. ąÜąŠą╝ą░čĆąŠą▓ą░, 1889. ąĪ. 119.
10 ąĀčāčüčüą║ą░čÅ ą▓ąŠąĄąĮąĮą░čÅ čüąĖą╗ą░. ąÆčŗą┐. X. ą£.: ąóąĖą┐ąŠ&ąøąĖč鹊ą│čĆą░čäąĖčÅ ąś. ąØ. ąÜčāčłąĮąĄčĆąĄą▓ą░ ąĖ ąÜąŠ., 1889. ąĪ. 131.
11 ąÆąŠąĄąĮąĮą░čÅ čŹąĮčåąĖą║ą╗ąŠą┐ąĄą┤ąĖčÅ. ąó. IV / ą¤ąŠą┤ čĆąĄą┤. ąÆ.ąż. ąØąŠą▓ąĖčåą║ąŠą│ąŠ ąĖ ą┤čĆ. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ąó-ą▓ą░ ąś.ąö. ąĪčŗčéąĖąĮą░, 1911. ąĪ. 352.
12 ąØąŠą▓ąŠčĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą║ą░ą╗ąĄąĮą┤ą░čĆčī ąĮą░ 1855 ą│ąŠą┤. ąśąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąĀąĖčłąĄą╗čīąĄą▓čüą║ąŠą│ąŠ ąøąĖčåąĄčÅ. ą×ą┤ąĄčüčüą░: ąōąŠčĆąŠą┤čüą║ą░čÅ ąóąĖą┐., 1854. ąĪ. 269.
13 ąóąŠčéą╗ąĄą▒ąĄąĮ ąŁ.ąś. ą×ą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ą│. ąĪąĄą▓ą░čüč鹊ą┐ąŠą╗čÅ. ą¦. I. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ąØ. ąóąĖą▒ą╗ąĄąĮą░ ąĖ ąÜąŠą╝ą┐., 1863. 845 čü.
14 ąöąŠąĮąĄčüąĄąĮąĖąĄ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą░ą┤čŖčÄčéą░ąĮčéą░ ą║ąĮčÅąĘčÅ ąÉ.ąĪ.ą£ąĄąĮčłąĖą║ąŠą▓ą░ ąŠ ąĮą░čüčéčāą┐ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╝ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĖ ąŠčéčĆčÅą┤ą░ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéą░ ąøąĖą┐čĆą░ąĮą┤ąĖ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ ą╗ą░ą│ąĄčĆčÅ čüąŠčĹʹĮąĖą║ąŠą▓, ą┐čĆąĖą║čĆčŗą▓ą░čÄčēąĖčģ ą┤ąŠčĆąŠą│čā ąĖąĘ ąĪąĄą▓ą░čüč鹊ą┐ąŠą╗čÅ ą▓ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čā // ąöčāą▒čĆąŠą▓ąĖąĮ ąØ.ąż. ą£ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ą┤ą╗čÅ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ ąÜčĆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąĖ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąĪąĄą▓ą░čüč鹊ą┐ąŠą╗čÅ. ąÆčŗą┐. IV. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ąöąĄą┐ą░čĆčéą░ą╝ąĄąĮčéą░ čāą┤ąĄą╗ąŠą▓, 1872. ąĪ. 20ŌĆō22.
15 ąÉčĆą▒čāąĘąŠą▓ ąĢ.ąż. ąÆąŠčüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĮąĖčÅ ąŠ ą║ą░ą╝ą┐ą░ąĮąĖąĖ ąĮą░ ąÜčĆčŗą╝čüą║ąŠą╝ ą┐ąŠą╗čāąŠčüčéčĆąŠą▓ąĄ ą▓ 1854 ąĖ 1855 ą│ąŠą┤ą░čģ. // ąÆąŠąĄąĮąĮčŗą╣ čüą▒ąŠčĆąĮąĖą║. 1874. Ōä¢ 4. ąĪ. 397ŌĆō398.
16 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąĪ. 399.
17 ąóą░ą╝ ąČąĄ.
18 ąĪčāąĖčéą╝ą░ąĮ ąö., ą£ąĄčĆčüąĄčĆ ą¤. ąÜčĆčŗą╝čüą║ą░čÅ ą▓ąŠą╣ąĮą░. ąæčĆąĖčéą░ąĮčüą║ąĖą╣ ą╗ąĄą▓ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ čĆčāčüčüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čÅ / ą¤ąĄčĆ. čü ą░ąĮą│ą╗. ąÉ. ąÜąŠą╗ąĖąĮą░. ą£.: ąŁą║čüą╝ąŠ, 2011. ąĪ. 42.
19 ąźąĖą▒ą▒ąĄčĆčé ąÜ. ąÜčĆčŗą╝čüą║ą░čÅ ą║ą░ą╝ą┐ą░ąĮąĖčÅ 1854ŌĆō1855 ą│ą│. ąóčĆą░ą│ąĄą┤ąĖčÅ ą╗ąŠčĆą┤ą░ ąĀą░ą│ą╗ą░ąĮą░ / ą¤ąĄčĆ. čü ą░ąĮą│ą╗. ąø.ąÉ. ąśą│ąŠčĆąĄą▓čüą║ąŠą│ąŠ. ą£.: ą”ąĄąĮčéčĆą┐ąŠą╗ąĖą│čĆą░čä, 2004. ąĪ. 162.
20 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąĪ. 164.
21 ąĪčāąĖčéą╝ą░ąĮ ąö., ą£ąĄčĆčüąĄčĆ ą¤. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 70ŌĆō81.
22 ą×čéčĆčŗą▓ąŠą║ ąĖąĘ čüąŠčćąĖąĮąĄąĮąĖą╣ ąÜąĖąĮą│ą╗菹║ą░ ąŠ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖąĖ ą┐ąŠą┤ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓ąŠčÄ // ąöčāą▒čĆąŠą▓ąĖąĮ ąØ.ąż. ą£ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ą┤ą╗čÅ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ ąÜčĆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąĖ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąĪąĄą▓ą░čüč鹊ą┐ąŠą╗čÅ. ąÆčŗą┐. IV. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ąöąĄą┐ą░čĆčéą░ą╝ąĄąĮčéą░ čāą┤ąĄą╗ąŠą▓, 1872. ąĪ. 88.
23 ąźąĖą▒ą▒ąĄčĆčé ąÜ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 164.
24 ąĪčāąĖčéą╝ą░ąĮ ąö., ą£ąĄčĆčüąĄčĆ ą¤. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 79.
25 ąóčĆčāą▒ąĄčåą║ąŠą╣ ąÉ. ąÜčĆčŗą╝čüą║ą░čÅ ą▓ąŠą╣ąĮą░. ą£.: ąøąŠą╝ąŠąĮąŠčüąŠą▓, 2010. ąĪ. 162.
26 ąÆąŠčüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĮąĖčÅ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą│ąŠ čüąŠą╗ą┤ą░čéą░ ąŠ čüą╗čāąČą▒ąĄ ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąÜčĆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ, ąĮą░ą┐ąĖčüą░ąĮąĮčŗąĄ ąōą░čĆčĆąĖ ą¤ą░čā菹╗ą╗ąŠą╝ ąĖąĘ ą▒čŗą▓čłąĄą│ąŠ 13-ą│ąŠ ą╗ąĄą│ą║ąŠą│ąŠ ą┤čĆą░ą│čāąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░ // Military ąÜčĆčŗą╝: ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąČčāčĆąĮą░ą╗. Ōä¢ 24. 2013. ąĪ. 21.
27 ąæčĆąĖą║čü ąō. ąśčüč鹊čĆąĖčÅ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ. ąÜąĮ. 2 / ą¤ąĄčĆ. čü ąĮąĄą╝. ąĢ.ąÉ. ąĀą░čāčł č乊ąĮ ąóčĆą░čāą▒ąĄąĮą▒ąĄčĆą│ą░. (ą¤ąĄčćą░čéą░ąĄčéčüčÅ ą┐ąŠ ąĖąĘą┤ą░ąĮąĖčÄ: ąöąĄąĮąĖčüąŠąĮ ąöąČ. ąśčüč鹊čĆąĖčÅ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ. ąĪą¤ą▒., 1897.) ą£.: ACT, 2001. ąĪ. 255ŌĆō256.
28 Raugh H.E. The Victorians At War, 1815ŌĆō1914: An Encyclopedia of British Military History. 2004. P. 209.
29 ąöąŠąĮąĄčüąĄąĮąĖąĄ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą░ą┤čŖčÄčéą░ąĮčéčā ą║ąĮčÅąĘčÄ ą£ąĄąĮčłąĖą║ąŠą▓čā ąØą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ą░ 12-ą╣ ą┐ąĄčģąŠčéąĮąŠą╣ ą┤ąĖą▓ąĖąĘąĖąĖ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéą░ ąøąĖą┐čĆą░ąĮą┤ąĖ, ąŠčé 14-ą│ąŠ ąŠą║čéčÅą▒čĆčÅ Ōä¢ 3,076 // ąĪąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ ą┤ąŠąĮąĄčüąĄąĮąĖą╣ ąŠ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅčģ ąĖ ą┤ąĖą┐ą╗ąŠą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą▒čāą╝ą░ą│ ąĖ ą░ą║č鹊ą▓, ąŠčéąĮąŠčüčÅčēąĖčģčüčÅ ą┤ąŠ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ 1853, 1854, 1855 ąĖ 1856 ą│ąŠą┤ąŠą▓. ąĪą¤ą▒.: ąÆąŠąĄąĮąĮą░čÅ čéąĖą┐ąŠą│čĆą░čäąĖčÅ, 1858. ąĪ. 236ŌĆō238.
30 ą× čüčĆą░ąČąĄąĮąĖąĖ ą┐ąŠą┤ ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓ąŠą╣ (ąĘą░ą┐ąĖčüą║ą░ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗&ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéą░ ąĀčŗąČąŠą▓ą░) // ąöčāą▒čĆąŠą▓ąĖąĮ ąØ.ąż. ą£ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ą┤ą╗čÅ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ ąÜčĆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąĖ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąĪąĄą▓ą░čüč鹊ą┐ąŠą╗čÅ.ąÆčŗą┐. IV. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ąöąĄą┐ą░čĆčéą░ą╝ąĄąĮčéą░ čāą┤ąĄą╗ąŠą▓, 1872. ąĪ. 78.
31 ąæąŠčĆąĖčüąĄą▓ąĖčć ąÉ.ąó. ąśčüč鹊čĆąĖčÅ 30&ą│ąŠ ą┤čĆą░ą│čāąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąśąĮą│ąĄčĆą╝ą░ąĮą╗ą░ąĮą┤čüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░ 1704ŌĆō1906. ą¦. ąåąå. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ┬½ąæąĄčĆąĄąČą╗ąĖą▓ąŠčüčéčī┬╗, 1906. ąĪ. 168ŌĆō169.
32 ąÜčāčģą░čĆčāą║ ąÉ.ąÆ. ąæąŠą╗čīčłąĖąĄ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖąĄ ą╝ą░ąĮąĄą▓čĆčŗ 1837 ą│ąŠą┤ą░ ą┐ąŠą┤ ą│. ąÆąŠąĘąĮąĄčüąĄąĮčüą║ąŠą╝ ą▓ ą║ąŠąĮč鹥ą║čüč鹥 ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąĖ ąĮąĖą║ąŠą╗ą░ąĄą▓čüą║ąŠą╣ ąĀąŠčüčüąĖąĖ // ąÆąĄą╗ąĖčćąĖąĄ ąĖ čÅąĘą▓čŗ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖą╝ą┐ąĄčĆąĖąĖ: ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗą╣ ąĮą░čāčćąĮčŗą╣ čüą▒ąŠčĆąĮąĖą║ ą║ 50-ą╗ąĄčéąĖčÄ ą×.ąĀ. ąÉą╣čĆą░ą┐ąĄč鹊ą▓ą░ / ąĪąŠčüčé. ąÆ.ąæ. ąÜą░čłąĖčĆąĖąĮ. ą£.: ąśąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüą║ąĖą╣ ą┤ąŠą╝ ┬½ąĀąĄą│ąĮčāą╝┬╗, 2012. ąĪ. 111ŌĆō120.
33 ąÜčāą┤čĆčÅą▓čåąĄą▓ą░ ąØ., ąĀčāąĘą░ąĄą▓ ąÆ., ąĀąĖą▒ą░ą╗ą║ą░ ąÆ. ąæą░ą╗ą░ą║ą╗ą░ą▓čüčīą║ą░ ą▒ąĖčéą▓ą░ ąÜčĆąĖą╝čüčīą║ąŠčŚ ą▓č¢ą╣ąĮąĖ (1853ŌĆō1856): ą┐č¢ą┤čüčāą╝ą║ąĖ, čāčĆąŠą║ąĖ // ąÜčĆąĖą╝čüčīą║ą░ ą▓č¢ą╣ąĮą░: č¢čüč鹊čĆč¢čÅ čéą░ čāčĆąŠą║ąĖ 1853ŌĆō1856 čĆčĆ.: ąØą░čāą║ąŠą▓ąĖą╣ ąĘą▒č¢čĆąĮąĖą║. ą£ą░č鹥čĆč¢ą░ą╗ąĖ ą£č¢ąČąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠčŚ ąĮą░čāą║ąŠą▓ąŠčŚ ą▓č¢ą╣čüčīą║ąŠą▓ąŠ-č¢čüč鹊čĆąĖčćąĮąŠčŚ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåč¢čŚ, 27ŌĆō29 ą▓ąĄčĆąĄčüąĮčÅ 2013 čĆąŠą║čā ą╝č¢čüč鹊 ąĪąĄą▓ą░čüč鹊ą┐ąŠą╗čī. ąÜ.: ąØąÆąåą£ąŻ, 2013. ąĪ. 274ŌĆō279

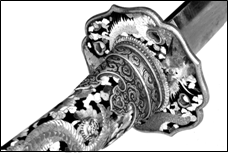

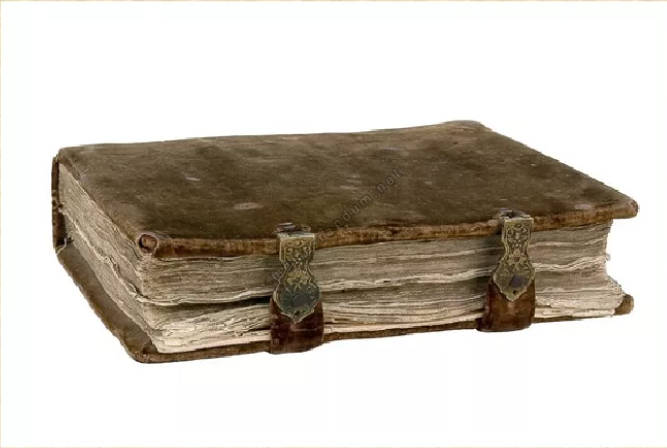
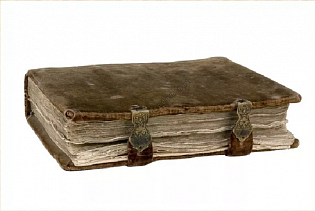

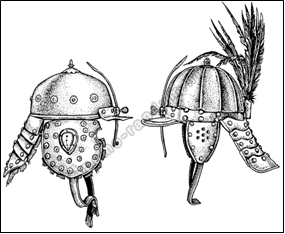

ąÜąŠą╝ą╝ąĄąĮčéą░čĆąĖąĖ