–Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є –≤ –±–Є—В–≤–µ –њ—А–Є –Ь–Њ–ї–Њ–і—П—Е, –Ъ–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–Є–љ –Ш.–Т. (–Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—М)
–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –І–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 15вАУ17 –Љ–∞—П 2013 –≥–Њ–і–∞
–І–∞—Б—В—М II–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥
–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2013
¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2013
¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2013
–С–Ш–Ґ–Т–Р –њ—А–Є –Ь–Њ–ї–Њ–і—П—Е (–Ь–Њ–ї–Њ–і–µ—Е) вАУ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є XVI –≤. –Ю–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ (–Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ) —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ–Є–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ –±–Њ—П вАУ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Н–њ–Њ—Е–Є. –Ю–±—А–∞–Ј–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –±–Є—В–≤–∞ –њ—А–Є –Ь–Њ–ї–Њ–і—П—Е —В–∞–Ї –ґ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –±–∞—В–∞–ї–Є–є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П, –Ї–∞–Ї, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–µ–Љ–ї—М –Њ—В –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤ –•–Њ—В–Є–љ –Є–ї–Є –Ъ—Г—А–µ—Б—Б–∞–∞—А–µ.
–Я–Њ—Б—В–∞—А–∞–µ–Љ—Б—П –њ–Њ—П—Б–љ–Є—В—М —Н—В—Г –Љ—Л—Б–ї—М. –°–∞–Љ —Е–Њ–і —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–і–µ—В —А–µ—З—М, –љ–µ–Њ–±—Л—З–µ–љ вАУ –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є—Е –±–Є—В–≤, –≤—Б—П –±–∞—В–∞–ї–Є—П —А–∞—Б–њ–∞–і–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ—Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤¬ї. –Я—А–Є—З–µ–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Њ–±–µ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Є–Љ–µ—О—В –љ–µ–Ї–Њ–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ вАУ –≤–Ј—П—В–Є–µ (–Њ–±–Њ—А–Њ–љ–∞) —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ вАУ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л.
–†–µ—И–∞—О—Й—Г—О —А–Њ–ї—М –Є–≥—А–∞–µ—В –љ–µ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Б–Є–ї, –∞ –Ј–∞—Е–≤–∞—В —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤—Л. –Т —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –≤—Б—П —В–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ –љ–Њ—Б–Є—В –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Э–∞–ї–Є—Ж–Њ –Њ—В–≤–ї–µ–Ї–∞—О—Й–Є–є –Љ–∞–љ–µ–≤—А, —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—Б—Л –≤–Њ–є—Б–Ї –Є —В. –њ. –Я—А–Є—З–µ–Љ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–µ–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–Њ—Б–Є–ї–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л, –∞ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ъ—А—Л–Љ—Ж–µ–≤ вАУ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—П. –І—В–Њ –ґ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –≤ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –±–Њ—П?
–Я–µ—А–≤—Л–Љ –Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ —А–µ—И–∞—О—Й–Є–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–Њ–ї–µ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –°—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–ї–Њ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤—Л—В–µ—Б–љ–Є—В—М –µ–µ —Б –њ–Њ–ї—П –±–Њ—П –µ—Й–µ –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ. –≠—В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —А—П–і —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤: –≥—А–Њ–Љ–Њ–Ј–і–Ї–Њ—Б—В—М —Д–Є—В–Є–ї—М–љ—Л—Е –Љ—Г—И–Ї–µ—В–Њ–≤ –Є –њ–ї–Њ—Е–∞—П –њ—А–Є—Ж–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ–≥–љ—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–∞–Љ –Љ—Г—И–Ї–µ—В–µ—А –љ—Г–ґ–і–∞–ї—Б—П –≤ –Ј–∞—Й–Є—В–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XVIвАУXVII –≤–≤. —П–≤–ї—П–ї–Њ —Б–Њ–±–Њ–є –њ–µ—Б—В—А—Г—О —Б–Љ–µ—Б—М –Є–Ј –Њ—В–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є—П, –±—А–Є–≥–∞–љ–і—Б–Ї–Є—Е –±–∞–љ–і –Є –љ–Њ–≤–µ–є—И–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –Є —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–љ–Њ–≤.
–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л, —Е–Њ–і –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –Ь–Њ–ї–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј—Г—З–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤. –Э–∞—З–Є–љ–∞—П —Б —Н–њ–Њ—Е–Є –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ–∞ –Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—П —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ–Є —Г—З–µ–љ—Л–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є –Ї–∞–Ї –°.–Ь. –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ –Є –Э.–Ш. –Ъ–Њ—Б—В–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤, –≤ –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —Г—З–µ–љ—Л–µ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є 1572 –≥. –Є –і–∞–≤–∞–ї–Є –Є–Љ —Б–≤–Њ—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г. –Ф–∞–љ–љ–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Є –≤–≤–µ–ї–Є –≤ –љ–∞—Г—З–љ—Л–є –Њ–±–Њ—А–Њ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –µ—Й–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIX –≤. –Ь–Њ–ї–Њ–і–Є–љ—Б–Ї—Г—О –±–Є—В–≤—Г –Є–Ј—Г—З–∞–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ–і–Є–µ–≤–Є—Б—В—Л –Ї–∞–Ї –Т.–Т. –Ъ–∞—А–≥–∞–ї–Њ–≤, –Т.–Ш. –С—Г–≥–∞–љ–Њ–≤, –†.–У. –°–Ї—А—Л–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ф.–Э. –Р–ї—М—И–Є—Ж. –≠—В–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В—М —В–∞–Ї–Є–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г –Ї–∞–Ї –Т.–Р. –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –Є –Т.–Т. –Я–µ–љ—Б–Ї–Њ–є.
–С–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ, —З—В–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –Ь–Њ–ї–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –°–Њ–±—Л—В–Є—П –≤–µ—Б–љ—Л 1572 –≥. –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П—В –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–µ —Б–≤–Њ–і—Л –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є: –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–Њ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є, –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Я–Є—Б–Ї–∞—А–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ 2-—П –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–∞—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –Є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П ¬Ђ–Я–Њ–≤–µ—Б—В—М –Њ –±–Њ—О –≤–Њ–µ–≤–Њ–і –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б –љ–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ —Е–∞–љ–Њ–Љ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Т.–Ш. –С—Г–≥–∞–љ–Њ–≤–∞, –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –і–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є. –Т.–Ш. –С—Г–≥–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ –±—Л–ї–Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –Є –њ—П—В—М –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –†–∞–Ј—А—П–і–љ–Њ–≥–Њ –Є –Я–Њ—Б–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –Ь–Њ–ї–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤—Л. –≠—В–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–µ –Ь.–Ш. –Т–Њ—А–Њ—В—Л–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –µ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≥—А–∞–Љ–Њ—В–∞ –Ф–µ–≤–ї–µ—В-–У–Є—А–µ—П –Ш–≤–∞–љ—Г IV. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –Ь–Њ–ї–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ –Є –≤ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –У. –®—В–∞–і–µ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ї–Є—З–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є.
–Ш —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ–±–Є–ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–±–µ–ї—Л, –љ–µ –і–∞—О—Й–Є–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤–µ—Б–љ—Л 1572 –≥.
–Э–∞ –љ–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Љ–µ–ґ–і—Г –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П—Е, –љ–Њ –Є –≤ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Т–Њ—А–Њ—В—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ; –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П—О—В –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е, –љ–µ —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—П –Є—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є. –†–∞–Ј–љ–Њ—И–µ—А—Б—В–љ–∞—П —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–∞—П –Њ—А–і–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –љ–Є–≤–µ–ї–Є—А—Г–µ—В—Б—П —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ ¬Ђ–њ–Њ–Љ–µ—Б—В–љ–∞—П –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞¬ї, —З—В–Њ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –≤–µ–і–µ—В –Ї –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Є –≤—Б–µ–є —Н–њ–Њ—Е–Є. –Э–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М –Њ–і–Є–љ –ї–Є—И—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –і–∞—В—М —В–Њ—З–љ—Л–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–∞—Б–Ї–ї–∞–і –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Є—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ —З–µ—А—В—Л –Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є.
–Ф–ї—П –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ—Л –Њ–±—Й–µ–њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–∞–≤–љ–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –љ–∞—Г—З–љ—Л–є –Њ–±–Њ—А–Њ—В. –У–ї–∞–≤–љ–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Н—В–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–µ —Г–ґ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤, –∞ –љ–µ –≤ –Њ—В—Л—Б–Ї–Є–≤–∞–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е ¬Ђ—Н–ї—М–і–Њ—А–∞–і–Њ¬ї. –≠—В–Њ, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–µ ¬Ђ–£–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ 1556 –≥–Њ–і–∞¬ї, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П ¬Ђ–С–Њ—П—А—Б–Ї–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞¬ї, —П–≤–ї—П—О—Й–∞—П—Б—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —П—А–Ї–Њ–є –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–µ–є —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–≤–∞—А–і–Є–Є –Ш–≤–∞–љ–∞ IV. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –±—Л–ї–Є –Ј–∞–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ—Л –Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–µ–≤, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XV –≤. (–Ш–Њ—Б–∞—Д–∞—В –С–∞—А–±–∞—А–Њ) –Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—П ¬Ђ—Б–Љ—Г—В–љ—Л–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ¬ї (–Ц–∞–Ї –Ь–∞—А–ґ–µ—В–µ). –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –°–Є–≥–Є–Ј–Љ—Г–љ–і–∞ –У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ–∞ –Є –Ь–∞—А–Ї–Њ –§–Њ—Б–Ї–∞—А–Є–љ–Є –Ї–∞–Ї –ї—О–і–µ–є, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е —Б –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ, –љ–Њ –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л—Е –≤–љ–Є–Ї–∞—В—М –≤ –µ–≥–Њ —Б—Г—В—М.
–°–Њ–±—Л—В–Є—П XIV –≤. –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї–Є –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–ї–∞–љ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ–†—О—А–Є–Ї–Њ–≤–Є—З–µ–є¬ї. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ —Г–ґ–µ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В. –Э–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П. –°–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XV вАУ
–≤—В–Њ—А–Њ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є XVI –≤–≤. –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М —Б —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–µ–є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Є–ї—М–љ–∞—П —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М —Г–ґ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—В—М –Љ–∞–≥–љ–∞—В—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–µ, –љ–Њ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б–Є–ї—М–љ–∞, —З—В–Њ–±—Л —Б–ї–Њ–Љ–∞—В—М –µ–є —Е—А–µ–±–µ—В.
–Я–µ—А–µ–Љ–µ–љ—Л, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –±—Л–ї–Є —В–Є–њ–Є—З–љ—Л –і–ї—П –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Х–≤—А–Њ–њ—Л: –±—Г—А–љ–Њ —И–µ–ї –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–Њ–ї–Є–і–∞—Ж–Є–Є. –Ь–Њ—Й–љ—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–Ї–Є –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–≤–∞–ї–Њ —Б–µ–ї–Њ вАУ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є —Д–µ–Њ–і–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г XIV –≤. –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–і–∞–µ—В –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Т —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—В—М—Б—П —Б–µ–Ј–Њ–љ–љ—Л–є –љ–∞–є–Љ. –Т –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Т—Б–µ —Н—В–Є —Д–∞–Ї—В–Њ—А—Л —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤—Л—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—Б –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П. –Ю–±–Є–ї–Є–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Г–Ј–∞–Љ–Є —Ж–µ—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П, –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ї–Ї–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є –≤ –љ–µ–≤–Є–і–∞–љ–љ—Л—Е –і–Њ—Б–µ–ї–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞—Е –њ–Њ–і—А—Л–≤–∞–ї–Њ —Б–∞–Љ—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л —Д–µ–Њ–і–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞.
–Т XV –≤. —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤ –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ –і–≤–∞ –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞; –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Ы–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –†—Г—Б–Є (–Ґ–≤–µ—А—М, –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –†—П–Ј–∞–љ—М).
–Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –†—Г—Б–Є, –Ї–∞–Ї –Є –Ы–Є—В–≤—Л –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –љ–µ –±—Л–ї–∞ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М—О —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є. –Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Ј–і–µ—Б—М –≤ –∞—А—Е–∞–Є—З–љ—Л—Е, –љ–µ—А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї–Њ—Б—М –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Њ–µ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–Њ, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —Б —Ж–µ—Е–Њ–Љ (–љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –†—Г—Б–Є, –≤ –Ы–Є—В–≤–µ –Є –Ь–Њ–ї–і–∞–≤–Є–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л–Љ —Б–ї–∞–±–Њ). –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–Є –Є –њ—А–Њ—Б–ї–Њ–є–Ї–Є, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ–Њ–є –Є –љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є –Є–ї–Є –ї–Є—З–љ–Њ–є –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –±—Л–ї–Є –љ–∞–ї–Є—Ж–Њ.
–Ю—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –Є –Њ–њ–Њ—А–Њ–є —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ. –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–Љ –≤–Њ–Є–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—Л—Ж–∞—А—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–∞–Љ–Њ —А—Л—Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ї—А–∞–є–љ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –Т–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Г–љ–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–Њ—А–∞–ї–Є, —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ –≥—Г—Б–∞—А–∞—Е. –І–∞—Б—В—М —А—Л—Ж–∞—А—Б—В–≤–∞, –≤ —Б–Ї—А—Л—В–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ, –Є—Б–Ї–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Б–≤–Њ–є –Љ–µ—З –њ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–µ, —З–∞—Б—В—М, –≥–Њ—А–і–∞—П –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ, –і–Њ–≥–љ–Є–≤–∞–ї–∞ –≤ —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М—П—Е, –љ–µ –≥–љ—Г—И–∞—П—Б—М —А–∞–Ј–±–Њ–µ–Љ –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ.
–°–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ —Д–µ–Њ–і–∞–ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ, —З—В–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Њ–њ–µ—А–µ—В—М—Б—П –љ–Є –љ–∞ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –µ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–Њ–≤. –Ч–∞—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–Љ—Г—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—О —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Њ–њ–Њ—А–∞.
–°—Г–і—П –њ–Њ –і–Њ—И–µ–і—И–Є–Љ –і–Њ –љ–∞—Б –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ –Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ XV –≤. –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ вАУ —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ XвАУXIV –≤–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–µ—Б—М —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В –≤–Њ–є–љ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Х–≤—А–∞–Ј–Є–Є —З–µ—В–Ї–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В вАУ –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є–µ, –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–Њ–≤—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—В—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–µ.
–Ю–Ї–Њ–ї–Њ 1550 –≥. –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В—Б—П —Б—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є. –°–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —Д–Є—В–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г—И–Ї–µ—В–∞ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—М—О –љ–µ –±—Л–ї–Є, –љ–Њ
–≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л —Б–Ї–Њ–ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—Г—В–µ–Љ –љ–∞–є–Љ–∞. –Т —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В—Б—В–∞–ї–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –і–ї—П –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Л—И–µ, —А–∞–Ј–≤–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–ї–Њ–Є –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤ –Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Ж–µ–≤, —З—В–Њ –Є –Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—О—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XVI –≤.
–°—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є, –љ–Њ –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–µ—Б–Њ–Љ —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ —Г–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Є –±–Њ—П—А. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Њ–њ–Є—А–∞—В—М—Б—П –љ–∞ ¬Ђ–Љ—Г–ґ–Є–Ї–∞¬ї (–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –µ—Й–µ –і–Њ–ї–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В–Њ–Љ —А—Л—Ж–∞—А—П). –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –∞—А–Љ–Є–Є —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є–Љ–µ—О—В, –≤ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є, –њ—А–Є—З—Г–і–ї–Є–≤—Л–є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥—А–∞–љ–љ—Л–є –Њ–±–ї–Є–Ї.
–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Є–Ј –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ —А—Г–±–µ–ґ–∞ XVвАУXVI –≤–≤., –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є —П–љ—Л—З–∞—А–∞¬ї, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Б—З–Є—В–∞—О—В, –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–Љ –Ю—Б—В—А–Њ–ґ–µ—Ж—Б–Ї–Є–Љ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XV –≤.1 –Р–≤—В–Њ—А –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П–µ—В –≤–Є–і—Л –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ (—Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —А—Л—Ж–∞—А—Б—В–≤–∞) –≤–Њ–є—Б–Ї–∞: –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Є ¬Ђ–∞–Ї–∞–љ–і–Є–µ¬ї вАУ –љ–∞–±–Є—А–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Є —Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –љ–∞ —Б–≤–Њ–є –Ї–Њ—И—В; ¬Ђ—Б–Ї–∞—А–∞—Е–Њ—А—Л¬ї (¬Ђ—В–Њ, —З—В–Њ —Г –љ–∞—Б —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л¬ї) вАУ –љ–∞–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј ¬Ђ–і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л—Е –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї (–≤–Є–і–Є–Љ–Њ –Є–Ј —В–µ—Е –ґ–µ –∞–Ї–∞–љ–і–Є–µ), —П–≤–ї—П—П—Б—М –њ–Њ –њ—А–Є–Ј—Л–≤—Г –Њ—А—Г–ґ–љ–Њ, —Б —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В–Њ–є; ¬Ђ–Љ–∞—А—В–∞–ї–Њ—Б—Л¬ї (–Њ—В –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–∞—А–Љ–∞—В–Њ–ї—Л¬ї), –њ–Њ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ—Г, –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ: ¬Ђ—Б–ї—Г–ґ–±–∞ –Є—Е –і–ї–Є—В—Б—П —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—В. –°–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–љ–Є –Є–Љ–µ—О—В —В–∞–Ї–Њ–µ –ґ–µ, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞—А–∞—Е–Њ—А—Л, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ —Е–Њ—З–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ, —В–Њ —Н—В–Њ –µ–≥–Њ –і–µ–ї–Њ¬ї.
–≠—В–Є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –ї–µ–≥–Ї—Г—О –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—О. –Э–Њ –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Є—Е –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О —А–Њ–ї—М, —П–і—А–Њ–Љ –Њ—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞ вАУ —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є–µ (–Є—Е –і–≤–∞: –†—Г–Љ–µ–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–µ) –Ї—Г–і–∞ –≤—Е–Њ–і—П—В –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Є —А—Л—Ж–∞—А–µ–є (—Б–њ–∞—Е–Є—П). –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є ¬Ђ–≤–Њ–є–љ—Г–Ї–Њ–≤¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥–Є –њ—А–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–µ.
¬Ђ–ѓ–љ—Л—З–∞—А—Л¬ї, –љ–∞–±–Є—А–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Є–Ј —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –≥–≤–∞—А–і–Є—О (–Њ–Ї–Њ–ї–Њ 4 —В—Л—Б. —З–µ–ї.). –Я–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—О —П–љ—Л—З–∞—А—Л —А–∞–Ј–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –љ–∞ –ї—Г—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ—Г—И–Ї–∞—А–µ–є, –Љ—Г—И–Ї–µ—В–µ—А–Њ–≤ –Є –∞—А–±–∞–ї–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤. –Т –±–Њ—О —П–љ—Л—З–∞—А—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –њ–µ—Е–Њ—В–∞. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –њ–µ—Е–Њ—В–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є–Ј ¬Ђ–∞–Ј–∞–њ–Њ–≤¬ї, –љ–∞–±–Є—А–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Є–Ј –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ. –≠—В–Є–Љ –ґ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л.
–Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XV вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVI –≤–≤. –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —А–∞–±–Њ—В–µ –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞ –Я–∞–Њ–ї–Њ –Ф–ґ–Њ–≤–Є–Њ, –і–∞–≤—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї—Г —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –Ъ–∞—А–ї–∞ VIII2. –Ю—Б–љ–Њ–≤—Г —Н—В–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–µ —А—Л—Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ, —П–≤–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г ¬Ђ–Ї–Њ–љ–љ–Њ, –ї—О–і–љ–Њ, –Њ—А—Г–ґ–љ–Њ¬ї. –Ы–µ–≥–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –Ї–Њ–љ–љ—Л–µ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є –Є–Ј –ї—Г–Ї–Њ–≤. –Я–µ—Е–Њ—В–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є–Ј –∞—А–Ї–µ–±—Г–Ј–Є—А–Њ–≤ –Є –≥–∞—Б–Ї–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –∞—А–±–∞–ї–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П, –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Њ –њ–Њ–±–µ–і—Г —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–љ—Л. –≠—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Є –љ–∞–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–µ–љ!
–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –і–≤—Г—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ –Є–Љ–µ–ї–Є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ, —Б –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –ї–µ–≥–Ї–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ—Л–Љ–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–µ–є –≤ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ (–≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ) —Г–Ї–ї–∞–і–µ.
–Ъ–∞–Ї –ґ–µ –љ–∞–±–Є—А–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVI –≤–µ–Ї–∞?
–†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –Т–Њ—А–Њ—В—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї3. –С—А–Њ—Б–∞–µ—В—Б—П –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ —Б–∞–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ вАУ –Њ–љ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ—Л–є! –Т–Њ–Є–љ—Л –і–µ–ї—П—В—Б—П –љ–µ –њ–Њ –≤–Є–і—Г –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є –љ–µ –њ–Њ —А–Њ–і—Г –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –∞ –њ–Њ –Є—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Б—В–∞—В—Г—Б—Г.
–Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ –≤—Л–і–µ–ї—П—О—В—Б—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є вАУ –≤—Л—Б—И–∞—П —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–∞—П –Ј–љ–∞—В—М (–Ї–љ—П–Ј—М—П, –±–Њ—П—А–µ, –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–Є), —А—Л—Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ (¬Ђ–і–µ—В–Є –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є–µ¬ї), —Б—В—А–µ–ї—М—Ж—Л, –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є, –љ–∞–µ–Љ–љ–Є–Ї–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г –Љ—Г—И–Ї–µ—В–µ—А–Њ–≤, —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є –і–µ–ї—П—В—Б—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Б—В—А–µ–ї—М—Ж—Л¬ї, ¬Ђ–Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є —Б –њ–Є—Й–∞–ї—П–Љ–Є¬ї, ¬Ђ–љ–µ–Љ—Ж—Л —Б –њ–Є—Й–∞–ї—П–Љ–Є¬ї вАУ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–ї–Є—Ж–Њ.
–Я—А–Є—З–µ–Љ —А—Л—Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б—В–∞—В—Г—Б–Њ–Љ; –≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г –≤—Л—П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є ¬Ђ–і–µ—В–µ–є –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є—Е¬ї вАУ –≤–∞—Б—Б–∞–ї—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є—Е (–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є), –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б—О–Ј–µ—А–µ–љ–∞–Љ–Є, –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є–µ —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є-–ї–Є–±–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є (¬Ђ–≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є¬ї). –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, —Н—В–Њ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–µ –≤–∞—Б—Б–∞–ї—Л –Є –∞—А—М–µ—А–≤–∞—Б—Б–∞–ї—Л, —Б—Г–і—П –њ–Њ —В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ ¬Ђ–≥–Њ–ї–Њ–≤—Л¬ї –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ—Л –љ–µ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ—В—А—П–і–∞—Е, –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ –і–µ–ї–Њ —Б –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–µ–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –њ–Њ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –Я–Њ–ї–Ї—Г: ¬Ђ3 –±–Њ—П—А–Є–љ–Њ–Љ –Є –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–Њ—О —Б–Њ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Т–Њ—А–Њ—В—Л–љ—Б–Ї–Є–Љ: –і–µ—В–µ–є –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є—Е –≤—Л–±–Њ—А–љ—Л—Е 40 —З–µ–ї., –≤—П–Ј–Љ–Є—З 180 —З–µ–ї., —Б—Г–Ј–і–∞–ї—М—Ж–Њ–≤ 210 —З–µ–ї., —А–ґ–µ–≤–Є—З 200 —З–µ–ї., –Ј—Г–±—Ж–Њ–≤–ї—П–љ 60 —З–µ–ї., –®–Њ–ї–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –њ—П—В–Є–љ—Л 300 —З–µ–ї.¬ї4.
–Ш —В—Г—В –ґ–µ –љ–Є–ґ–µ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П–µ—В—Б—П —З–Є—Б–ї–Њ ¬Ђ–і–µ—В–µ–є –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є—Е¬ї, –љ–Њ —В—Г—В —З–µ—В–Ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є: –Ї–Њ–ї–Њ–Љ–љ–Є—З–Є 170 —З–µ–ї., –Є—Е –≤–µ–і–µ—В ¬Ђ–Ї–љ—П–Ј—М –Т–∞—Б–Є–ї–µ–є –Ь–µ–љ—М—И–Њ–є –Ї–љ—П–ґ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ —Б—Л–љ –Ъ—А–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї, –Ї–Њ—И–Є—А—П–љ–µ 430 —З–µ–ї, (–Ш–≤–∞–љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤ —Б—Л–љ –С—Г—В—Г—А–ї–Є–љ), –Љ–µ—Й–∞–љ–µ 150 —З–µ–ї. (–Ф–Љ–Є—В—А–µ–є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤ —Б—Л–љ –Ч–∞–Љ—Л—В—Ж–Ї–Њ–≥–Њ), —З–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤—Ж–Њ–≤—Л 100 —З–µ–ї. (–≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –§–µ–і–Њ—А–Њ–Љ –Э–∞–≥–Њ–≤–Њ), –њ—А–Є—З–µ–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ: ¬Ђ–∞ –≤ –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤–µ –Њ—Б–∞–і—З–Є–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–Є¬ї. –Т–∞—Б—Б–∞–ї—Л —Ж–µ—А–Ї–≤–Є (¬Ђ—Б –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Є —Б–Њ –≤–ї–∞–і—Л–Ї¬ї) —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–і—Г—В –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л —Г –љ–Є—Е —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л, —З—В–Њ –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є–є —В–µ–Ј–Є—Б.
–Я–Њ–ї–Ї –Я—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Є —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Ј –≤–∞—Б—Б–∞–ї–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ (–Ю–і—Г–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤–∞) —Б –њ—А–Є–і–∞–љ—Л–Љ –Є–Љ –Њ—В—А—П–і–Њ–Љ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Ф–Њ–ї–≥–Њ—А—Г–Ї–Њ–≤–∞, —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –Є–Ј –µ–≥–Њ –≤–∞—Б—Б–∞–ї–Њ–≤. –Ґ–∞ –ґ–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –Є –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–∞—Е.
–•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ —Б—В—А–µ–ї—М—Ж—Л –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –љ–µ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–ї–Ї–∞—Е, –Є—Е –љ–µ—В –≤ –Ы–µ–≤–Њ–є –†—Г–Ї–µ, –Є –°—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤–Њ–Љ –Я–Њ–ї–Ї—Г, —В–∞–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є —Б –њ–Є—Й–∞–ї—П–Љ–Є. –°—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –Є —Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ —Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є.
–Ю—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ вАУ –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —Б–њ–Є—Б–Ї–∞—Е –Њ–љ–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞, –∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–∞ ¬Ђ–≤ –љ–∞–Ї–∞–Ј–µ –Т–Њ—А–Њ—В—Л–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г¬ї, –Ї–∞–Ї ¬Ђ–љ–∞—А—П–і¬ї, —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥–Є —В–Њ–ґ–µ –љ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ (–Њ–љ–∞ –њ–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –Ї ¬Ђ–Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤—Л–Љ¬ї).
–Т–Њ–є—Б–Ї–Њ, –њ—А–Є—И–µ–і—И–µ–µ –љ–∞ –Ю–Ї—Г –≤ –Є—О–ї–µ 1572 –≥., –±—Л–ї–Њ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ. –І–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —В–Њ—З–љ–Њ: –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞ (—Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є–µ) вАУ 12 999 —З–µ–ї., –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є вАУ –і–Њ 1300 —З–µ–ї., –Ї–Њ–љ–љ—Л–µ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є (–Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є) вАУ 500 —З–µ–ї., –Љ—Г—И–Ї–µ—В–µ—А—Л вАУ 4235 —З–µ–ї., –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б—В—А–µ–ї—М—Ж—Л вАУ 2035 —З–µ–ї., –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є вАУ 2300 —З–µ–ї., –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –љ–∞–µ–Љ–љ–Є–Ї–Є вАУ –≤–Є–і–Є–Љ–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞, –њ–µ—Е–Њ—В–Є–љ—Ж—Л (–љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –ї–∞–љ–і—Б–Ї–љ–µ—Е—В—Л) вАУ 500 —З–µ–ї. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–µ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞. –Э–Њ –Ї–∞–Ї–∞—П?
–Э–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–µ ¬Ђ–±–Є—В–≤–∞ –њ–Њ–і –Ю—А—И–µ–є¬ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л —В–Є–њ—Л –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVI –≤.: —В—Г—В –Є —В—П–ґ–µ–ї–∞—П –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞, –Є –≥—Г—Б–∞—А—Л. –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ –Є –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є–Ї–∞–µ—В—Б—П —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є вАУ –У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ–Њ–Љ, –І–µ–љ—Б–ї–µ—А–Њ–Љ –Є –і—А.
–Э–Њ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –і–Њ—И–µ–і—И–Є–Љ –і–Њ –љ–∞—Б –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ —Б–∞–Љ–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є.
–Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ 1556 –≥. ¬Ђ–£–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ¬ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ: ¬ЂвА¶–∞ —Б –≤–Њ—В—З–Є–љ –Є —Б –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М—П —Г–ї–Њ–ґ–µ–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г —Г—З–Є–љ–Є –ґ–µ: —Б–Њ —Б—В–∞ —З–µ—В–≤–µ—А—В–µ–є –і–Њ–±—А—Л–µ —Г–≥–Њ–ґ–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ –Є –≤ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ, –∞ –≤ –і–∞–ї–љ–Њ–є –њ–Њ—Е–Њ–і –Њ –і–≤—Г –Ї–Њ–љ—М¬ї5.
–І—В–Њ –ґ–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–і –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ? –С–µ—А–µ–Љ —В–µ–Ї—Б—В –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ вАУ ¬Ђ–С–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є¬ї6, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –≤ 1556/57 –≥., –Є –і–Њ—И–µ–ї –і–Њ –љ–∞—Б –≤ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Є–Ї–µ. –Т –љ–µ–є –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л –≤–∞—Б—Б–∞–ї—Л –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ш–≤–∞–љ–∞ IV –Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Є –≤–Є–і –Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–є. –Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –і–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г: –ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —П–≤–ї—П—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ –њ—А–Є–Ј—Л–≤—Г –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ–љ—П–Ј—П, –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Њ—В—А—Л–≤–Ї–µ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–Њ 117 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ш–Ј –љ–Є—Е 91 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–Љ–µ–ї –њ–Њ–ї–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є—П. –≠—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–≤ –і–Њ—Б–њ–µ—Б–µ¬ї. –Ъ–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і—Г –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ 47 —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П: ¬Ђ—Б–∞–Љ –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ –≤ –і–Њ—Б–њ–µ—Б–µ –Є –≤ —И–µ–ї–Њ–Љ–µ¬ї, –Є–ї–Є ¬Ђ—Б–∞–Љ –Њ –і–≤—Г –Ї–Њ–љ—М –≤ –і–Њ—Б–њ–µ—Б–µ –Є –≤ —И–∞–њ–Ї–µ¬ї. –Ч–∞ —Н—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Є 2 —В–∞–Ї–Є—Е —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞: ¬Ђ–Э–Є–Ї–Є—Д–Њ—А –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤ —Б—Л–љ –Т—Л—И–µ—Б–ї–∞–≤—Ж–Њ–≤. –°–∞–Љ –љ–∞ –∞—А–≥–∞–Љ–∞–Ї–µ –≤ –і–Њ—Б–њ–µ—Б–µ –≤ —О–Љ—И–∞–љ–µ –Є –≤ —И–µ–ї–Њ–Љ–µ, –∞ –љ–∞ –≤–µ—А—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–ї–Њ–Ї–∞ –±–∞—А—Е–∞—В–љ–∞¬ї; ¬Ђ–С—Г–і–∞–є –£–≥—А–Є–Љ–Њ–≤ —Б—Л–љ –С–Њ–ї—В–Є–љ. –°–∞–Љ –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ –≤ –і–Њ—Б–њ–µ—Б–µ –≤ –њ–∞–љ—Б—Л—А–µ –Є –≤ —И–µ–ї–Њ–Љ–µ –Є –≤ –љ–∞—А—Г—З–∞—Е —Б –ї–Њ—Е—В–Є¬ї. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ —В–Є–њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞ вАУ ¬Ђ—О–Љ—И–∞–љ¬ї (—Б–µ–є—З–∞—Б –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—М вАУ ¬Ђ—О—И–Љ–∞–љ¬ї), –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П—О—В—Б—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є, —З—В–Њ –љ–∞–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –љ–µ –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ—Л, –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і—Г —Б–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–є –і–Њ—Б–њ–µ—Е –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞.
–Х—Й–µ 16 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞—Е: ¬Ђ—Б–∞–Љ –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ –≤ –њ–∞–љ—Б—Л—А–µ –Є –≤ —И–µ–ї–Њ–Љ–µ¬ї, ¬Ђ–љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ –≤ –њ–∞–љ—Б—Л—А–µ, –љ–∞ –њ–∞–љ—Б—Л—А–µ —В–µ–≥–Є–ї—П–є —В–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Ї–∞–Љ—З–∞—В¬ї, ¬Ђ—Б–∞–Љ –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ –≤ –±–µ—Е—В–µ—А—Ж–µ –Є –≤ —И–∞–њ–Ї–µ¬ї7. –Т —В–µ–≥–Є–ї—П—П—Е —П–≤–Є–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–Њ–µ, –∞ 8 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л.
–°—А–µ–і–Є –∞—А—М–µ—А–≤–∞—Б—Б–∞–ї–Њ–≤, —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–Њ–µ: –њ–Њ–ї–љ—Л–є –і–Њ—Б–њ–µ—Е –Ј–і–µ—Б—М –Є–Љ–µ—О—В 348 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, 66 –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤ ¬Ђ–љ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–љ–Њ–Љ¬ї —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є, –∞ 212 –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—О—В —В–µ–ї–Њ —В–µ–≥–Є–ї—П—П–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –Є —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ.
–Ф–ї—П –њ–Њ–ї–љ–Њ—В—Л –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В ¬Ђ–Ф–µ—Б—П—В–љ–Є XVI –≤–µ–Ї–∞¬ї8, —В–Њ—З–љ–µ–µ –µ–≥–Њ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–є—Б—П –Ї 1577 –≥. –Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л ¬Ђ–і–µ—В–Є –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є–µ¬ї –Є ¬Ђ–љ–Њ–≤–Є–Ї–Є¬ї, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–љ—Л. –Ъ –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤—Г –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є—П. –Э–∞–Ј–≤–∞–љ—Л вАУ –њ–∞–љ—Ж–Є—А—М, –Ј–µ—А—Ж–∞–ї–Њ, –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥–∞, —О–Љ—И–∞–љ. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ ¬Ђ–≥–Њ–ї–Њ–≤¬ї –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Т–Њ—А–Њ—В—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Њ–Љ–љ–Є—З–Є –Є–Љ–µ—О—В –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В —Ж–∞—А—П (¬Ђ–° –Ї–Њ–ї–Њ–Љ–љ–Є—З–Є –Ї–љ—П–Ј—М –Т–∞—Б–Є–ї–µ–є –Ь–µ–љ—М—И–Њ–є –Ї–љ—П–ґ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ —Б—Л–љ –Ъ—А–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї) –Є –≤—Е–Њ–і—П—В –≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Я–Њ–ї–Ї.
–Т–µ–љ–µ—Ж–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б–Њ–ї –Ь–∞—А–Ї–Њ –§–Њ—Б–Ї–∞—А–Є–љ–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Њ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ¬ї (–Є–Ј–і–∞–љ–∞ –≤ 1557 –≥.)–і–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–µ –Ш–≤–∞–љ–∞ ¬Ђ–У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ¬ї: ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –±—Л–ї —Б–Љ–Њ—В—А –≤–Њ–є—Б–Ї, —В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ –љ–Є—Е –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П 3 —В—Л—Б—П—З–Є —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Є 10 —В—Л—Б—П—З –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є, <вА¶> 20 —В—Л—Б—П—З –Ї–Њ–љ–љ—Л—Е —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–∞–љ–µ—А, –Њ–љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –њ–Њ&–љ–∞—И–µ–Љ—Г ¬Ђ—Д–µ—А–љ–∞—Е–Є¬ї; –њ—А–Є—З–µ–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї—П—О—В—Б—П —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є –Є–Ј –Љ—Г—И–Ї–µ—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –Њ–±–Њ–Ј–≤–∞—В—М —Г–±–Є–є—Ж–∞–Љ–Є; 30 —В—Л—Б—П—З —Б—В—А–µ–ї—М—Ж–Њ–≤ –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г —И–≤–µ–є—Ж–∞—А—Б–Ї–Є—ЕвА¶¬ї9.
–†–∞—Д–∞—Н–ї—М –С–∞—А–±–µ—А–Є–љ–Є –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—О¬ї (1565 –≥.), –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤, –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–ї—П –њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –Є –љ–∞—А—П–і—Г —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В: ¬Ђ–Ю–і–љ–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ: –Љ–µ—А–Њ—О –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є —А–Њ—Б—В, —Б –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ—О –≥—А—Г–і—М—О, –і–ї—П –≤–і–µ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–≥—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞; —И–ї–µ–Љ –±–µ–Ј –Ј–∞–±—А–∞–ї–∞, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –Є –Њ—Б—В—А–Њ–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–є, –±–µ–Ј –Ї–Њ–Ј—Л—А—М–Ї–∞ —Б–њ–µ—А–µ–і–Є –Є —Б–Ј–∞–і–Є, –љ–Њ –Ї—А—Г–≥–ї—Л–є¬ї10.
–Ф–ї—П –њ–Њ–ї–љ–Њ—В—Л –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї—Г –Є–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є –§. –Ґ—М–µ–њ–Њ–ї–Њ ¬Ђ–†–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ –і–µ–ї–∞—Е –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є–Є –§—А–∞–љ—З–µ—Б–Ї–Њ –Ґ—М–µ–њ–Њ–ї–Њ¬ї (1560-–µ –≥–≥.): ¬Ђ–Я–µ—А—Б—Л –Є –∞—А–Љ—П–љ–µ –њ—А–Є–≤–Њ–Ј—П—В –њ—А—П–љ–Њ—Б—В–Є, –ґ–µ–Љ—З—Г–≥, —И–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–µ—Й–Є, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–Љ–Є –Ї –љ–Є–Љ –Њ–±–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є, –Є, —З—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ –і–ї—П –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞, –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —В–Њ–љ—З–∞–є—И–µ–є —А–∞–±–Њ—В—Л <вА¶> –Ъ–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞ –Є–Ј –±–Њ–ї–µ–µ –Ј–љ–∞—В–љ—Л—Е –Є –±–Њ–≥–∞—В—Л—Е –Њ–і–µ–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–∞–љ—Ж–Є—А—М –Є–Ј —В–Њ–љ–Ї–Є—Е –Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–∞–Ї–∞–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Њ–Ї –Є –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ—А—Е–Є–є —И–ї–µ–Љ, —А–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–є –Є–Ј –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Њ–Ї; –њ—А–Є—З–µ–Љ –≤—Б–µ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Я–µ—А—Б–Є–Є. –≠—В–Є (–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–Є) –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В –Ї–Њ–њ—М–µ–Љ, –њ—А–Њ—З–Є–µ –ґ–µ –≤—Б–µ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –ї–∞—В –љ–Њ—Б—П—В —В–Њ–ї—Б—В—Л–µ (—Б—В–µ–≥–∞–љ—Л–µ) –Ї–∞—Д—В–∞–љ—Л, –Њ—З–µ–љ—М –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –љ–∞–±–Є—В—Л–µ —Е–ї–Њ–њ–Ї–Њ–Љ, –Њ–љ–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—В —Г–і–∞—А–∞–Љ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –µ—Б—В—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Њ—В—А—П–і –∞—А–Ї–µ–±—Г–Ј—М–µ—А–Њ–≤, –∞ –≤—Б–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В –ї—Г–Ї–Њ–Љ. –Ю–±—Й–Є–Љ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–µ—З –Є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї, –∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤—Л–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ–∞–ї–Є—Ж–∞–Љ–Є¬ї11.
–≠—В–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —В–Њ–є, —З—В–Њ –і–∞–љ–∞ –Є –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е, –Є –≤ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—В–µ–є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є –њ–Њ-–і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г: –њ–Њ—З–µ–Љ—Г, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —В–∞–Ї–Њ–є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А –Ї–∞–Ї –°–Є–≥–Є–Ј–Љ—Г–љ–і –У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ –Є –≤ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є, –Є –≤ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –≤ —В–µ–≥–Є–ї—П—П—Е? –Ю—В–≤–µ—В, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–∞—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є: –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є ¬Ђ–і–µ—В–µ–є –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є—Е¬ї –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–љ—Л—Е –Є –љ–µ–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –Љ–µ–ї–Ї–Є–Љ–Є –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є, –Є —В–µ–≥–Є–ї—П–є, –Љ–µ—З –Є –ї—Г–Ї вАУ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л–µ –і–ї—П –љ–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. ¬Ђ–Ф–µ—В—П–Љ –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є–Љ¬ї –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –Є–Љ–µ—В—М –і–µ–ї–Њ –љ–µ —Б —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –∞ —Б –±—Г–љ—В—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—Й–Є–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Ј–≤–µ—А–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Љ-–ї–µ—Б–Њ–≤–Є–Ї–Њ–Љ, –љ–µ –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є–Љ –њ–Њ–Ї–Њ—А—П—В—Б—П, –Є–ї–Є —Б –љ–Њ–≥–∞–є—Б–Ї–Є–Љ –Њ–≥–ї–∞–љ–Њ–Љ вАУ –≤–≤–Є–і—Г –Њ—В—А–µ–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–∞ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ–Њ–Љ.
–Ґ—П–ґ–µ–ї—Г—О –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Г –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є—В—М –†–µ—З—М –Я–Њ—Б–њ–Њ–ї–Є—В–∞, –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–µ —Е–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –Ы–Є–≤–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Њ—А–і–µ–љ.
–Т–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –Ї —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞. –Ш–Ј —В–Њ–є –ґ–µ ¬Ђ–С–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є¬ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Љ–Њ—В—А—Л. –Я—А–Є—З–µ–Љ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–і–∞–ї–∞—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ ¬Ђ–≥—А–Њ–Љ –≥—А—П–љ–µ—В¬ї, –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–Љ–Њ—В—А—Л, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–ї—П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П. –Я–Њ–ї–љ—Л–є –і–Њ—Б–њ–µ—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б–Њ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–∞, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і —Б–Њ 100 —З–µ—В–≤–µ—А—В–µ–є (—З–µ—В–µ–є) ¬Ђ–і–Њ–±—А–Њ–є¬ї –Ј–µ–Љ–ї–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ ¬Ђ–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї —Д–µ–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ, –Ї–∞–Ї —В–Њ: –і–Њ–Љ–µ–љ (–≤–Њ—В—З–Є–љ–∞) вАУ –Є–Ј 180 –ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В—А—Л–≤–Ї–∞ –і–Њ–Љ–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–µ—О—В 79; –њ–Њ–ї–љ—Л–є –ї–µ–љ, –±–µ–Ј –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–є, —В–∞–Ї–Є—Е 14 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї; –і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –ї–µ–љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї (–Ї–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ), —З–∞—Б—В–Њ –≥–Њ–і –Є–ї–Є –і–≤–∞; –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—А–Њ—З–љ–Њ–µ –і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ї–∞–Ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ вАУ –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Б–Њ—З–µ—В–∞—П—Б—М —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–є вАУ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ (40) —Б –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Б –≤–Њ—В—З–Є–љ–љ—Л–Љ. –Ф–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–µ–і–Ї–Є–Љ –±—Л–ї–Њ —З–Є—Б—В–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ. –Я–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Њ–≤, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–є, –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 4 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ш–Љ–µ–µ—В—Б—П –Є –і–µ–љ–µ–ґ–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ –ї–µ–љ–∞, –Њ–љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –Ї–∞–Ї –≤–Є–і —Д–µ–Њ–і–∞ —Б XII –≤. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Њ–њ–ї–∞—В–∞ (–њ—А—П–Љ–Њ –Є–Ј –Ї–∞–Ј–љ—Л), —В–∞–Ї–Є—Е –њ—П—В–µ—А–Њ, –Є–Ј –љ–Є—Е –Њ–і–Є–љ ¬Ђ–Ї–љ—П–ґ —Б—Л–љ¬ї, —В–∞–Ї –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –і–Њ—Е–Њ–і, —Б –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–∞ –Є–ї–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞ вАУ 6 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є–Ј –љ–Є—Е –Њ–і–Є–љ –Ї–љ—П–Ј—М. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –Ї–∞–Ї –њ–Њ –Ш—А–∞–љ—Г –Є –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є, –≥–і–µ –Њ–љ–∞ –љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Є–Ї—В–∞¬ї, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ. –°–∞–Љ –Њ–±—К–µ–Ї—В –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –і–µ—А–ґ–∞—В–µ–ї—П, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Є–Љ–µ–ї –њ—А–∞–≤–Њ –ї–Є—И—М –љ–∞ –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–љ—Г—О —Б—Г–Љ–Љ—Г.
–Т –Ї–∞—А—В—Г–ї—П—А–Є—П—Е –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞ 1197вАУ1207 –≥–≥. –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–∞—П –Ј–∞–њ–Є—Б—М: ¬Ђ–†–∞—Г–ї—М –і–µ-–Ь–Њ—А–Є вАУ –±–ї–Є–ґ–љ–Є–є –≤–∞—Б—Б–∞–ї –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ–∞ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ј–∞ 55 –ї–Є–≤—А–Њ–≤ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –Њ—В –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–∞ —З–µ—А–µ–Ј –Ъ–Њ–љ—Д–ї–∞–љ¬ї, ¬Ђ–Ґ–Є–±–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ –±–ї–Є–ґ–љ–µ–є –≤–∞—Б—Б–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ 45 –ї–Є–≤—А–Њ–≤¬ї12.
–Т –≤—Л—И–µ—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є ¬Ђ–С–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ¬ї –Є–Љ–µ—О—В—Б—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є: ¬Ђ–°—В–µ–њ–∞–љ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤ —Б—Л–љ –Э–∞–≥–∞–µ–≤–∞. –Т–Ј—П–ї –Є–Ј –њ–Є—Б—З–Є–µ –≤ –†—Г—Б–µ –Њ—В–Ї—Г–њ—Г 50 —А—Г–±–ї–µ–≤¬ї, ¬Ђ–Ъ—Г—А–і—О–Ї –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤ —Б—Л–љ –°—Г–Љ–Є–љ–∞. –Ш–Љ–∞–ї –Ј –С–∞–ї–∞—Е–љ—Л –њ–Њ 25 —А—Г–±–ї–µ–≤ –љ–∞ –≥–Њ–і¬ї, ¬Ђ–Ы—Г—Й–Є—Е–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤ —Б—Л–љ –°—Г–Љ–Є–љ–∞. –Ш–Љ–∞–ї —Б –С–∞–ї–∞—Е–љ—Л –њ–Њ 25 —А—Г–±–ї–µ–≤ –љ–∞ –≥–Њ–і¬ї13. –Ш —В–∞–Ї–∞—П –Ј–∞–њ–Є—Б—М (–Њ–љ–∞ –Њ–і–љ–∞): ¬Ђ–Ь–∞—В—Д–µ–є –®–∞–±–ї—Л–Ї–Є–љ –Ъ–Њ—А–Љ–Є–ї–Є—Ж—Л–љ. –Ф–∞–≤–∞—В–Є –µ–Љ—Г –њ–Њ 15 —А—Г–±–ї–µ–≤. –Т 25 —Б—В–∞—В—М–µ 6 —А—Г–±–ї–µ–≤ –і–∞ –љ–∞ (—З) –Ј –Ј–µ–Љ–ї–Є 2 —А—Г–±–ї—П, –і–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є 12 —А—Г–±–ї–µ–≤, –∞ –љ–µ –і–Њ–і–∞—В–Є –µ–Љ—Г —А—Г–±–ї—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–µ –і–Њ–і–∞–ї –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —И–µ–ї–Њ–Љ–∞¬ї14.
–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≥—А—Г–њ–њ–∞ –≤ 33 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –±–µ—А—Г—Й–∞—П –і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –≤ –Њ—В–Ї—Г–њ, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—Й–∞—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–µ–Њ–і –≤ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–є, –њ—Г—В–µ–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ —Б–±–Њ—А –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤. –Ш–Ј –љ–Є—Е 12 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤ –Њ—В–Ї—Г–њ —Б–≤–Њ–µ –ґ–µ, –±—Л–≤—И–µ–µ —Б—А–Њ—З–љ–Њ–µ –і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ.
–°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Є –њ—А–∞–≤–Њ –љ–µ —Е–Њ–і–Є—В—М –ї–Є—З–љ–Њ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і, –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П—П —Б–≤–Њ–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –ї–Є–±–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞. –Т —Б–њ–Є—Б–Ї–µ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М 63 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. 117, –Ї–∞–Ї —Г–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М, —И–ї–Є –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М —Б–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ—В –≤–Є–і —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –Є–Ј–і–∞–≤–љ–∞: ¬Ђ–§–µ—А—А–Є–Ї –і–µ-–С—А—Г–љ—Г–∞ вАУ –±–ї–Є–ґ–љ–Є–є –≤–∞—Б—Б–∞–ї –Я–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ј–∞ –≤—Б–µ —Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ц–∞–љ—В–Є–ї—М–Є. –Ф–Њ–ї–ґ–µ–љ –Ј–∞ —Н—В–Њ —Б–≤–µ—З—Г –≤ 20 —Б–Њ–ї–Є–і–Њ–≤ –Є –і–≤—Г—Е —А—Л—Ж–∞—А–µ–є —Б —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ—В –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞¬ї; ¬Ђ–≠—А–µ–љ–±—Г—А–≥–∞, —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –†–µ–љ–Њ —А—Л—Ж–∞—А—П, –і–µ—А–ґ–Є—В –Њ—В –Я–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Д–µ–Њ–і–∞, –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤ –§—А–µ–љ <вА¶> –Є –љ–µ—Б–µ—В —Б–ї—Г–ґ–±—Г –і–∞—З–µ–є –Ї–Њ–љ–µ–є¬ї15.
–Ш–Ј ¬Ђ–С–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є¬ї, –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Ы—Г—Й–Є—Е–∞: ¬Ђ–Т–Њ—В—З–Є–љ—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ы—Г—Й–Є—Е–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є –µ–≥–Њ –њ—А–Є–і–∞–љ—Л–µ –љ–∞ 40 —З–µ—В–≤–µ—А—В–µ–є, –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М—П –≤ –Ь–Є–Ї—Г–ї–Є–љ–µ –љ–∞ 500 —З–µ—В–≤–µ—А—В–µ–є, –∞ –Љ–∞—В–Є –Є—Е, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –≤ —З–µ—А–љ–Є—Ж–∞—Е, –∞ —В—Г –≤–Њ—В—З–Є–љ—Г –і–µ—А–ґ–Є—В –Є –љ—Л–љ–µ –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ—О. –Т –°–µ—А–њ—Г—Е–Њ–≤–µ –ї—О–і–µ–є –µ–≥–Њ 4 (—З) –≤ –і–Њ—Б–њ–µ—Б–µ—Е –і–∞ 3 —О–Ї–Є. –Р –њ–Њ —Г–ї–Њ–ґ–µ–љ—М—О –≤–Ј—П—В–Є —Б –љ–µ–≥–Њ –Ј –Ј–µ–Љ–ї–Є 4 (—З) –≤ –і–Њ—Б–њ–µ—Б–µ—Е –і–∞ (—З) –≤ —В–µ–≥–Є–ї—П–µ. –Ш –љ–µ –і–Њ–і–∞–ї (—З) –≤ —В–µ–≥–Є–ї—П–µ. –Р –њ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Њ–Ї–ї–∞–і—Г –і–∞—В–Є –љ–∞ –µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –≤ 17 —Б—В–∞—В—М–µ 20 —А—Г–±–ї–µ–≤ –і–∞ –љ–∞ –ї—О–і–Є –Ј –Ј–µ–Љ–ї–Є 7 —А—Г–±–ї–µ–≤, –∞ –љ–µ –і–Њ–і–∞—В–Є –µ–Љ—Г 2 —А—Г–±–ї–µ–≤¬ї16.
–Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—П, –Ї–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –њ–Њ–ї–љ–∞—П.
–Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Ї–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є, –Є –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л. –Т —В–Њ–є –ґ–µ –Љ–µ—А–µ —А—Л—Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–і–∞–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П –њ–Њ–і –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞—В –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Љ–∞–≥–љ–∞—В–Њ–≤. –Ч–∞—З–∞—Б—В—Г—О —А—Л—Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ —Г—В—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–Њ –Є —Б–≤–Њ—О –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П –Є–Ј —А–∞–Ј—А—П–і–∞ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л –≤ —А–∞–Ј—А—П–і –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є, –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤–Њ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±–Њ—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–Є–ї –≤–Њ–є—Б–Ї–∞; –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є —В—П–ґ–µ–ї–∞—П –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞ –Є –Њ—В—А—П–і—Л –Љ—Г—И–Ї–µ—В–µ—А–Њ–≤. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–∞—П –≤ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ —З–∞—Б—В—М –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е –Є —Б—А–µ–і–љ–Є—Е —Д–µ–Њ–і–∞–ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –љ–µ—Б—В–Є —Б–≤–Њ—О —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О вАУ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–њ–µ–є—Й–Є–Ї–∞, –Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –†—Г—Б—М –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П.
1 –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є —П–љ—Л—З–∞—А–∞. –Ь.: –Э–∞—Г–Ї–∞, 1978. C. 106вАУ109.
2 –•—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є—П –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤: –Т 3 —В. –Ґ. 2. –Ь.: –°–Њ—Ж—Н–Ї–≥–Є–Ј, 1961. –°. 206вАУ209.
3 –С—Г–≥–∞–љ–Њ–≤ –Т.–Ш. –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є –Ь–Њ–ї–Њ–і—П—Е // –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–Є–≤. вДЦ 4. 1959.
4 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В вДЦ 2. –°. 172.
5 –Я–°–†–Ы. –Ґ. 13. –°–Я–±., 1905. –°. 268вАУ269.
6 –Р—А—Е–Є–≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-—О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –і–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ъ–љ. 3. –Ь., 1861. –Ю—В–і. 2. –°. 27вАУ80.
7 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 31.
8 –Ф–µ—Б—П—В–љ–Є XVI –≤–µ–Ї–∞ // –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Є –±—Г–Љ–∞–≥, —Е—А–∞–љ—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Е–Є–≤–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ —О—Б—В–Є—Ж–Є–Є. –Ъ–љ. 8. –Ь., 1891. –°. 28вАУ32.
9 –Ш–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж—Л –Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ XVвАУXVII –≤–µ–Ї–Њ–≤): –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї. –Ь., 1991. –°. 56.
10 –С–∞—А–±–µ—А–Є–љ–Є –†. –Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—О –†–∞—Д–∞—Н–ї—П –С–∞—А–±–µ—А–Є–љ–Є. –°–Я–±., 1843. –°. 13.
11 –†–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ –і–µ–ї–∞—Е –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –§—А–∞–љ—З–µ—Б–Ї–Њ –Ґ—М–µ–њ–Њ–ї–Њ // –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–Є–≤. –Ґ. III, –Ь.; –Ы., 1940. –°. 58, 60.
12 –•—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є—П –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤вА¶ –°. 138.
13 –Р—А—Е–Є–≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ&—О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–євА¶ –°. 47.
14 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 51.
15 –•—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є—П –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤вА¶ –°. 139.
16 –Р—А—Е–Є–≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-—О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–євА¶ –°. 62.





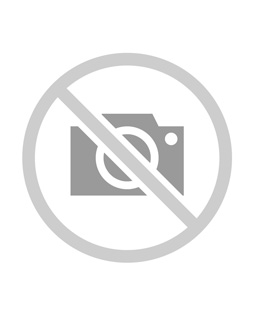






–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є