ذ’ذ¾ذ¸ذ½رپذ؛ذ°رڈ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸رڈ 1730 ذ³ذ¾ذ´ذ° ذ² ذ¼ذ°ذ»ذ¾ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ°رپذ؟ذµذ؛ر‚ذ°ر… ذµذµ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸: ذ¾ر‚ آ«رچذ؟ذ¾ر…ذ¸ ذںذµر‚ر€ذ° ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ¾آ» ذ؛ آ«رچذ؟ذ¾ر…ذµ ذœذ¸ذ½ذ¸ر…ذ°آ», ذ‘ذ°ذ±ذ¸ر‡ ذœ.ذ’. (ذœذ¾رپذ؛ذ²ذ°)
ذœذ¸ذ½ذ¸رپر‚ذµر€رپر‚ذ²ذ¾ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¤ذµذ´ذµر€ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ°رڈ ذگذ؛ذ°ذ´ذµذ¼ذ¸رڈ ر€ذ°ذ؛ذµر‚ذ½ر‹ر… ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ½ذ°رƒذ؛ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ رپذ²رڈذ·ذ¸ ذ’ذ¾ذ¹ذ½ذ° ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذذ¾ذ²ر‹ذµ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ¢ر€رƒذ´ر‹ ذ§ذµر‚ذ²ذµر€ر‚ذ¾ذ¹ ذœذµذ¶ذ´رƒذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ½ر„ذµر€ذµذ½ر†ذ¸ذ¸ 15–17 ذ¼ذ°رڈ 2013 ذ³ذ¾ذ´ذ°
ذ§ذ°رپر‚رŒ Iذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³
ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ، 2013
آ© ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ،, 2013
آ© ذڑذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر‚ذ¸ذ² ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ², 2013
ذ’ذذکذذ،ذڑذگذ¯ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸رڈ 1730 ذ³. رپر€ذ°ذ²ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ رپ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذ¼ذ¸ رپذ¾ذ±ر‹ر‚ذ¸رڈذ¼ذ¸ ر†ذ°ر€رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذگذ½ذ½ر‹ ذکذ¾ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ²ذ½ر‹ ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ ر…ذ¾ر€ذ¾رˆذ¾ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ذ° ذ² ذ³ذ»ذ°ذ²ذ½ر‹ر… ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذ°ر… ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸, ذ²ر‹ذ»ذ¸ذ²رˆذ¸ر…رپرڈ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ر†ذµذ½ذ½رƒرژ ر€ذµر„ذ¾ر€ذ¼رƒ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸. ذ£ذ¶ذµ رچر‚ذ¾ ذ¾ذ±ر‰ذµذ؟ر€ذ¸ذ·ذ½ذ°ذ½ذ½ذ¾ذµ ذ¾ذ±رپر‚ذ¾رڈر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾ (ذ؟ر€ذ¸ ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ·ذ°ذ²ذ¸رپذ¸ذ¼ذ¾رپر‚ذ¸ ذµذ³ذ¾ ذ¾ر†ذµذ½ذ¾ذ؛ ذ¾ر‚ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸رڈ ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ² ذ؛ ذ؟ذµر€رپذ¾ذ½ذ¸ر„ذ¸ر†ذ¸ر€رƒرژر‰ذµذ¼رƒ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ؟ذµر‚ر€ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ³ر€. ذ‘.-ذ¥. ذœذ¸ذ½ذ¸ر…رƒ) رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذ°ذµر‚ ذ·ذ°رڈذ²ذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر‚ذµذ¼ذµ ذ½ذµذ؟ر€ذµر…ذ¾ذ´رڈر‰رƒرژ ذ°ذ؛ر‚رƒذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ذ¾ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾ذ¹ ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ذ¼ذ¾رپر‚ذ¸, ر‚ذ°ذ؛ ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ½ذµذ¾ذ±رٹرڈر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸.
ذںذ¾رپذ»ذµذ´ذ½رڈرڈ ذ؟ر€ذ¾رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ¸ ذ² ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ¼ذ¾ذ½ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ذ¸ ذ.ذ. ذںذµر‚ر€رƒر…ذ¸ذ½ر†ذµذ²ذ°1, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ر„رƒذ½ذ´ذ°ذ¼ذµذ½ر‚ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ» ذ¸ ذ²ذ؟ذ¸رپذ°ذ» ر„ذ¸ذ½ذ°ذ½رپذ¾ذ²رƒرژ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈرژر‰رƒرژ ر‚ر€رƒذ´ذ¾ذ² ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ آ«ذ² ذ؛ذ¾ذ½ر‚ذµذ؛رپر‚ ذ²ذ½رƒر‚ر€ذµذ½ذ½ذµذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ¸ذ؛ذ¸آ» ذ؛ذ¾ذ½ر†ذ° 1720-ر… – ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ° 1730-ر… ذ³ذ³., ذ²ذ¾رپرپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ» ر…ر€ذ¾ذ½ذ¸ذ؛رƒ ذµذµ رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ, ذ·ذ°ر‚ر€ذ¾ذ½رƒذ» ذ؟ذ¾ذ´ذ½رڈر‚ر‹ذµ ذ² ذ½ذµذ¹ رپذ¾ر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ؟ر€ذ¾ذ±ذ»ذµذ¼ر‹ ذ¸ رپذ°ذ¼رƒ آ«ذ¾ر‚ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؟ر€ذ¾ر†ذµذ´رƒر€ر‹آ» ر€ذ°ذ·ر€ذµرˆذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ°رپرƒر‰ذ½ر‹ر… ذ؟ذ¾ر‚ر€ذµذ±ذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹ ذ²ذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ½ر‹ر… رپذ¸ذ» ذ² ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ر… رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸رڈر… ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ°. ذ’ذ¼ذµرپر‚ذµ رپ ر‚ذµذ¼ رƒر‡ذµذ½ر‹ذ¹, رپذ¾رپر€ذµذ´ذ¾ر‚ذ¾ر‡ذ¸ذ²رˆذ¸رپرŒ ذ½ذ° آ«ذ´ذµذ»ذ°ر… ذ؟ذ¾آ» ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ ذ² ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ°ر… ذ،ذµذ½ذ°ر‚ذ° ذ ذ“ذگذ”ذگ, ذ¾رپذ¾ذ·ذ½ذ°ذ½ذ½ذ¾ ذ¾ر‚ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»رپرڈ ذ¾ر‚ ذ¾ذ±ر€ذ°ر‰ذµذ½ذ¸رڈ ذ؛ ذµذµ ر„ر€ذ°ذ³ذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر€ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ½ذ°رپذ»ذµذ´ذ¸رژ ذ² ذ ذ“ذ’ذکذگ ذ¸ ذ¾ذ±ذ¾رˆذµذ» (ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾, ذ½ذµذ¾رپذ¾ذ·ذ½ذ°ذ½ذ½ذ¾) ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذµ ذ¾ر‚ذ·ر‹ذ²ر‹ ذ¾ ذ½ذµذ¹ (رƒرپرƒذ³رƒذ±ذ¸ذ² ذ½ذµذ¸ذ·ذ±ذµذ¶ذ½رƒرژ ذ؟ر€ذ¸ ذ³ذ»رƒذ±ذ¾ذ؛ذ¾ذ¼ ذ؟ذ¾ذ³ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ² ذ¸ذ·رƒر‡ذ°ذµذ¼ر‹ذ¹ ذ°رپذ؟ذµذ؛ر‚, ذ؟ذ¾ ذµذ³ذ¾ ذ¶ذµ رپذ»ذ¾ذ²ذ°ذ¼, ذ¸ذ·ذ¾ذ»رڈر†ذ¸رژ ذ¾ر‚ ذ°رپذ؟ذµذ؛ر‚ذ¾ذ², ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·رƒرژر‰ذ¸ر… رپ ذ¸ذ·رƒر‡ذ°ذµذ¼ر‹ذ¼ ذµذ´ذ¸ذ½ر‹ذ¹ ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذ»ذµذ؛رپ).
ذ”ذ»رڈ ذ½ذ°رپر‚ذ¾رڈر‰ذµذ¹ رپر‚ذ°ر‚رŒذ¸ ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذµ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ر‚ذµذ¼ ذ½ذµ ذ¼ذµذ½ذµذµ ذ½ذµ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ ذ؛ر€ذ¸ر‚ذ¸ذ؛ذ¸ رپ ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»رڈذµذ¼ذ¾ذ¹ ذµذµ ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¼, ذ² ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ.ذ. ذںذµر‚ر€رƒر…ذ¸ذ½ر†ذµذ²رƒ, ذ؟ر€ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ¸ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¸, ذ° رپذ؛ذ¾ر€ذµذµ ذ؟ذ¾ذ±رƒذ´ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ر„ذ°ذ؛ر‚ذ¾ر€ ذ؛ ذ¾ذ±ذ¾ذ±ر‰ذµذ½ذ¸رژ ذ·ذ½ذ°ذ½ذ¸ذ¹ ذ¾ رپذ¾ذ؟ر€رڈذ¶ذµذ½ذ½ر‹ر… رپ ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈر…. ذک, ذ؛ذ¾ذ½ذµر‡ذ½ذ¾, ذ¾رپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ¸ر‚رŒرپرڈ ذ؟ر€ذµذ¶ذ´ذµ ذ²رپذµذ³ذ¾ ذ½ذ° ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر… رپذ²ذ¾ذ¸ر… ذ¸ذ·ر‹رپذ؛ذ°ذ½ذ¸ذ¹ ذ؟ذ¾ ذ؟ذ¾ذ²ذ¾ذ´رƒ ذ¸ذ½رپر‚ذ¸ر‚رƒر‚ذ° ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¹ ذ² رپذ¸رپر‚ذµذ¼ذµ ذ²ذ»ذ°رپر‚ذ½ر‹ر… ذ¾ر‚ذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸ذ¹ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ر‚ر€ذµر‚ذ¸ XVIII ذ². ذ²ذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµ ذ¸ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ 1730 ذ³. ذ² ر‡ذ°رپر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸.
ذڑذ°ذ؛ ذ·ذ°ذ؛ذ¾ذ½ذ¾رپذ¾ذ²ذµر‰ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذµ رƒر‡ر€ذµذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµ ذ´ذ»رڈ ذ¾ذ±رپرƒذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈ (ذ¸ذ»ذ¸, ر€ذµذ¶ذµ, آ«رپذ¾ر‡ذ¸ذ½ذµذ½ذ¸رڈآ») ذ؛ذ°ذ؛ذ¸ر…&ذ»ذ¸ذ±ذ¾ ذ°ذ؛ر‚ذ¾ذ² – ذ±رƒذ´رŒ ر‚ذ¾ ذذ¾ذ²ذ¾ذµ ذ£ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ²ذ·ذ°ذ¼ذµذ½ ذ،ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ 1649 ذ³. ذ¸ذ»ذ¸ رپذµذ½ذ°ر‚رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ´ذ¾ذ؛ذ»ذ°ذ´ 1725 ذ³., رپذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ر†ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ²رˆذ¸ذ¹ ذ؟رƒذ±ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ذµ ذ´ذµذ±ذ°ر‚ر‹ ذ¾ ذ·ذ°ذ¼ر‹ذ؛ذ°ذ²رˆذµذ¼ ذ½ذ° رپذµذ±ذµ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذµ آ«ذ½ذµذ؟ذ¾ر€رڈذ´ذ؛ذ¸آ» آ«رپذ¾ذ´ذµر€ذ¶ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ² ذ½ر‹ذ½ذµرˆذ½ذµذµ ذ¼ذ¸ر€ذ½ذ¾ذµ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸آ» – ذ¾ذ½ذ° ذ°ذ±رپذ¾ذ»رژر‚ذ½ذ¾ ر‚ذ¸ذ؟ذ¸ر‡ذ½ذ°. ذذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ°رڈ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ رƒذ؛ذ°ذ·ذ¾ذ¼ ذ¾ر‚ 1 ذ¸رژذ½رڈ 1730 ذ³. ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸رڈ ذ±ر‹ذ»ذ° ذ¾ذ±رڈذ·ذ°ذ½ذ° ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈر‚رŒ آ«ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸رڈآ» ذ؟ذ¾ ذ؛ذ°ذ¶ذ´ذ¾ذ¼رƒ ذ¸ذ· ذµذ³ذ¾ 15 آ«ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ¾ذ²آ» ذ² ذ،ذµذ½ذ°ر‚ (رپ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¾ر‚ر‚رƒذ´ذ° ذ؛ ذ¼ذ¾ذ½ذ°ر€رˆذµذ¹ ذ؛ذ¾ذ½ر„ذ¸ر€ذ¼ذ°ر†ذ¸ذ¸). ذ،ذµذ½ذ°ر‚, ذ¾ر‚ذ½رژذ´رŒ ذ½ذµ ر„ذ¾ر€ذ¼ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ¸ر… آ«رپذ»رƒرˆذ°ذ²رˆذ¸ذ¹آ», ذ² ذ·ذ°ذ½رڈر‚ذ¸رڈ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ – ذ؟ذ¾ذ´ر‡ذ¸ذ½ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذµذ¼رƒ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ° ر†ذµذ½ر‚ر€ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ·ذ²ذµذ½ذ° – ذ½ذµ ذ²ذ¼ذµرˆذ¸ذ²ذ°ذ»رپرڈ, ذ»ذ¸رˆرŒ ذ²ر€رƒر‡ذ¸ذ² (8 ذ¸رژذ½رڈ) ذکذ½رپر‚ر€رƒذ؛ر†ذ¸رژ (ر‚ذ¾ذ¶ذ´ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ذ²ر‚ذ¾ر€رڈذ²رˆرƒرژ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ رƒذ؛ذ°ذ·)2, ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذ¸ذ² ذ¼ذ¾ر‰ذ½ذ¾ذ¹, ذ² 28 ر‡ذµذ»ذ¾ذ²ذµذ؛, ذ؛ذ°ذ½ر†ذµذ»رڈر€ذ¸ذµذ¹ ذ¸ ذ·ذ°ر‚ذµذ¼ رپذ°ذ½ذ؛ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ¸ر€رƒرڈ ذ·ذ°ذ؟ر€ذ¾رپر‹ ذ² ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ذµ ذ¸ذ½رپر‚ذ°ذ½ر†ذ¸ذ¸, ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ²ذ°ذ½رŒذµ رپذ»رƒذ¶ذ°ر‰ذ¸ذ¼ ذ¸ ر‚. ذ؟.
ذ¢ذ°ذ؛ذ¾ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ, ذ½ذµر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ½ذ¾ذµ ذ´ذ»رڈ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ° آ«رپذµذ½ذ°ر‚رپذ؛ذ¸ر…آ» ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¹ XVIII ذ²., ذ²رپذµ ذ¶ذµ ذ½ذµ ذ¸رپذ؛ذ»رژر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾, ر…ذ¾ر‚رڈ ذ؛ذ¾رپذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¸ ذ½ذ°ذ¼ذµذ؛ذ°ذµر‚ ذ½ذ° آ«ذ¾رپذ¾ذ±ذ¾رپر‚رŒآ» ذ؛ذ¾ذ½ذ؛ر€ذµر‚ذ½ذ¾ رچر‚ذ¾ذ¹. ذ’ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµ ذ¾ر€ذ´ذ¸ذ½ذ°ر€ذ½ر‹ذ¼ ذ´ذ»رڈ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ آ«رƒذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾آ» ر‚ذ¸ذ؟ذ° ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¸ ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذ»ذµذ؛ر‚ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذµذµ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ° ذ½ذ° ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ°ر… ذ½ذµ رپر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ°ذ´ذ¼ذ¸ذ½ذ¸رپر‚ر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ذ؟ر‹ر‚ذ° ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذµرپذ° ذ؛ذ°ذ½ذ´ذ¸ذ´ذ°ر‚ذ¾ذ², رپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ¸ر… ذ؟ر€ذ¾ر„ذµرپرپذ¸ذ¾ذ½ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ¼ذ°, ذ؟ذ¾ر‡ذµذ¼رƒ ذ؛ ذ¾ذ؟ر‚ذ¸ذ¼ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ·ذ°ذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ´ذ°ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ° ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ»ذµذ؛ذ°ر‚رŒ ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»ذµذ¹ ذ½ذµ رپذ°ذ¼ر‹ر… ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¸ر… ر‡ذ¸ذ½ذ¾ذ², ذ؟ذ¾ ذ²ر‹ذ±ذ¾ر€رƒ ذ»ذ¸ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ° ذ¸ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¾ر‡ر‚ذµذ½ذ¸رڈذ¼ آ«ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¸رپرƒر‚رپر‚ذ²رƒرژر‰ذ¸ر…آ». ذ’رپذµذ³ذ´ذ° ذ²ذ°ذ¶ذ½ر‹ذµ, ذ¸ر… ذ»ذ¸ر‡ذ½ذ¾رپر‚ذ½ر‹ذµ رپذ²ذ¾ذ¹رپر‚ذ²ذ° ذ¸ ذ² ر€ذ°ذ·ذ±ذ¸ر€ذ°ذµذ¼ذ¾ذ¼ رپذ»رƒر‡ذ°ذµ ذ¾ذ±رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ»ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ¸رڈ ذ² ر„رƒذ½ذ؛ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ¾ذ±ذ¾ذ¸ر… رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ¾ذ² ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸, ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذ¹ ذ¸ذ· ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ» رپ 9 ذ¸رژذ½رڈ ذ´ذ¾ ذ؛ذ¾ذ½ر†ذ° 1730 ذ³. (ذ¾ر„ذ¸ر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ´ذ¾ ذ´ذµرپرڈر‚ر‹ر… ر‡ذ¸رپذµذ» ذ¼ذ°ر€ر‚ذ° 1731 ذ³.) ذ² ذœذ¾رپذ؛ذ²ذµ: ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»-ذ°ذ½رˆذµر„ر‹ ذ“.-ذک. ذ‘ذ¾ذ½ ذ¸ ذ؛ذ½. ذ“.ذ”. ذ®رپرƒذ؟ذ¾ذ², ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»-ذ»ذµذ¹ر‚ذµذ½ذ°ذ½ر‚ر‹ ذ؛ذ½. ذک.ذ¤. ذ‘ذ°ر€رڈر‚ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹, ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»-ذ¼ذ°ذ¹ذ¾ر€ر‹ ذœ.ذک. ذ›ذµذ¾ذ½ر‚رŒذµذ² ذ¸ ذک.-ذ‘. ذڑذ°ذ¼ذ؟ذµذ³ذ°رƒذ·ذµذ½, ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ¸ر€ ذ”.ذک. ذںذ¾ر€ذµر†ذ؛ذ¸ذ¹ ذ¸ ذ¸ذ· ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ¸ر€ذ¾ذ² ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ رپر‚ذ°ر‚رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¸ رپر‚ذ°ر‚رپذ؛ذ¸ذ¹ رپذ¾ذ²ذµر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ’.ذ،. ذ‘ذ¾ر€ذ·ذ¾ذ²ذ¾ ذ¸ ذ،.ذ’. ذ،ذµذ؛ذ¸ذ¾ر‚ذ¾ذ². ذ’ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹: ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»-ذ»ذµذ¹ر‚ذµذ½ذ°ذ½ر‚ ذڑ.ذک. ذ“ذ¾ر…ذ¼رƒر‚, ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»-ذ¼ذ°ذ¹ذ¾ر€ر‹ ذœ.ذک. ذ›ذµذ¾ذ½ر‚رŒذµذ² ذ¸ ذک.-ذ“. ر„ذ¾ذ½ ذ›رژذ±ذµر€ذ°رپ, ذ¾ذ±ذµر€-ذ؛ر€ذ¸ذ³رپ-ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ°ر€ ذک.ذ،. ذ£ذ½ذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ²ذ½ذ¸ذ؛ ذœ.ذک. ذ¤ذ¸ذ»ذ¾رپذ¾ر„ذ¾ذ² – رپ ذ²ذµرپذ½ر‹ 1731-ذ³ذ¾ ذ´ذ¾ ذ»ذµر‚ذ° 1732 ذ³. – ذ² ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³ذµ3.
ذ،ذ¾ذ³ذ»ذ°رپذ¸ذ¼رپرڈ رپ ر‚ذµذ¼ذ¸, ذ؛ر‚ذ¾ رپر‡ذ¸ر‚ذ°ذµر‚ رپذ¸ذ¼ذ²ذ¾ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ذ¼ ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ ذ؟ذ¾رپر‚ذ° ذ³ذ»ذ°ذ²ر‹ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ ذ¾ر‚ ذ³ذµر€ذ¾رڈ ذ،ذµذ²ذµر€ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ ر„ذµذ»رŒذ´ذ¼ذ°ر€رˆذ°ذ»ذ° ذ؛ذ½. ذœ.ذœ. ذ“ذ¾ذ»ذ¸ر†ر‹ذ½ذ° ذ؛ ذ½ذ¸ر‡ذµذ¼ ذµر‰ذµ ذ½ذµ ذ؟ر€ذ¾رپذ»ذ°ذ²ذ¸ذ²رˆذµذ¼رƒرپرڈ ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»-ر„ذµذ»رŒذ´ر†ذµذ¹ر…ذ¼ذµذ¹رپر‚ذµر€رƒ, ذ·ذ½ذ°ذ¼ذµذ½رƒرڈ, ذ؟ذ¾ ذگ.ذڑ. ذ‘ذ°ذ¹ذ¾ذ²رƒ, ذ´ذ»رڈ ذ²رپذµذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ ذ¾ر‚ آ«رچذ؟ذ¾ر…ذ¸ ذںذµر‚ر€ذ° ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ¾آ» ذ؛ آ«رچذ؟ذ¾ر…ذµ ذœذ¸ذ½ذ¸ر…ذ°آ»4. ذذ¾ ذ؟ذ¾ذ´ر‡ذµر€ذ؛ذ½ذµذ¼, ر‡ر‚ذ¾ رپذ¸ذ¼ذ²ذ¾ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ذ¼, ذ¾ذ»ذ¸ر†ذµر‚ذ²ذ¾ر€رڈرڈ ذ؟ر€ذµذµذ¼رپر‚ذ²ذµذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؛رƒر€رپذ°, ذ²ذ·رڈر‚ذ¾ذ³ذ¾ رƒذ¶ذµ ذ² 1725 ذ³., ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¸ ذ½ذ°ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸ذµ رپذ°ذ¼ذ¾ذ³ذ¾ ذœ.ذœ. ذ“ذ¾ذ»ذ¸ر†ر‹ذ½ذ°, ذ·ذ°ذ´رƒذ¼ذ°ذ½ذ½ذ¾ذµ ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ·ذ´ذ½ذµذµ ر€رƒذ±ذµذ¶ذ° 1729–1730 ذ³ذ³., – ذ؛ذ°ذ؛ ذ´ذ¾ذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°رژر‚ ر‡ذµر€ذ½ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ذ¸ ذ±ر‹ذ²رˆذµذ³ذ¾ ذ؛ذ°ذ±ذ¸ذ½ذµر‚-رپذµذ؛ر€ذµر‚ذ°ر€رڈ ذگ.ذ’. ذœذ°ذ؛ذ°ر€ذ¾ذ²ذ°. ذ¢ذ¾ذ¼رƒ ذ½ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¾ رپرƒذ¶ذ´ذµذ½ذ¾ ذ²ذ¾ذ·ذ³ذ»ذ°ذ²ذ¸ر‚رŒ ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذ½رƒرژ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸رژ 1727 ذ³., ذ·ذ°ذ؛ر€ر‹ر‚رƒرژ رپذ¾ رپذ¼ذµر€ر‚رŒرژ ذ•ذ؛ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ½ر‹ I, ذ½ذ¾ آ«رˆر‚ذ°ر‚ذ½ر‹ذµآ» ذ¸ ذ¸ذ½ر‹ذµ ذ؟ر€ذµذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ³ذ°ر€ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذµر…ذ¾ر‚ر‹ ذ¸ ذ´ر€ذ°ذ³رƒذ½ ذ¾ذ½ ذ؛رƒذ»رƒذ°ر€ذ½ذ¾ ذ؟ذ»ذ°ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ» ذ¸ ذ²ذ؟ر€ذµذ´رŒ5.
ذ،ذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذگذ½ذ½ر‹ ذکذ¾ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ²ذ½ر‹ ذ² رƒرپر‚ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ¸ذ¸ آ«ذ؟ذ¾ذ¼ذµرˆذ°ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²آ» آ«ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾رƒرپر‚ر€ذ¾ذµذ½ذ½ر‹ذ¼آ» ذںذµر‚ر€ذ¾ذ¼ I ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ذ°ذ¼ ذ¸ ذ¸ر… ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒرپر‚ذ²ذµ ذ±ذµذ· آ«ذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ر‚رڈذ³ذ¾رپر‚ذ¸آ» ذ½ذ°ذ¼ذµر€ذµذ½ذ¸رڈذ¼ ذ•ذ؛ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ½ر‹ I ذ¸ ذںذµر‚ر€ذ° II ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ·ذ³ذ»ذ°رˆذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ² رƒر‡ر€ذµذ´ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¼ رƒذ؛ذ°ذ·ذµ ذµذµ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸, ذ° ذ؛ذ¾ذ½ر„ذ»ذ¸ذ؛ر‚ ذ¸ذ½ر‚ذµر€ذµرپذ¾ذ² ذ²ذ¾ذ؛ر€رƒذ³ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¾ذ»ذ°ذ³ذ°ذµذ¼ر‹ر… ر‚ذ¾ذ³ذ´ذ° ر€ذµر„ذ¾ر€ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ ذ²رپذµ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ذ¼ رƒر‡ذ°رپر‚ذ¸ذ¸ ذ±ذ°ر€. ذگ.ذک. ذرپر‚ذµر€ذ¼ذ°ذ½ذ° ذ»ذµذ³ذ؛ذ¾ ذ؟ر€ذ¾رپذ»ذµذ´ذ¸ر‚رŒ ذ؟ذ¾ ذ¾ذ؟رƒذ±ذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ آ«ذ±رƒذ¼ذ°ذ³ذ°ذ¼آ» ذ’ذµر€ر…ذ¾ذ²ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر‚ذ°ذ¹ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾ذ²ذµر‚ذ°6. ذذµ ذ¾ر‚رپر‚رƒذ؟ذ°ذ» ذگ.ذک. ذرپر‚ذµر€ذ¼ذ°ذ½, ذ؟ذ¾رپر‚ذµذ؟ذµذ½ذ½ذ¾ رƒر‚ذ²ذµر€ذ¶ذ´ذ°ذ²رˆذ¸ذ¹رپرڈ رƒ ر€رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ° رپر‚ر€ذ°ذ½ذ¾ذ¹, ذ¸ ذ¾ر‚ ذ½ذµذ·ذ°ذ²ذ¸رپذ¸ذ¼ذ¾رپر‚ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ¹ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ ذ¾ر‚ ذ،ذ¾ذ²ذµر‚ذ°, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ°رڈ ذ² 1727 ذ³. ذ·ذ°ر‰ذ¸ر‰ذ°ذ»ذ° ذ±ر‹ ذµذµ (ذ؟ر€ذ¸ ذ½ذ°ذ»ذ¸ر‡ذ¸ذ¸ ذ²ر‹رپذ¾ر‡ذ°ذ¹رˆذµذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ذ؛ر€ذ¾ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ°) ذ¾ر‚ ذ²رپذµذ²ذ»ذ°رپر‚ذ¸رڈ ذ؛ذ½. ذگ.ذ”. ذœذµذ½رˆذ¸ذ؛ذ¾ذ²ذ°, ذ° ذ² 1729 ذ³. – ذ¾ر‚ ذ؛ذ»ذ°ذ½ذ° ذ”ذ¾ذ»ذ³ذ¾ر€رƒذ؛ذ¸ر…. ذ”ذ»رڈ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ¾ذ²ذµرپذ° ذ²ذ¾ذ·ذ³ذ»ذ°ذ²ذ¸ذ²رˆذµذ¼رƒ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ²ذµذ´ذ¾ذ¼رپر‚ذ²ذ¾ ر„ذµذ»رŒذ´ذ¼ذ°ر€رˆذ°ذ»رƒ ذ؛ذ½. ذ’.ذ’. ذ”ذ¾ذ»ذ³ذ¾ر€رƒذ؛ذ¾ذ¼رƒ ذ¸ ذ±ر‹ذ» ذ؟ر€ذ¸ذ·ذ²ذ°ذ½ ذœ.ذœ. ذ“ذ¾ذ»ذ¸ر†ر‹ذ½, ذ² ذ؛ذ°ذ؛ذ¾ذ¼-ر‚ذ¾ رپذ¼ر‹رپذ»ذµ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¸ر‚ذµر‚ذ½ر‹ذ¹ رپذ¾ر€ذ°ر‚ذ½ذ¸ذ؛ ذںذµر‚ر€ذ°, ذ¾رپر‚ذ°ذ²رˆذ¸ذ¹رپرڈ persona grata ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ ذµذ³ذ¾ ذ؟ذ»ذµذ¼رڈذ½ذ½ذ¸ر†ذµ.
ذ¢ر€رƒذ´ذ½ذ¾ رپذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚رŒ, ر‡ذµذ³ذ¾ ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ذ³ذ»ذ° ذ±ر‹ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸رڈ ذœ.ذœ. ذ“ذ¾ذ»ذ¸ر†ر‹ذ½ذ°, ذ¾ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»ذ½رڈذ²رˆذ°رڈ آ«ذ؟ذ¾ ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ°ذ¼آ» ذ¾ر‚ 1 (8) ذ¸رژذ½رڈ 1730 ذ³., ذµرپذ»ذ¸ ذ±ر‹ ذ½ذµ ذµذ³ذ¾ رپذ¼ذµر€ر‚رŒ 10 ذ´ذµذ؛ذ°ذ±ر€رڈ ر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ¶ذµ ذ³ذ¾ذ´ذ° ذ¸ ذ·ذ°ذ¼ذµر‰ذµذ½ذ¸ذµ ذ’.ذ’. ذ”ذ¾ذ»ذ³ذ¾ر€رƒذ؛ذ¸ذ¼, ذ؟ذ¾رپذ»ذµ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¾ ذ·ذ°رپذµذ´ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذµذ؛ر€ذ°ر‚ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ. ذگ ذ²ذ¾ذ·ذ¾ذ±ذ½ذ¾ذ²ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ ذ¾ر‚رپر‚ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذµذ³ذ¾ (ذ؟ذ¾ذ´ ذ؟ر€ذµذ´ذ»ذ¾ذ³ذ¾ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذµذ¼ذµذ½ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ آ«ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذ¼ذ¸ ذ´ذµذ»ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ°ذ¼ذ¸آ») ذ¸ ذ؟ذµر€ذµذµذ·ذ´ذµ ذ¸ذ· ذœذ¾رپذ؛ذ²ر‹, ذ³ذ´ذµ ذ؟ر€ذµذ±ر‹ذ²ذ°ذ» ذ´ذ²ذ¾ر€, ذ² ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³, ذ³ذ´ذµ رپذ»رƒذ¶ذ¸ذ» ذ‘.-ذ¥. ذœذ¸ذ½ذ¸ر…. ذںر€ذ¸ر‡ذµذ¼ ذµذ¼رƒ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸رڈ ذ؟ر€ذµذ؟ذ¾ر€رƒر‡ذ°ذ»ذ°رپرŒ (ذ½ذµذ´ذ°ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ رƒذ؛ذ°ذ·ذ¾ذ¼, آ«ذ¾ر‚ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼آ» ذ² ذ،ذµذ½ذ°ر‚ 8 ذ¼ذ°ر€ر‚ذ° 1731 ذ³.) رپ ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ذ¼ذ¾ر‡ذ¸رڈذ¼ذ¸ آ«ذ½ذ°ر‡ذ¸ذ½ذ°ر‚رŒآ», ذ½ذµذ²ذ·ذ¸ر€ذ°رڈ ذ½ذ° رƒذ¶ذµ ذ°ذ؟ر€ذ¾ذ±ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ´ذ¾ذ½ذµرپذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذµذ´رˆذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ², آ«ذ؛ذ°ذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼â€¦ ذ¾ذ½ ذ؟ذ¾ رپذ²ذ¾ذµذ¼رƒ ر€ذ°رپرپذ¼ذ¾ر‚ر€ذµذ½ذ¸رژ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذµر‚ذµر‚آ»7. ذڑذ°ذ؛ذ¸ذ¼ آ«ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼آ» رچر‚ذ¾ ذ¾ر‚ذ؛ذ»ذ¸ذ؛ذ½رƒذ»ذ¾رپرŒ ذ² ذ±رƒذ´رƒر‰ذµذ¼, ذ؟ذ¾ذ؟ر€ذ¾ذ±رƒذµذ¼ ذ¾ر‚ذ²ذµر‚ذ¸ر‚رŒ ذ½ذ¸ذ¶ذµ. ذںر€ذµذ´ذ²ذ°ر€ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ², ر‡ر‚ذ¾ ذ±ذµرپذ؟ر€ذµر†ذµذ´ذµذ½ر‚ذ½ذ°رڈ ذ´ذ»رڈ آ«رƒذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¹آ» ذ¼ذ°رپرˆر‚ذ°ذ±ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذµذµ ذ²ر‹ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ¸ ذ²ذ¾ذ؟ذ»ذ¾ر‰ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ؟ر€ذ¾ذµذ؛ر‚ذ¾ذ² ذ¾ذ؟ذ¸ر€ذ°ذ»ذ°رپرŒ ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ¸ ذ½ذ° ذ¾ر‚ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ² ذµذµ ذ؟ر€ذ¾ذ³ر€ذ°ذ¼ذ¼ذµ ذ¸ر‚ذ¾ذ³ذ¾ذ² رچذ²ذ¾ذ»رژر†ذ¸ذ¸, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€رƒرژ ذ²ذ·ذ³ذ»رڈذ´ر‹ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ رچذ»ذ¸ر‚ر‹ ذ½ذ° رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ¾ آ«ذ´ذ¾ذ±ر€ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾رپر‚ذ¾رڈذ½ذ¸رڈآ» ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذ؟ر€ذµر‚ذµر€ذ؟ذµذ»ذ¸ ذ؛ 1730 ذ³.
ذذ¼ذ¾ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ؟ذ¾ر€ر‹ذ² ذ،ذµذ½ذ°ر‚ذ° رپ ذµذ³ذ¾ ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»&ذ؟ر€ذ¾ذ؛رƒر€ذ¾ر€ذ¾ذ¼ ذں.ذک. ذ¯ذ³رƒذ¶ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ ذ؛ ذµذµ رپذ¾ذ؛ر€ذ°ر‰ذµذ½ذ¸رژ ذ؛ذ°ذ؛ ذ»رƒر‡رˆذµذ¼رƒ ذ»ذµذ؛ذ°ر€رپر‚ذ²رƒ ذ¾ر‚ ذ¾ذ±ر€رƒرˆذ¸ذ²رˆذ¸ر…رپرڈ ذ½ذ° آ«ذ ذ¾رپرپذ¸رژ ذ±ذµذ· ذںذµر‚ر€ذ°آ» ذ±ذµذ´ رƒذ³ذ°رپ ذ؛ ذ²ذµرپذ½ذµ 1726 ذ³. ذر‡ذµر€ذµذ´ذ½ذ¾ذµ ذ²ذ½ذµرˆذ½ذµذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذµ ذ¾ذ±ذ¾رپر‚ر€ذµذ½ذ¸ذµ, ذ¾ر‚رپر‚ذ°ذ¸ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ آ«ذ½ذµذ؟ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ²آ» ذ“ذµذ½ذµر€ذ°ذ»ذ¸ر‚ذµر‚رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذµذ¹, ذ½ذµذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذµ رپذ½ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ رپر‚ذ°ذ²ذ؛ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´رƒرˆذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ´ذ°ر‚ذ¸, ذ¾ر‚رپر‚ذ°ذ²ذ½ذ°رڈ ذ؛ذ°ذ¼ذ؟ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ½ذµذ¾ذ؟ذ»ذ°ر‡ذ¸ذ²ذ°ذµذ¼ر‹ذµ ذ¾ر‚ذ؟رƒرپذ؛ذ° ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾رپذ»رƒذ¶ذ°ر‰ذ¸ذ¼ ذ؟ذ¾ذ¼ذµر‰ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذµذ»ذ¸ ذ؛ ذ؟ذ¾ذ¸رپذ؛ذ°ذ¼ ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ر€ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ° ذ¼ذµذ¶ذ´رƒ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¾رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ½ذ¾رپر‚رŒرژ ذ¸ آ«ذ¾ذ±ذ»ذµذ³ر‡ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ°آ». ذںذ¾ذ؟رƒذ»رڈر€ذ½ر‹ذµ رپذ؟ذµر€ذ²ذ° ذ¼ر‹رپذ»ذ¸ ذ¾ ذ؟ذµر€ذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€ذµ ذ½ذ¾ر€ذ¼ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ر… آ«رپر€ذ¾ذ؛ذ¾ذ²آ» ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذµذ¼ذ¾ذ² ذ·ذ°ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ؛ذ¸ ذ°ذ¼رƒذ½ذ¸ر†ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ¼رƒذ½ذ´ذ¸ر€ذ°, ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ°ذ´ذ°ذ؟ر‚ذ°ر†ذ¸رڈ آ«ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذ»ذµذ؛ر‚ذ°آ» ذ»رژذ´ذµذ¹ ذ¸ ذ»ذ¾رˆذ°ذ´ذµذ¹ ذ؛ رپذ؟ذµر†ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذµ ذ´ذ»ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذ¸ر€ذ° ذ½ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ·ذ°ذ±ر‹ر‚ر‹. ذذ¾ ذ½ذ° ذ؟ذµر€ذµذ´ذ½ذ¸ذ¹ ذ؟ذ»ذ°ذ½ ذ²ر‹ذ´ذ²ذ¸ذ½رƒذ»ذ¸رپرŒ ذ؟ر€ذµر‚ذµذ½ذ·ذ¸ذ¸ ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¼ذµذ½رˆذ¸ذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ¸ ذ½ذ° ر€ذµذ²ذ¸ذ·ذ¸رژ ذ±ذµرپذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ¾ذ»رŒذ½ر‹ر… ر‚ر€ذ°ر‚ (ر‡ذ¸ر‚ذ°ذ¹ – ر…ذ¸ر‰ذµذ½ذ¸ذ¹) رپذ²ذµر‚ذ»ذµذ¹رˆذµذ³ذ¾ ذ¸ ذ²ذ¾ذ·ذ²ر€ذ°ر‚ ذ¾ر‚ رƒذ·ذ°ذ؛ذ¾ذ½ذ¸ذ²رˆذµذ¹ ذ³ذ»ذ°ذ²ذ½رƒرژ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ±رژذ´ذ¶ذµر‚ذ° ذ² 4 ذ¼ذ»ذ½ ر€. ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذ¸ 1720 ذ³. ذ؛ ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذ¸ 1712 ذ³., ذ؟ذ¾ذ´ذ´ذµر€ذ¶ذ¸ذ²ذ°ذ²رˆذµذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸رژ رپر€ذ°ذ¶ذ°رژر‰رƒرژرپرڈ رپرƒذ¼ذ¼ذ¾ذ¹ ذ²ذ´ذ²ذ¾ذµ ذ¼ذµذ½رŒرˆذµذ¹8.
ذںر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ¾ذ±ذ¾ر€رپر‚ذ²رƒرژر‰ذ¸ذµ آ«ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ¸آ» ذ±ر‹رپر‚ر€ذ¾ – ذ؛ 1727 ذ³. ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ½ذ¾ – ذ´ذ¾ذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ؟ذµر€ذµذ½ذµرپر‚ذ¸ ر†ذµذ½ر‚ر€ ر‚رڈذ¶ذµرپر‚ذ¸ ذ؟ر€ذµذ¾ذ´ذ¾ذ»ذµذ½ذ¸رڈ رپذ¾ر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾رچذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ¼ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ر€ذ¸ذ·ذ¸رپذ°9 رپ رƒر€ذµذ·ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ°رپرپذ¸ذ³ذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¹ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹, ذ° ذ·ذ°ذ¾ذ´ذ½ذ¾ ذ¸ ذگذ´ذ¼ذ¸ر€ذ°ذ»ر‚ذµذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ³ذ¸رڈذ¼ ذ½ذ° ذ»ذ¸ذ؛ذ²ذ¸ذ´ذ°ر†ذ¸رژ آ«ذ¸ذ·ذ»ذ¸رˆذ½ذ¸ر… ذ؛ذ¾ذ½ر‚ذ¾ر€ ذ¸ ذ؛ذ°ذ½ر†ذµذ»رڈر€ذ¸ذ¹آ» ذ½ذµذ¼ذµذ´ذ»ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¸ رپذ¾ذ²ذµر€رˆذµذ½رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ½ذ°ذ»ذ¾ذ³ذ¾ذ¾ذ±ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ (ذ²ذ¼ذµرپر‚ذµ رپ ذ¼ذ¾ذ½ذµر‚ذ½ذ¾ذ¹ رچذ¼ذ¸رپرپذ¸ذµذ¹ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ¾ر‰ر€ذµذ½ذ¸ذµذ¼ آ«ذ؛ذ¾ذ¼ذ¼ذµر€ر†ذ¸ذ¸آ») ذ² ذ؟ذµر€رپذ؟ذµذ؛ر‚ذ¸ذ²ذµ. ذ£ذ±ذµذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ² ذ؟ر€ذ¸ذ±ر‹ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸ آ«رپر‡ذµر‚ذ°آ» ذ؟ر€ذ¾رˆذ»ر‹ر… ذ²ر‹ذ؟ذ»ذ°ر‚ ذ¸ رپر‚ذ¾ذ»رŒ ذ¶ذµ ذ؟ر€ذ¾رپر‚ذ¾ذ¼, ذ؛ذ°ذ؛ ذ·ذ°ذ¼ذµذ½ذ° ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ر‡ذ¸ذ½ذ¾ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ذ° 1719 ذ³. ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ²ر‹ذ¼ذ¸ ذ²ذ¾ذµذ²ذ¾ذ´ذ°ذ¼ذ¸, آ«رƒذ½ذ¸ر‡ر‚ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸ذ¸آ» ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¾رپر‚ذ¾رڈر‰ذ¸ر… ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ²ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذ¸ 1720 ذ³. ذ´ذµر€ذ¶ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ´ذ¾ذ»رŒرˆذµ, ذ²ذ؟ذ»ذ¾ر‚رŒ ذ´ذ¾ رپذ»ذ°ذ±ر‹ر… ذ¾ر‚ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ² ذ² رƒذ؛ذ°ذ·ذµ ذ½ذµرپذ¾رپر‚ذ¾رڈذ²رˆذµذ¹رپرڈ ذ’ذ¾ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ 1729 ذ³.10 ذ’ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذµ ذ¶ذµ 1727 ذ³. ذ¾ذ½ذ¸ ذ²ر‹ر€ذ°ذ·ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ² ذ¾ذ±رٹرڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ¾ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ آ«ذ¾ذ± ذ¾ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ°ر… ذ¸ ر€ذ°رپر…ذ¾ذ´ذ°ر… ذ´ذ²رƒر… ذ²ذ¾ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ³ذ¸ذ¹, ذ¼ذ¾ر€رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ رپرƒر…ذ¾ذ؟رƒر‚ذ½ذ¾ذ¹آ», ذ° ذ؟ر€ذ¸ ذµذµ ر€ذ°ذ·ذ´ذ²ذ¾ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ½ذ° ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸رژ آ«ذ؛ذ°ذ؛ رƒذ´ذ¾ذ±ذ½ذµذµ ذ؟ذ¾ذ´ذ°ر‚ذ¸ ذ؟ذ»ذ°ر‚ذ¸ر‚رŒآ» ذ؛ذ½. ذ”.ذœ. ذ“ذ¾ذ»ذ¸ر†ر‹ذ½ذ° ذ¸ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸رژ آ«ذ¾ ر€ذ°رپرپذ¼ذ¾ر‚ر€ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذ¸ ر„ذ»ذ¾ر‚ذ°آ» ذگ.ذ’. ذœذ°ذ؛ذ°ر€ذ¾ذ²ذ° – ذ² ذ½ذ°ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ² ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰رŒ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذµذ¼رƒ, ذ½ذ°ذ²ذµر€ذ½ذ¾ذµ, ذ´ذ»رڈ آ«رپذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ°آ» ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¾-ر€ذ°رپر…ذ¾ذ´ذ½ر‹ر… آ«ذ²ذµذ´ذ¾ذ¼ذ¾رپر‚ذµذ¹آ» ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ذ±ذµر€-رپذµذ؛ر€ذµر‚ذ°ر€رڈ ذ،ذµذ½ذ°ر‚ذ° ذگ.ذ،. ذœذ°رپذ»ذ¾ذ²ذ°.
ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ذ² ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ±ذ»ذ¸ذ·ذ؛ذ¾ذ¼ ذ؛ ر€ر‹ر‡ذ°ذ³ذ°ذ¼ رپذ¾ذ±رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ آ«ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈآ» ذ؛ر€رƒذ³رƒ, ذ³ذ´ذµ ر‚ذ°ذ½ذ´ذµذ¼ ذگ.ذک. ذرپر‚ذµر€ذ¼ذ°ذ½ذ° ذ¸ ذگ.ذ’. ذœذ°ذ؛ذ°ر€ذ¾ذ²ذ° ذ¾ذ±ر€ذ¸رپذ¾ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ²ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµ ذ¾ر‚ر‡ذµر‚ذ»ذ¸ذ²ذ¾, ذ¸ذ»ذ»رژذ·ذ¸ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ¾ذ´ذ° ذ¸رپر‡ذµذ·ذ»ذ¸ ذµر‰ذµ ذ½ذ° ذ¸رپر…ذ¾ذ´ذµ 1726 ذ³. ذ’ ذ¸ر… آ«ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸ذ¸آ» ذ¾ر‚ 18 ذ½ذ¾رڈذ±ر€رڈ, ذ´ذ°ذ²ذ½ذ¾ ذ°ر‚ر€ذ¸ذ±رƒر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¼ ذ؛ذ°ذ؛ ذ»ذµذ³رˆذµذµ ذ² ذ¾رپذ½ذ¾ذ²رƒ ر†ذµذ»ذ¾ذ¹ رپذµر€ذ¸ذ¸ ذ·ذ½ذ°ذ؛ذ¾ذ²ر‹ر… رƒذ؛ذ°ذ·ذ¾ذ² ذ•ذ؛ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ½ر‹ I رڈذ½ذ²ذ°ر€رڈ – ر„ذµذ²ر€ذ°ذ»رڈ 1727 ذ³.11, رƒذ¶ذµ ذ؟ر€ذ¾رپذ¼ذ°ر‚ر€ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¾رپرŒ رƒذ²رڈذ·ر‹ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ آ«ر€ذ°رپرپرƒذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ذµآ» رپ رƒذ؟ذ¾ر€رڈذ´ذ¾ر‡ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذµذ³ذ¾ ر„ذ¸ذ½ذ°ذ½رپذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ (ر…ذ¾ر‚رڈ ذ±ر‹ ذ؟ذ¾ ذ؛ذ°ذ؛ذ¾ذ¹-ر‚ذ¾ ذ¸ذ· ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذµذ¹) ذ¸ آ«ذ¸رپذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¹آ» ذ؛ذ°ذ؛ ذ² ذ¸ذ½ر„ر€ذ°رپر‚ر€رƒذ؛ر‚رƒر€ذµ, ر‚ذ°ذ؛ ذ¸ ذ² رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذ°ر… رپذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ¸رڈ ذ±ذ¾ذµرپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ½ذ¾رپر‚ذ¸.
ذک ذµرپذ»ذ¸ ذ´ذ°ذ¶ذµ ر‚ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ رپذ¼ذµر‰ذµذ½ذ¸ذµ ذ°ذ؛ر†ذµذ½ر‚ذ¾ذ² ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ؛ذ°ذ؛ رƒرپر‚رƒذ؟ذ؛رƒ ذ؟ر€ذ¸رپذ¾ذµذ´ذ¸ذ½ذ¸ذ²رˆذµذ¼رƒرپرڈ ذ؛ آ«ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸رژآ» ذگ.ذ”. ذœذµذ½رˆذ¸ذ؛ذ¾ذ²رƒ, ر‚ذ¾ ذ² ذ؟ذ¾ذ·ذ´ذ½ذµذ¹رˆذ¸ر… ذ·ذ°ذ¼ذµر‚ذ؛ذ°ر… ذگ.ذ’. ذœذ°ذ؛ذ°ر€ذ¾ذ²ذ°, رپ ذ¾ر‚ذ؛ر€ذ¾ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ²ر€ذ°ذ¶ذ´ذµذ±ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ²ر‹ذ؟ذ°ذ´ذ°ذ¼ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ² آ«ذ±ر‹ذ²رˆذµذ³ذ¾ ذ؛ذ½رڈذ·رڈآ», ر‚ذ¾ذ¶ذµ ذ½ذµر‚ رƒذ؟ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¹ ذ½ذ° ذ²ذ¾ذ·ذ²ر€ذ°ر‰ذµذ½ذ¸ذµ ذ؟ر€ذ¸رپذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ذ¼ (ذ¸ذ»ذ¸ ذµذ³ذ¾ ذ²ذµذ´ذ¾ذ¼رپر‚ذ²ذ¾ذ¼) ذ² ذ؛ذ°ذ·ذ½رƒ. ذ’رپذµ ذ½ذ°ذ´ذµذ¶ذ´ر‹ ذ½ذ° ذµذµ ذ±رƒذ´رƒر‰ذµذµ ذ؟ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸ذµ ر„ذ¾ذ؛رƒرپذ¸ر€رƒرژر‚رپرڈ ذ²ذ¾ذ؛ر€رƒذ³ آ«ذ²ذ°ذ؛ذ°ذ½رپذ°آ» آ«ذ²ذµر‰ذµذ¹آ» ذ¸ ذ¾ر„ذ¸ر†ذµر€رپذ؛ذ¸ر… ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹, ذ±ذµذ· ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ±ر‹ ذ¾ذ±ذ¾ذ¹ر‚ذ¸رپرŒ آ«ذ²ذ¾ذ²رپذµآ», ذ»ذ¾رˆذ°ذ´ذµذ¹ ذ¸ ذ½ذ¸ذ¶ذ½ذ¸ر… ر‡ذ¸ذ½ذ¾ذ², ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ±ر‹ ذ±ذµذ·ذ±ذ¾ذ»ذµذ·ذ½ذµذ½ذ½ذ¾ آ«ذ؟ر€ذ¸ذ±ذ°ذ²ذ¸ر‚رŒ, ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ؟ذ¾ذ½ذ°ذ´ذ¾ذ±رڈر‚رپرڈ ذ؛ ذ؟ذ¾ر…ذ¾ذ´رƒآ»12. ذگ رپر€ذ°ذ²ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ رپ ذ¢ذ°ذ±ذµذ»رŒرژ 1712 ذ³. ر€ذ°رپر‡ذµر‚ر‹ ذ؟ذ¾ ذ¾ر‚ر‹رپذ؛ذ°ذ½ذ¸رژ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ آ«ذ²ذ°ذ؛ذ°ذ½رپذ°آ» ذ²ذµذ´رƒر‚رپرڈ, ذ¸ذ¼ذµرڈ ذ² ذ²ذ¸ذ´رƒ ذ¾ذ´ذ½رƒ ذ¢ذ°ذ±ذµذ»رŒ 1720 ذ³., ذ؛ذ°ذ؛ ذ½ذµذ؟ر€ذµذ»ذ¾ذ¶ذ½رƒرژ ذ؛ آ«ر…ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ¸رژآ» ذ´ذ»رڈ ذ؟ر€ذ¾ر‡ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذ¾ذ´ذµذ»ذ¸.
ذںذ¾ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ·ذ°ذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ´ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ» ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ²ذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ½ر‹ر… رپذ¸ذ» ذ½ذ° ذ؛ذ°ر‚ذµذ³ذ¾ر€ذ¸ذ¸ (ذ؟ذ¾ ر€ذ¾ذ´رƒ رپذ»رƒذ¶ذ±ر‹, ذ½ذ°ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸رڈ, ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ) ذ¸ ر‡ذ°رپر‚ذ¸ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ° ذ¸ ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ – آ«رˆر‚ذ°ر‚ر‹آ» – ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ذ¾ذ´ذ»ذ¸ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر„رƒذ½ذ´ذ°ذ¼ذµذ½ر‚ذ° ر€ذµذ³رƒذ»رڈر€ذ½ذ¾ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ²ذ¼ذµرپر‚ذµ ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·رƒرژر‰ذµذ³ذ¾ رچذ»ذµذ¼ذµذ½ر‚ذ° ذ±رژذ´ذ¶ذµر‚ذ° ذ¸ ذ²رپذµذ¹ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ر€رƒذ؛ر‚رƒر€ر‹ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ؟ر€ذ¸رپرƒر‰ذµ ذ²ذµر€ر…ذ¾ذ²ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذ»ذ°رپر‚ذ¸ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¸ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ر‡ذµر‚ذ²ذµر€ر‚ذ¸ XVIII ذ². ذںر€ذµذ´ذ؟ر€ذ¸ذ½رڈر‚ر‹ذ¹ ذ² ذ؛ذ¾ذ½ر†ذµ 1719 – ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذµ 1720 ذ³ذ³. ذ¸ر… ذ؟ذµر€ذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€, ذ؛ذ°ذ؛ ذ°ذ؛ر†ذ¸رڈ ذ¾ذ±ر‰ذµذ¸ذ¼ذ؟ذµر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸رڈ, ذ¾ر€ذ¸ذµذ½ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»رپرڈ, رپ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹, ذ½ذ° ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ ذ°ذ´ذ¼ذ¸ذ½ذ¸رپر‚ر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾-ر„ذ¸ذ½ذ°ذ½رپذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ رپر‚ر€ذ¾رڈ (رپ 1711/1712 ذ³. ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»رڈذ²رˆذµذ³ذ¾رپرڈ رƒر‡ر€ذµذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ³رƒذ±ذµر€ذ½ذ¸ذ¹ رپ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ² ذ¸ر… ذ¾ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ´ذ¾ر…ذ¾ذ´ذ°ذ¼ذ¸) ذ½ذ° ر€ذµذ»رŒرپر‹ ذ؟ذ¾ذ´رƒرˆذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ´ذ°ر‚ذ¸ ذ¸ آ«ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ¶رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾آ» ر€ذ°ذ·ذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر‡ذµذ½ذ¸رڈ ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذµر‚ذµذ½ر†ذ¸ذ¹ ذ² ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر†ذ¸ذ¸.
ذ، ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹, رƒر‚ذ¾ر‡ذ½ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»رƒ آ«ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ رˆر‚ذ°ذ±ذ°آ», ذ؟ر€ذµذ²ر€ذ°ر‰ذµذ½ذ¸ذµ ذ² آ«ر‚ذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ذµآ» ر€رڈذ´ذ° آ«ذ²ذ½ذµرˆر‚ذ°ر‚ذ½ر‹ر…آ» ذ·ذ°ر‚ر€ذ°ر‚ ذ½ذ° ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ذµ آ«ذ؟ر€ذ¸ذ؟ذ°رپر‹آ», ذ¸ذ½ر‚ذµذ½ر†ذ¸رڈ ذ؛ رƒر€ذ°ذ²ذ½ذµذ½ذ¸رژ آ«ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾آ» ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ²ذ°ذ½رŒرڈ رپ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¸ذ¼ آ«ذ¸ذ½ذ¾ذ·ذµذ¼ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼آ» ذ¸ رƒذ¼ذµذ½رŒرˆذµذ½ذ¸رژ رƒذ´ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذµرپذ° ر‚ذ°ذ؛ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµذ¼ر‹ر… ذ½ذµرپر‚ر€ذ¾ذµذ²ر‹ر… رپذ¾ذ¾ر‚ذ²ذµر‚رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¸ذ½ذ¾ذ¼رƒ رƒر€ذ¾ذ²ذ½رژ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ر€ذµر„ذ¾ر€ذ¼ ر‚ذµذ؛رƒر‰ذµذ³ذ¾ ذ´ذµرپرڈر‚ذ¸ذ»ذµر‚ذ¸رڈ. (ذںذ¾ر‡ذµذ¼رƒ ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ رƒر‚ذ²ذµر€ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذ¸, ذ؛ذ°ذ؛ ذ¸ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¹, رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼ ذ؟ذµر€رپذ¾ذ½ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ¸ذ·ذ±ر€ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€ذµذ¼ ذ»ذ¸ر†, ذ½ذ¾ رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼, ذ¸ذ½رپر‚ذ¸ر‚رƒذ°ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¼ ذ² ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸رژ ذ؟ر€ذ¸ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ³ذ¸ذ¸, ذ³ذ´ذµ ذµذµ ر‚ذµذ؛رپر‚ ذ²ذ¼ذµرپر‚ذµ رپ ذ½ذ¸ذ¼ ذ؟ذ¾ذ´ذ؟ذ¸رپذ°ذ»ذ¸ 18 ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»ذ¾ذ², ذ±ر€ذ¸ذ³ذ°ذ´ذ¸ر€ذ¾ذ² ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ²).
ذکذ´ذµرڈ ذ¶ذµ ر‚ر€ذµر‚رŒذµذ¹ ذ؟ذ¾ رپر‡ذµر‚رƒ ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذ¸ ر€ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ°رپرŒ ذ² ذ³ذ¾ر€رڈر‡ذ؛ذµ ذ±ذ¾رڈذ·ذ½ذ¸ ذ»ذ¸رˆذ¸ذ²رˆذµذ¹رپرڈ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ذ»ذµر‚ذ½ذµذ³ذ¾ ذ½ذ°ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ»ذ¸ذ´ذµر€ذ° رچذ»ذ¸ر‚ر‹ ذ³ذ¸ذ±ذµذ»ذ¸ آ«رپذ¾ذ»ذ´ذ°ر‚ذ°آ» ذ±ذµذ· ذ¸ذ·ذ½ذµذ¼ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ°ذ¼ذ¸ آ«ذ؛ر€ذµرپر‚رŒرڈذ½ذ¸ذ½ذ°آ» ذ¸ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ¸ذ¸ ذ±ذµذ· آ«رپذ¾ذ»ذ´ذ°ر‚ذ°آ». ذذµ ذ؟ر‹ر‚ذ°رڈرپرŒ رپرƒذ´ذ¸ر‚رŒ ذ¾ذ± ذ¾ذ±ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ رچر‚ذ¸ر… رپر‚ر€ذ°ر…ذ¾ذ²13, ذ½ذ°ذ؟ذ¾ذ¼ذ½ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ذ¾ رƒذ؟رƒرپذ؛ذ°ذµذ¼ر‹ذ¹ ر„ذ°ذ؛ر‚, ر‡ر‚ذ¾ ر€ذ°رپر…ذ¾ذ´ر‹ ذ؟ذ¾ ذ½ذ¾ر€ذ¼ذ°ذ¼ 1720 ذ³., ذ¾ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ¾ر‡ذµذ½ذ½ذ¾ رپذ؟ذ¾ر€ذ¸ذ»ذ¸ آ«ذ²ذµر€ر…ذ¾ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ¸آ», ذ²ذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµ, ذ·ذ° ذµذ´ذ¸ذ½ذ¸ر‡ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¸رپذ؛ذ»رژر‡ذµذ½ذ¸رڈذ¼ذ¸, ذ½ذµ ذ¾ر‚ذ؛ر€ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ14. ذ ذ°ذ·رƒذ¼ذµذµر‚رپرڈ, ذ¸ آ«ذ´ذ²ذ¾ذµذ·ذ°ذ؛ذ¾ذ½ذ¸ذµآ» ذ؟ذ»ذ°ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¼ذ¸ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ذ¾ذ²ر‹ر… ذ½رƒذ¶ذ´ ذ؟ذ¾ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذ¸ رپ رƒذ´ذ¾ذ²ذ»ذµر‚ذ²ذ¾ر€ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ؟ذ¾ ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذ¹ ذ½ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¾ آ«ذ؟ذ¾ر€رڈذ´ذ¾ر‡ذ½ر‹ذ¼آ», ذ¸ ذ·ذ°ذ±ذ¾ر‚ر‹ ذ¾ذ± رچذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ¼ذ¸ذ¸ ذ؛ذ°ذ·ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ´ذµذ½ذµذ³ ذ¾رپر‚ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ½ذµذ¸ذ·ذ±ر‹ذ²ذ½ر‹ذ¼ذ¸.
ذذ¾ ذ´ذ»رڈ ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ذ° ذ¾ر‚ رپذ»ذ¾ذ² ذ؛ ذ´ذµذ»رƒ ذ؛ذ°ذ؛ ر€ذ°ذ· ذ² 1730 ذ³. ر€ذµرˆذ°رژر‰ذµذ¹ رپر‚ذ°ذ»ذ°, ذ؟ذ¾ذ»ذ°ذ³ذ°ذµذ¼, ذ¾ذ±رٹذµذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ°رڈ ذ·ذ°ذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ¼ذµر€ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؟ذ¾ذ´ر‚رڈذ³ذ¸ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸. ذںذ¾ذ¼ذ¸ذ¼ذ¾ ذ¾ر…ر€ذ°ذ½ر‹ ذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر† ذ¾ذ½ذ° ذ°ذ؛ذ؛رƒذ¼رƒذ»ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ° ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ذµذ¹رˆذ¸ذµ ذ´ذµذµرپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ½ر‹ذµ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ؟ر€ذ°ذ²رڈر‰ذµذ³ذ¾ ذ؛ذ»ذ°رپرپذ° ذ¸ ذ؟ذ¸ر‚ذ°ذ»ذ° رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ°ذ؟ذ؟ذ°ر€ذ°ر‚ – ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ½ذ¸ذ؛ آ«ذ¾ذ±ر‰ذµذ³ذ¾ ذ±ذ»ذ°ذ³ذ°آ», ذ´ذ¾ رپر‚ذµذ؟ذµذ½ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذ¸ر‚ذ¾رپر‚ذ¸ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ°ذ؟ذ؟ذ°ر€ذ°ر‚ذ°. ذذ½ ذ¶ذµ ذ؛ذ°ر€ذ´ذ¸ذ½ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ رƒذ؛ر€ذµذ؟ذ¸ذ»رپرڈ رپ ذ·ذ°ذ²ذµر€رˆذµذ½ذ¸ذµذ¼ ر‚ذµذ؟ذµر€رŒ ر‚ر€ذµر…رپر‚رƒذ؟ذµذ½ر‡ذ°ر‚ذ¾ذ¹ ذ°ذ´ذ¼ذ¸ذ½ذ¸رپر‚ر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾-ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذµر€ذ°ر€ر…ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ²ر‹رˆذµذ½ذ¸ذµذ¼ رچر„ر„ذµذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رƒذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ¾رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ر€ذµر„ذ¾ر€ذ¼ر‹ 1727 ذ³., ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´رپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ»ذ¸رˆرŒ رپذµذ¹ر‡ذ°رپ ذ½ذ°ر‡ذ¸ذ½ذ°رژر‚ ر€ذ°رپذ؛ر€ر‹ذ²ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ² ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ذ¸15.
ذ’ر‹رپرˆذ°رڈ ذ±رژر€ذ¾ذ؛ر€ذ°ر‚ذ¸رڈ, رپر€ذ°ذ·رƒ رƒذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ² ذ؟ر€ذ¸ذ·ذ½ذ°ذ؛ذ¸ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ رƒرپذ؟ذµر…ذ°, ر€ذµرˆذ¸ذ»ذ°رپرŒ ذ¸ ذ½ذ° ذ²ذ½ذµذ´ر€ذµذ½ذ¸ذµ ر€ذ°ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸, ذ¾رپذ²ذ¾ذ±ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¾ر‚ ذ½ذµذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ°ر‚ر€ذ¸ذ±رƒر‚ذ¾ذ² ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ³ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸, ذ½ذ° ر†ذµذ½ر‚ر€ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذµ رƒر‡ر€ذµذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ،ذµذ½ذ°ر‚, ذ° ذ؟ذµر€ذµذ¼ذµذ½ذ° ذ½ذ° ذ؟ر€ذµرپر‚ذ¾ذ»ذµ رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ»ذ° رƒذ´ذ¾ذ±ذ½ر‹ذ¹ ذ¼ذ¾ذ¼ذµذ½ر‚, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذµذ´ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذ´ذ»رڈ ذ؟ذ¾ذ´رپر‚رƒذ؟ذ° ذ؛ ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذ¸ ذ² رƒذ¶ذµ ذ°رƒر‚ذµذ½ر‚ذ¸ر‡ذ½ذ¾ذ¹ ذ´ذ»رڈ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¸ر‚رƒذ°ر†ذ¸ذ¸. ذ،ذ²ذ¾ذ´ذ؛ذ° ذگ.ذ’. ذœذ°ذ؛ذ°ر€ذ¾ذ²ر‹ذ¼ ذ² 21 ذ»ذ¸رپر‚ ذ²ر‹ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ¾ذ؛, آ«ر‡ر‚ذ¾ ذ؟ذ¾ ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذ¸ 720 رƒذ±رƒذ´ذµر‚ ذ»رژذ´ذµذ¹, ذ»ذ¾رˆذ°ذ´ذµذ¹, ذ²ذµر‰ذµذ¹ ذ¸ ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ر‚ ذ؟ر€ذ¸ذ±ذ°ذ²ذ؛ذ¸ رپر€ذ¾ذ؛ذ° ذ²ذµر‰ذµذ¹ ذ¾رپر‚ذ°ذ½ذµر‚رپرڈ ذ´ذµذ½ذµذ³ ذ² ذ؛ذ°ذ·ذ½رƒآ»16, ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ° رپذ»رƒذ¶ذ¸ر‚رŒ ر…ذ¾ر€ذ¾رˆذ¸ذ¼ ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¾ذ¼ ذ² ذ؟ذ¾ذ»رŒذ·رƒ ذ²رپذµر… ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ½ذ¾ذ²رˆذµرپر‚ذ², ذ² آ«ذ؟ذ°ذ؛ذµر‚ذµآ» رپ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¼ذ¸ رƒذ؛ذ°ذ· ذ¾ ذ’ذ¾ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ¸ذ» ذ² ذ،ذµذ½ذ°ر‚17. ذگ رپذ°ذ¼ذ° ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸رڈ, ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ±ر€ذ°ذ²رˆذµذ¹رپرڈ آ«ذ·ذ° ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµآ» ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذ¸ 1720 ذ³., ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ¸ذ»ذ° ذ¸ ذ؟ذ¾ر‡ذ²رƒ ذ؟ذ¾ذ´ ذ½ذ¾ذ³ذ°ذ¼ذ¸, رپذ¾ذ؟ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ¸ذ¼رƒرژ رپ ر‚ذ¾ذ¹, ذ½ذ° ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ آ«رˆر‚ذ°ر‚ر‹آ» ذ²ر‹رپر‚ر€ذ°ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ رپ 1710-ر… ذ³ذ³., ذ¸ ذ´ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ¸ذ¼ذ؟رƒذ»رŒرپ ذ؛ ر€ذ°رپذ؟ر€ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ¸رژ آ«رƒر‡ذµر‚ذ° ذ¸ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ¾ذ»رڈآ» ذ½ذ° ذ½ذµذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ ذ¾ر…ذ²ذ°ر‡ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ¸ذ¼ذ¸ رپذµذ³ذ¼ذµذ½ر‚ر‹ ذ°ر€ذ¼ذµذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¶ذ¸ذ·ذ½ذ¸.
ذ¢ذ°ذ؛ ر‡ر‚ذ¾ رپ آ«ذ³ذ»ذ°ذ²ذ°ذ¼ذ¸آ» ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذ¸ ذ±ذµذ·رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ½ذ¾ رپذ¾ذ²ذ؟ذ°ذ´ذ°ذ»ذ¸ ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذµ 8 آ«ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ¾ذ²آ» ذ؟ر€ذ¾ذ³ر€ذ°ذ¼ذ¼ر‹ ذ¾ر‚ 1 (8) ذ¸رژذ½رڈ 1730 ذ³.: ذ¾ ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»ذ¸ر‚ذµر‚ذµ ذ؟ر€ذ¸ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸; ذ¾ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¼ ذ¸ ر€ذ¾ر‚ذ½ذ¾ذ¼ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ آ«ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذµآ» ذ¸ ذ³ذ°ر€ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ½ذ°ر…; ذ¾ذ± ذ¾ر„ذ¸ر†ذµر€رپذ؛ذ¾ذ¼ ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذµ; ذ¾ ذ½ذµرپر‚ر€ذ¾ذµذ²ر‹ر… ر‡ذ¸ذ½ذ°ر… (آ«ذ½ذµرپذ»رƒذ¶ذ°ر‰ذ¸ر…آ»); ذ¾ ذ´ر€ذ°ذ³رƒذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´رٹذµذ¼ذ½ر‹ر… ذ»ذ¾رˆذ°ذ´رڈر…; ذ¾ ذ¼رƒذ½ذ´ذ¸ر€ذµ; ذ¾ ر€رƒذ¶رŒذµ, ذ°ذ¼رƒذ½ذ¸ر†ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ر… آ«ذ²ذµر‰ذ°ر…آ»; ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ°ذ½ر‚ذµ ذ¸ ر„رƒر€ذ°ذ¶ذµ; ذ¾ ذ´ذµذ½ذµذ¶ذ½ذ¾ذ¼ ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ²ذ°ذ½رŒذµ.
آ«ذںرƒذ½ذ؛ر‚ر‹آ» ذ¶ذµ 9?15 ذ؟ذµر€ذµر‡ذ¸رپذ»رڈذ»ذ¸ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ر‹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ر€ذ°ذ½رŒرˆذµ ذ½ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¾. ذک رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذµذ¹رˆرƒرژ ر€ذ¾ذ»رŒ ذ¾ر‚ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¸ ذ½ذ°ذ»ذ°ذ¶ذ¸ذ²ذ°ذ½ذ¸رژ آ«ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ°ر…… رپر‡ذµر‚ذ¾ذ²آ», ذ° ذ³ذ°ر€ذ°ذ½ر‚ذ¸ذµذ¹ آ«ذ½ذµذ½ذ°ر€رƒرˆذ¸ذ¼ذ¾رپر‚ذ¸آ» ذ²ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ر‹ر… ذ²ر‹رˆذµذ¸ذ·ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ آ«ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ°ذ¼ذ¸آ» رƒرپر‚ذ¾ذµذ² ذ²ر‹رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذ»ذ¸ ذ¾ذ±رڈذ·ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ²ذµرپذµذ½ذ½ذ¸ذµ ذ¸ ذ¾رپذµذ½ذ½ذ¸ذµ آ«ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذµ رپذ¼ذ¾ر‚ر€ر‹آ» (آ«ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ر‹آ» 9–10). ذگ ذ·ذ°ر‚ذµذ¼ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ, ر‡ذµذ¼ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ¸ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ, آ«ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ر‹آ»: ذ¾ ذ½ذµرپذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾رپر‚رڈر… ذ² آ«رچذ؛ذ·ذµر€ر†ذ¸ر†ذ¸رڈر…آ» ذ؛ذ°ذ²ذ°ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ¸ذ½ر„ذ°ذ½ر‚ذµر€ذ¸ذ¸; ذ¾ رپذ¾ذ»ذ´ذ°ر‚رپذ؛ذ¸ر… ذ´ذµر‚رڈر…; ذ¾ آ«رˆر‚ذ°ر‚ذ°ر…آ» ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ¸ ر„ذ¾ر€ر‚ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸ذ¸; ذ¾ ذ³ذ¾رپذ؟ذ¸ر‚ذ°ذ»رڈر…; ذ¾ آ«ذ½ذµ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذµذ´ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ² ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾آ» ذ؟ذµر‚ر€ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ر… ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¾ذ²ر‹ر… آ«ذ°ر€ر‚ذ¸ذ؛رƒذ»ذ°ر…آ».
ذڑذ°ذ؛-ر‚ذ¾ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¼ذµذ½ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ·ذ´ذµرپرŒ ذ²ذµرپرŒ ذ؟ذµر€ذµر‡ذµذ½رŒ, ذ·ذ°ذ¼ذµر‡ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ رƒذ¶ذµ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¸ذ¼ رƒذ؛ذ»ذ°ذ´ر‹ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼ رپذ°ذ¼ر‹ر… رˆذ¸ر€ذ¾ذ؛ذ¸ر… ذ¼ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ°ر†ذ¸ذ¹ ذ² رپذ¶ذ°ر‚ر‹ذµ ر€ذ°ذ¼ذ؛ذ¸ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر€رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ°, ذ±ذµرپرپذ¼ر‹رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾. ذذ¾ ذ½ذµذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ´ذ¾ذ؟رƒرپر‚ذ¸ذ¼ر‹ذµ ذ¶ذ°ذ½ر€ذ¾ذ¼ رپر‚ذ°ر‚رŒذ¸ ذ¸ ذ½ذµ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذ¼ذ¸ ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ°ذ¼ذ¸ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ´ذ»رڈ ذ¾رپذ²ذµر‰ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸رڈ رپذ°ذ¼ذ¾ذ¹ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ ذ؛ ذµذµ ذ؟ر€ذ¸ذ·ذ²ذ°ذ½ذ¸رژ ذ´ذ°رژر‚ ذµذµ رپذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ذ²رˆذ¸ذµرپرڈ (رپ ذ½ذµذ؟ر€ذ¸ذ½ر†ذ¸ذ؟ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ»ذ°ذ؛رƒذ½ذ°ذ¼ذ¸) آ«ذ¶رƒر€ذ½ذ°ذ»ر‹آ»18. ذ¢ذ°ذ؛, ذ¸ذ· ذ½ذ¸ر…, ر…ذ¾ر‚رڈ ذ² ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذ½ر‹ذµ ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ر‹ ذ¸ ذ½ذµ ذ²ذ½ذ¾رپذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ؟ذ¾ذ´ر€ذ¾ذ±ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ر€ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ؟ذ¾ ذ؟ذ¾ذ²ذµرپر‚ذ؛ذµ ذ´ذ½رڈ, ذ¾ر‡ذµذ²ذ¸ذ´ذµذ½ ر€ذ¾رپر‚ آ«ذ·ذ°ذ½رڈر‚ذ¾رپر‚ذ¸آ» ر‡ذ»ذµذ½ذ¾ذ² آ«ذ؟ذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾آ» رپذ¾ذ·ر‹ذ²ذ° رپ ذµذ³ذ¾ ذ² رپر€ذµذ´ذ½ذµذ¼ ذ؟رڈر‚ذ¸ر‡ذ°رپذ¾ذ²ر‹ذ¼ذ¸, ذ¾ر‚ ذµذ¶ذµذ´ذ½ذµذ²ذ½ر‹ر… ذ´ذ¾ ذ½ذµ ر€ذµذ¶ذµ ر‡ذµر‚ر‹ر€ذµر… ر€ذ°ذ· ذ² ذ½ذµذ´ذµذ»رژ آ«رپرٹذµذ·ذ´ذ°ذ¼ذ¸آ» ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ² ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€ذ½ذ¾ ر‚ر€ذµر…ر‡ذ°رپذ¾ذ²ر‹ر…, رپ ذ؟ذµر€ذµر€ر‹ذ²ذ°ذ¼ذ¸ ذ² ذ¾ذ´ذ¸ذ½ – ر‚ر€ذ¸ ذ´ذ½رڈ, ذ² ذœذ¾رپذ؛ذ²ذµ.
ذ’ ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³ذµ ذ؟ر€ذ¸رپرƒر‚رپر‚ذ²رƒرژر‰ذ¸ذµ ذ؟ذ¾ر€رƒر‡ذ°رژر‚ ذ؛ذ°ذ½ر†ذµذ»رڈر€ذ¸ذ¸ ذ¸ آ«رپذ¾ر‡ذ¸ذ½رڈر‚رŒآ»19 ذکذ½رپر‚ر€رƒذ؛ر†ذ¸ذ¸ ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»-ذ؛ر€ذ¸ذ³رپ-ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ°ر€رƒ, ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»-ذ¸ذ½رپذ؟ذµذ؛ر‚ذ¾ر€ذ°ذ¼ ذ¸ ذ¸ر… ذ؟ذ¾ذ´ر‡ذ¸ذ½ذµذ½ذ½ر‹ذ¼20. ذگ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¸ذ· ذ½ذ¸ر… ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ´رڈر‚, ذ؟ر€ذ¸ ذ²رپذµر… ر€ذµذ´ذ°ذ؛ر†ذ¸رڈر… ذ¸ ذ؟ذµر€ذµذ¸ذ¼ذµذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈر…, رƒذ؛ذ¾ر€ذµذ½ذµذ½ذ¸ذµ ر‡رƒر‚رŒ ذ»ذ¸ ذ½ذµ ذ´ذ¾ 1860-ر… ذ³ذ³. ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ر…ذ¾ذ·رڈذ¹رپر‚ذ²ذ° ذ¸ ر€ذ°ذ²ذ½ذ¾ذ²ذµرپذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؛ر€ذ¸ر‚ذµر€ذ¸ذµذ² رپر‚ر€ذ¾ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ²ذµر‰ذµذ²ذ¾ذ¹ آ«ذ¸رپذ؟ر€ذ°ذ²ذ½ذ¾رپر‚ذ¸آ» ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ², ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ°رڈ ذ؛ 1810&ذ¼ ذ³ذ³. ذ±ر‹ذ»ذ° رƒرپذ²ذ¾ذµذ½ذ° ذ؛ذ°ذ؛ ذ½ذµر‡ر‚ذ¾ رپذ°ذ¼ذ¾ رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·رƒذ¼ذµرژر‰ذµذµرپرڈ21.
ذ،ذ¾ ذ·ذ½ذ°ذ¼ذµذ½ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ آ«ذ؟ر€ذµذ´ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸ذµذ¼آ», ذ²رپذ»ذµذ´رپر‚ذ²ذ¸ذµ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ رƒذ؛ذ°ذ·ذ¾ذ¼ ذ¾ر‚ 31 ذ¾ذ؛ر‚رڈذ±ر€رڈ 1730 ذ³. ذ³ر€ذ¾ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ°رپذ½ذ¾ ذ¾ر‚ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ² 1727 ذ³. ذ²ذ·ر‹رپذ؛ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ؟ذ¾ذ´رƒرˆذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ±ذ¾ر€ذ° رپذ¾ذ´ذµر€ذ¶ذ°ذ²رˆذ¸ذ¼ذ¸رپرڈ ذ½ذ° ذ½ذµذ³ذ¾ ذ²ذ¾ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ر‡ذ°رپر‚رڈذ¼ذ¸ ذ²ذµر€ذ½رƒذ»ذ¸ ذ¸ر… آ«ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ°ذ¼آ», ذ²ر‹رپر‚رƒذ؟ذ°ذ»ذ° (17 ذ°ذ²ذ³رƒرپر‚ذ°) ذ¸ آ«ذ¼ذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ°رڈآ» ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸رڈ22. ذںر€ذ°ذ²ذ´ذ°, آ«ر€ذ°رپرپذ¼ذ¾ر‚ر€ذµذ½ذ½ذ¾ذµآ» ذ²رپذµذ³ذ¾ ذ·ذ° ر‡ذ°رپ, ذ¾ذ½ذ¾ ذ²ر‹ذ³ذ»رڈذ´ذ¸ر‚ ذ؟ذ¾ذ؟ذ°ذ²رˆذ¸ذ¼ ر‚رƒذ´ذ° (3 ذ°ذ²ذ³رƒرپر‚ذ°) ذ¸ذ·ذ²ذ½ذµ, ذ؟ذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ذ¾, ذ²ذµر€ذ¾رڈر‚ذ½ذ¾, رƒر‚ر€ذ°ر‡ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ آ«ذ؟ر€ذ¾ذ¶ذµذ؛ر‚ذ°ذ¼آ» ذں.ذک. ذ¯ذ³رƒذ¶ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ‘.-ذ¥. ذœذ¸ذ½ذ¸ر… ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ» آ«رپذ»رƒرˆذ°ر‚رŒآ» 8 ذ¸رژذ»رڈ 1731 ذ³. 12 ذ¸رژذ»رڈ ر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ¶ذµ ذ³ذ¾ذ´ذ° ذ² ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸رژ ذ±ر‹ذ»ذ° ذ؟ذ¾رپذ»ذ°ذ½ذ° ذ¸ ذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ؛ ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ´ذ»ذµذ¶ذ°ر‰ذ°رڈ ذµذµ ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذµر‚ذµذ½ر†ذ¸ذ¸ ذکذ½رپر‚ر€رƒذ؛ر†ذ¸رڈ ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»ذ¸ر‚ذµر‚رƒ, ذ·ذ°ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ²رˆذµذ³ذ¾رپرڈ ذ½ذ°ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ¼ ذ»ذ°ذ½ذ´ذ¼ذ¸ذ»ذ¸ر†ذ¸ذ¸, ذ° 22 ذ´ذµذ؛ذ°ذ±ر€رڈ, ذ½ذ°ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ², ذ¾ذ±رٹرڈذ²ذ»ذµذ½ذ¾ (ر‡ذµر€ذµذ· ذ“.-ذک. ذ‘ذ¾ذ½ذ°) ذ؟ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ½رڈر‚ر‹ذ¼ ذ²ذ¾ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸ذµ آ«ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ°آ» 13 ذ¾ر‚ 1 (8) ذ¸رژذ½رڈ 1730 ذ³. آ«ذ²ذµذ´ذ¾ذ¼ذ¾رپر‚رڈذ¼ ذ¾ذ± ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸آ» ذ½ذ¸ر‡ذµذ³ذ¾ آ«ذ½ذµ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ¸ر‚رŒ, ذ؟ذ¾ذ½ذµذ¶ذµ ذ¾ذ½ر‹ذµ ذ؛… ذ¾ذ½ذ¾ذ¹ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ ذ½ذµ ذ؛ذ°رپذ°رژر‚رپرڈآ»23.
ذ،ذ¸ر‚رƒذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ°رڈ ذ؛ذ¾ر€ر€ذµذ؛ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ° ذ·ذ°ذ½رڈر‚ذ¸ذ¹ آ«رپذ²ذµر€ر…رƒآ» ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ° ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ر‚رŒرپرڈ ذ´ذ¾ رپذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ ذ¸ ذ²ذ¾ذ²رپذµ ذ±ذµذ· ذ·ذ°ذ؟ذ¸رپذµذ¹, ذ؛ذ°ذ؛, ذ؟ذ¾-ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼ذ¾ذ¼رƒ, ذ±ر‹ذ»ذ¾ رپ رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ؛ذ¾ذ¹ ذ½ذ° آ«ذ¼ذ¸ر€ذ½ذ¾-ذ²ذ¾ذµذ½ذ½رƒرژآ» ذ²ذ°ر€ذ¸ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ²رپذµذ³ذ¾, ذ° ذ½ذµ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ¾ذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ² رƒر‡ر€ذµذ´ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¼ ذ°ذ؛ر‚ذµ آ«ذ؛ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ رˆر‚ذ°ر‚ذ°آ». ذ”ذ»رڈ رپر‚ذ¸ذ»رڈ رƒذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ XVIII ذ². رچر‚ذ¾ ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ ذ¾ذ±ر‹ذ´ذµذ½ذ½ذ¾, ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ر‡ذ½ذ¾ رƒذ¶ذ¸ذ²ذ°ذµر‚رپرڈ رپ ر„ذµر‚ذ¸رˆذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذµذ¹ ذ²رپرڈذ؛ذ¸ر… آ«ر€ذµذ³ذ»ذ°ذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ²آ». ذذ½ذ¸ ذ¶ذµ, ذ² رپذ²ذ¾رژ ذ¾ر‡ذµر€ذµذ´رŒ, ذ؟ر€ذ¸ ذ²ذ½ذµرˆذ½ذµذ¹ ذ¶ذµرپر‚ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸, ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذµ رپر‚ذµرپذ½رڈذ»ذ¸ ذ±رƒذ؛ذ²ذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒرژ رپذ¾ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸رڈ.
ذ¢ذ°ذ؛, آ«ذ¼ذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ°رڈآ» ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸رڈ رپر‚ر€ذ¾ذ³ذ¾ رپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ° ذ·ذ° ذ؟ر€ذµذ°ذ¼ذ±رƒذ»ذ¾ذ¹ ذکذ½رپر‚ر€رƒذ؛ر†ذ¸ذ¸ آ«ذ؟ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ°ر‚رŒ ذ³ر€ذ°ذ´رƒرپذ°ذ¼ذ¸آ», ر‚ذ¾ ذµرپر‚رŒ ذ±ذµر€رڈرپرŒ ذ·ذ° ذ½ذ¾ذ²ر‹ذ¹ آ«ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚آ», ذ»ذ¸رˆرŒ رپذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ²رˆذ¸رپرŒ رپ ذ؟ر€ذµذ´ر‹ذ´رƒر‰ذ¸ذ¼, ذ½ذ¾ ذ½ذ°رپر‚ذ¾ذ¹ر‡ذ¸ذ²ذ¾ ذ´ذ¾ذ±ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ°رپرŒ آ«ذ؟ذ¾ذ²ذµذ»ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ر€ذµذ·ذ¾ذ»رژر†ذ¸ذ¹آ» ذ½ذ° ذ؛ذ°ذ؛ ذ±رƒذ´ر‚ذ¾ ذ½ذ¸ر‡رƒر‚رŒ ذ½ذµ ذ¾ر‚ذ؛ذ»ذ¾ذ½رڈرژر‰ذ¸ذµرپرڈ ذ¾ر‚ ذ·ذ°ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ر€ذ°ذ´ذ¸ذ³ذ¼ر‹ ذ·ذ°ذ؛ذ»رژر‡ذµذ½ذ¸رڈ. ذڑرپر‚ذ°ر‚ذ¸, ذ½ذµ ذ´ذ¾ذ¶ذ´ذ°ذ²رˆذ¸رپرŒ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ½ذ° ذ·ذ°ذ؟ر€ذ¾رپ ذ¾ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ°ر€ذ¸ذ°ر‚ذµ, ذ²ذ¾ذ·ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸رژ ذ½ذ° ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ 31 ذ¾ذ؛ر‚رڈذ±ر€رڈ 1730 ذ³., ذ½ذ°ر€رڈذ´رƒ رپ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¼ رپذ½ذ°ذ±ذ¶ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸, ذ؟ذ¾ذ´رƒرˆذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ±ذ¾ر€ذ° ذ¾ر‚ر‡ذ°رپر‚ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ¾ر€ذµر‡ذ¸ذ»ذ° ذµذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ذ´ر‡ذ¸ذ½ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؟ر€ذµذ·ذ¸ذ´ذµذ½ر‚رƒ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ³ذ¸ذ¸24. (ذ،ذ°ذ¼ذ¾رپر‚ذ¾رڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒ, ذ¸رپذ؛ذ¾ذ¼رƒرژ ذµر‰ذµ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذگ.ذ”. ذœذµذ½رˆذ¸ذ؛ذ¾ذ²ذ° ذ² 1727 ذ³., ذ“ذµذ½ذµر€ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذڑر€ذ¸ذ³رپ-ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ°ر€ذ¸ذ°ر‚ ذ¾ذ±ر€ذµر‚ذµر‚ 28 ذ¾ذ؛ر‚رڈذ±ر€رڈ 1731 ذ³. ذذ¾ رپذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ´ذµر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ¹ ذ؟ذµر€ذµر‚ذ°رپذ¾ذ²ذ؛ذ¸ ذ؟ر€ذµر€ذ¾ذ³ذ°ر‚ذ¸ذ² ر†ذµذ½ر‚ر€ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ¸ذ½رپر‚ذ¸ر‚رƒر‚ذ¾ذ² ذ½ذ° ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛ذµ ذ¾ذ؛ذ°ذ¶رƒر‚رپرڈ ذ½ذµرƒذ´ذ°ر‡ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ¾ذ؟رڈر‚رŒ ذ؟ذ¾ذ²ذ»ذµذ؛رƒر‚ ذ·ذ° رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹ ر€ذµذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸رژ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ°ذ؟ذ؟ذ°ر€ذ°ر‚ذ° 26 رڈذ½ذ²ذ°ر€رڈ 1736 ذ³.25).
ذںر€ذ¾ذ؟ذ¾ر€ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ر€ذ°رپذ؟ر€ذµذ´ذµذ»رڈرڈ ذ¸ذ·رٹرڈر‚ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ آ«ر‚ذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ رپر‚ذ°ر‚رŒرڈذ¼آ» ذ¾ ذ»رژذ´رڈر…, ذ»ذ¾رˆذ°ذ´رڈر… ذ¸ آ«ذ²ذµر‰ذ°ر…آ», ذ¾ذ½ذ° ذ¾ذ±ذµر‰ذ°ذ»ذ° رپذ¾ذ»ذ¸ذ´ذ½ر‹ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ²ر‹ذ¸ذ³ر€ر‹رˆ ذ´ذ»رڈ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ (ذ² ذ´ذ²رƒر… ذ²ذ°ر€ذ¸ذ°ذ½ر‚ذ°ر…) ذ¸ ذ¼ذ¸ر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ (125–143 / 180 ر‚ر‹رپ. ر€. ذ² ذ³ذ¾ذ´)26. ذ’ر‹رپر‡ذ¸ر‚ذ°ذ² ذµذ³ذ¾ ذ²رپذµذ³ذ¾ ذ·ذ° 4 ذ¼ذµرپرڈر†ذ°, ر‡ر‚ذ¾ ذ´ذµذ¼ذ¾ذ½رپر‚ر€ذ¸ر€رƒذµر‚ ذ²ر‹رپذ¾ر‡ذ°ذ¹رˆرƒرژ ذ؛ذ²ذ°ذ»ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸رژ ذ½ذµذ؟ذ¾رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ر€رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ²رˆذµذ³ذ¾ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ»ذ°ذ³ذ°ذµذ¼ر‹ر… ذ؛ ر‚ذµذ؛رپر‚ذ¾ذ²ر‹ذ¼ آ«ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸رڈذ¼آ» رپذ»ذ¾ذ¶ذ½ر‹ر… ر†ذ¸ر„ر€ذ¾ذ²ر‹ر… ر‚ذ°ذ±ذ»ذ¸ر† ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ¶رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ°رپذµرپرپذ¾ر€ذ° ذڑ.ذ’. ذœذ°ذ؛ذ°ر€ذ¾ذ²ذ°. ذ“ذ¾ر‚ذ¾ذ²رڈ ر‚ذ°ذ؛ذ¸ذµ ذ¶ذµ ذ´ذ»رڈ ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذ¸ 1720 ذ³. ذ² ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ رپذµذ؛ر€ذµر‚ذ°ر€رڈ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ ذ¾ ذ½ذµذ؟ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»ذ¸ر‚ذµر‚ذ° ذ¸ ذ²رپذµر… ذ²ذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ², ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ±ر€ذ°ر‚ ر‚ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ±ذ»ذ¸ذ·ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ ذ؟ر€ذµرپر‚ذ¾ذ»رƒ ذ»ذ¸ر†ذ°, ذ¾ذ½, رپرƒذ´رڈ ذ؟ذ¾ ذ²رپذµذ¼رƒ, ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذµذ½ ذ±ر‹ذ» ذ±ر‹ر‚رŒ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ»ذµر‡ذµذ½ ذ² ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸رژ 1727 ذ³. ذ¸ رƒر‡ذ°رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ» ذ² ذ¾ذ±رپرƒذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ؟ذµر€ذµرƒرپر‚ر€ذ¾ذ¹رپر‚ذ²ذ° ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ°ر€ذ¸ذ°ر‚ذ°, ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ذ؟ر€ذ°ذ²ذ½ر‹ذ¼ ر‡ذ»ذµذ½ذ¾ذ¼ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¾ رپر‚ذ°ذ» 6 ذ½ذ¾رڈذ±ر€رڈ 1731 ذ³.27.
ذذ°ر…ذ¾ذ´رڈ ذ² ذ»ذ¸ر†ذµ ذڑ.ذ’. ذœذ°ذ؛ذ°ر€ذ¾ذ²ذ° ذµر‰ذµ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ آ«ذ½ذµر€ذµذ³ذ»ذ°ذ¼ذµذ½ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾آ» ر€ذµر„ذ¾ر€ذ¼ذ°ر‚ذ¾ر€ذ°, ذ؛ رپذ¾ذ¶ذ°ذ»ذµذ½ذ¸رژ, ذ½ذµ ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ ذ² ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ°ر… ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ 1730 ذ³. رپذ»ذµذ´ذ¾ذ² آ«ذ·ذ°ر‰ذ¸ر‚ر‹آ» رپذ¾ذ±رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذµذ؛ر‚ذ° ذµذµ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر‡ذ»ذµذ½ذ° ذک.-ذ‘. ذڑذ°ذ¼ذ؟ذµذ³ذ°رƒذ·ذµذ½ذ°, ذ¾ر‚رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ¾ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذ؛ذ°ذ؛ ذ´ذ¾رˆذ»ذ° ذ¾ر‡ذµر€ذµذ´رŒ ذ´ذ¾ ذ²ر‹ر€ذ¾رپرˆذ¸ر… ذ¸ذ· ذµذ³ذ¾ آ«ذںر€ذµذ´ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸رڈآ» ذںذµر‚ر€رƒ 1722 ذ³. آ«ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ¾ذ²آ» 9–11. ذ•ذ³ذ¾ ذ²ذ؛ذ»ذ°ذ´ ذ² ذ؛ذ¾ذ½ر†ذµذ؟ر†ذ¸رژ ذ¸ذ·رƒر‡ذ°ذµذ¼ذ¾ذ¹ ر€ذµر„ذ¾ر€ذ¼ر‹ ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذµذµ ذ؟ر€ذ¸ر‡ذ°رپر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؛ ذ½ذµذ¹ ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ±ر‹ ر‚ذ¾ ذ½ذ¸ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذ³ذ¾28. ذ ذ¾ذ»رŒ ذ¶ذµ ذœ.ذœ. ذ“ذ¾ذ»ذ¸ر†ر‹ذ½ذ° ذ²ر‹رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ؟رƒر‚ذµذ¼ ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾ذ¾ر‚ذ½ذµرپذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذµذ¸ذ·ذ±ذµذ¶ذ½ر‹ر… ذ؟ذµر€ذµذ´ ذ¾ر‚ذ؛ر€ر‹ر‚ذ¸ذµذ¼ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ ذ؟ذµر€ذµذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€ذ¾ذ² رپ ذ½ذ¸ذ¼ ذ¸ ذ؟ذ¾رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ² رƒذ؛ذ°ذ·ذµ ذµذ¹ آ«ذ؟ذ¾ذ´ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ°آ» ذ¾ذ± رƒذ؟ر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ² 1725 ذ³. ذ³ر€ذµذ½ذ°ذ´ذµر€رپذ؛ذ¸ر… ر€ذ¾ر‚ذ°ر…, ر€ذ°ذ½ذµذµ ذ² ذ؛ذ°رپذ°رژر‰ذ¸ر…رپرڈ ذµذµ آ«ذ±رƒذ¼ذ°ذ³ذ°ر…آ» ذ½ذµ ر„ذ¸ذ³رƒر€ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ²رˆذ¸ر….
آ«ذ“ر€ذµذ½ذ°ذ´ذµر€رپذ؛ذ¸ذµآ» ر€ذ¾ذ؛ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ¸, ذ¾ر‚ ذ؛رƒذ»رŒر‚ذ¸ذ²ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¾رپذ¾ذ±ر‹ر… ر€ذ¾ر‚ ذ² ذ½ذµذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… رچذ»ذ¸ر‚ذ½ر‹ر… رپذ¾ذµذ´ذ¸ذ½ذµذ½ذ¸رڈر… ذ¸ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ر‡ر‚ذ¸ ذ²رپرژذ´رƒ, ذ¸ر… رپذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ² رپذ؟ذµر†ذ¸ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¸ ذ¸ذ»ذ¸ آ«ر€ذ°ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ؛ذ¸آ» ذ؟ذ¾ ر€ذ¾ر‚ذ°ذ¼ آ«ذ¾ر€ذ´ذ¸ذ½ذ°ر€ذ½ر‹ذ¼آ» (ذ؛ذ°ذ؛ ذ¸ ر€ذ¾ذ؛ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ¸ آ«ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ°ر€ذ¸ذ°ر‚رپذ؛ذ¸ذµآ»), ذ؟ر€ذ¾ذ½ذ¸ذ·ر‹ذ²ذ°رژر‚ ذ²ذµرپرŒ XVIII ذ².29. ذںذ¾رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ؟ذ¾ذ²رپذµذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾ذµ ذ²ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸ذµ ر‚ذ°ذ؛ذ¸ر… ر€ذ¾ر‚, ذ؟ر€ذµذ´ذ²ذ¾رپر…ذ¸ر‰ذ°ذµذ¼ذ¾ذµ ذ² آ«ذ³ذ¾ذ»ذ¸ر†ر‹ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹آ» ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ ذ¸ ذ°ذ½ذ½رƒذ»ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذµ ذ² آ«ذ¼ذ¸ذ½ذ¸ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذ¹آ», ذ»رژذ±ذ¾ذ؟ر‹ر‚ذ½ذ¾, ذ؟ر€ذµذ¸ذ¼رƒر‰ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾, ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚ذµذ»رŒ ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ر‚ذ²ذ¾ر€ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ؟ذ¾ر‚ذµذ½ر†ذ¸ذ°ذ»ذ¾ذ² ذµذµ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ¾ذ². ذکرپر…ذ¾ذ´رڈ ذ¸ذ· ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذ¸ 1720 ذ³. رپ ذµذµ 128 ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ر‹ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ³ذ°ر€ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ر‡ذ°رپر‚رڈذ¼ذ¸ (ذ·ذ° ذ²ر‹ر‡ذµر‚ذ¾ذ¼ ذ·ذ°ر€ذ°ذ½ذµذµ ذ؟ر€ذµذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ² ذ».-ذ³ذ². ذڑذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ ذ›ذµذ¹ذ±-ر€ذµذ³ذ¸ذ¼ذµذ½ر‚), ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذ¹ ذ؟ذ¾ذ´ر‡ذ¸ذ½ذ¸ذ» ذ¾ذ؟ذµر€ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذµذµ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ر€ذµرپرƒر€رپذ°ذ¼ذ¸ (ذ؛ر€ذ¾ذ¼ذµ رƒذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹ر… ذ½ذ°ذ¸ذ½ذ°ذ¼ذµذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¹) ذ¸ذ½ذ¸ر†ذ¸ذ°ر‚ذ¸ذ²ذµ ذ²ذ¾رپرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ³ر€ذµذ½ذ°ذ´ذµر€رپذ؛ذ¸ر… ر€ذ¾ر‚, ر…ذ¾ر€ذ¾رˆذ¾ ذ·ذ°ر€ذµذ؛ذ¾ذ¼ذµذ½ذ´ذ¾ذ²ذ°ذ²رˆذ¸ر… رپذµذ±رڈ ذ² ذ¼ذ¸ذ½رƒذ²رˆذµذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ذµ. ذ’ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ·ذ°رڈذ²ذ¸ذ» ذ¾ ذ½ذµذ¾ذ±ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾ر‚رپرƒر‚رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ²رˆذµذ¹ ذ؟ر€ذ¸ ذںذµر‚ر€ذµ ذ؛ذ¸ر€ذ°رپذ¸ر€رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ½ذ½ذ¸ر†ر‹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ°رڈ ذ؟ذ¾ر‚ذ¾ذ¼ ذ؟ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ²ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ°رپرŒ ذ¸ ذ±ذµذ· ذ‘.-ذ¥. ذœذ¸ذ½ذ¸ر…ذ° ذ¸ ذµذ³ذ¾ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ², ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ر‹ر… ذ´ذ»رڈ ذµذµ رƒرپذ؛ذ¾ر€ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ½ذ° رپذ»رƒذ¶ذµذ±ذ½ر‹ذµ ذ»رŒذ³ذ¾ر‚ر‹ ذ´ذ²ذ¾ر€رڈذ½رپر‚ذ²رƒ (ذ´ذ¾ 1736 ذ³. ذ؛ذ°ر‚ذµذ³ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ ذ¾ر‚ذ²ذµر€ذ³ذ°ذµذ¼ر‹ذµ ذ،ذµذ½ذ°ر‚ذ¾ذ¼).
ذ ذ°ذ´ذ¸ذ؛ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذµ ذ¾ر‚ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذµرپر‚ر€ذ¾ذµذ²ر‹ر… (ذ؛ ذ؟ذ°ر€ذ°ذ¼ذµر‚ر€ذ°ذ¼ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… 1720 ذ³., ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€ذ½ذ¾ ذ² 14 %, ذ²ذµر€ذ½رƒذ»ذ¸رپرŒ ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ذ¶ذµ 1736 ذ³.30) ذ¸ ذ²ذ¾ذ·ذ¼رƒرˆذ°ذ²رˆذµذµ ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»ذµذ¹ ذ؟ذ¾رپرڈذ³ذ°ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾ ذ½ذ° آ«ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»ذ¸ر‚ذµر‚رپذ؛ذ¸ذµآ» ر‡ذ¸ذ½ر‹ ذ¾ذ½ذ¸ رپذ¾ر‡ذµر‚ذ°ذ»ذ¸ رپ ذ½ذµ ذ¼ذµذ½ذµذµ ر€ذµرˆذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ (ذ¸ ر‚ذ¾ذ¶ذµ رپذµذ±رڈ ذ½ذµ ذ¾ذ؟ر€ذ°ذ²ذ´ذ°ذ²رˆذ¸ذ¼) رƒذ¼ذµذ½رŒرˆذµذ½ذ¸ذµذ¼ آ«ذ¾ذ±ذ¾ذ·ذ°آ» ذ¸ ذ؟ذµر€ذµذ؛ر€ذ°ذ¸ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼ ر‚ذ²ذµر€ذ´ر‹ر… ر†ذµذ½ ذ½ذ° ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ°ذ½ر‚ ذ¸ ر„رƒر€ذ°ذ¶, ر‡ر‚ذ¾ ذ¸ رپذ»ذ¾ذ¶ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ ذ² ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾/ذ¼ذ¸ر€ذ½ر‹ذµ آ«ذ²ر‹ذ³ذ¾ذ´ر‹آ» ذ¾ذ؛ذ¾ذ»ذ¾ 334/597 ر‚ر‹رپ. ر€.31. ذر‚ذ¸ ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾رپرƒذ»ر‹, ذ؟ذ¾ ذµذ´ذ¸ذ½ذ¾ذ´رƒرˆذ½ر‹ذ¼ ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ´ذ°ذ¼ رƒر‡ذµذ½ر‹ر… ذ¾رپر‚ذ°ذ²رˆذ¸ذµرپرڈ ذ½ذ° ذ±رƒذ¼ذ°ذ³ذµ, ذ¸ذ»ذ¸ رپرƒذ³رƒذ±ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ´ذ²ذ¾ر€ذ½ذ°رڈ ذ¾ذ±رپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ؛ذ° رپذ؛ذ»ذ¾ذ½ذ¸ذ»ذ¸ ذ؛ ذ¾ذ؛ذ¾ذ½ر‡ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ رƒر‚ذ²ذµر€ذ¶ذ´ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ 14 ذ¸رژذ»رڈ 1731 ذ³. آ«رˆر‚ذ°ر‚ذ°ذ¼آ» ذ² 32 ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ر‹ر… ذ¸ 4 ذ³ذ°ر€ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ½ذ½ر‹ر… ذ´ذµرپرڈر‚ذ¸ر€ذ¾ر‚ذ½ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ² ذ؛ذ°ذ²ذ°ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ رپ رچرپذ؛ذ°ذ´ر€ذ¾ذ½ذ¾ذ¼ ذ¸ 38 ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ر‹ر… ذ¸ 49 ذ³ذ°ر€ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ½ذ½ر‹ر… ذ²ذ¾رپرŒذ¼ذ¸ر€ذ¾ر‚ذ½ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ² رپ ذ±ذ°ر‚ذ°ذ»رŒذ¾ذ½ذ¾ذ¼32 ذ´ذ»رڈ ذ¾ذ±ذ·ذ¾ر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر‡ذµر€ذ؛ذ° ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ 1730 ذ³. ذ½ذµ ر‚ذ°ذ؛ رƒذ¶ ذ¸ ذ²ذ°ذ¶ذ½ذ¾.
ذںر€ذ¸ذ¼ذµر‡ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذµذµ رƒذ²ذµر€ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ² رپذµذ±ذµ ذ‘.-ذ¥. ذœذ¸ذ½ذ¸ر…ذ°, ذ؟ذ¾ذ؛ذ° ذ½ذµ رپذ°ذ¼ذ¾ذ³ذ¾ رپر‚ذ°ر€رˆذµذ³ذ¾ ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»ذ°, ذ؟ذµر€ذµذ´ ذ»ذ¸ر†ذ¾ذ¼ ذ؟ر€ذµذ´رپذ؛ذ°ذ·رƒذµذ¼ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ آ«رپذ¸ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟ذµر€رپذ¾ذ½آ», ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ¸ رƒذ¼ذµذ½ذ¸ذµ ذµذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¾ذ½ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ذ¸ذ½ذ³ذµذ½ر‚ذ° ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°ر‚رŒ ذ² ذ´ذµر‚ذ°ذ»ذ¸ رƒذ؟ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ¸ذ· ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹ ذ؛ذ°ذ¶ذ´ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ؟ذµذ¹ذ؛ذ¸ ذ¸ ذ²ر‹ذ½ذ¾رپذ»ذ¸ذ²ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؛ذ°ذ¶ذ´ذ¾ذ¹ ذ¼رƒذ½ذ´ذ¸ر€ذ½ذ¾ذ¹ آ«ذ½ذ¸ر‚رڈذ½ذ¾ذ¹ ر‚ذµرپرŒذ¼ر‹آ» – ذ¸ ذ¾ذ±ر‰ذ°رڈ رƒذ±ذµذ¶ذ´ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ² ر‚ذ¾ذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ر‚ذµذ¼ذ¸ ذ¶ذµ ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذ°ذ¼ذ¸ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذµذ½ ذ¾ذ±ذ»ذ°ذ´ذ°ر‚رŒ ذ؛ذ°ذ¶ذ´ر‹ذ¹ ذ¾ر„ذ¸ر†ذµر€. ذر‚رپرژذ´ذ° ذ¸ رپذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ¸ذµ ر€ذ°رپر…ذ¾ذ´رڈر‰ذµذ¹رپرڈ رپ ذ¸ذ¼ذ¼ذ°ذ½ذµذ½ر‚ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¸رپرƒر‰ذ¸ذ¼ ذ²رپرڈذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذµذ´ذ¸ذ½ذ¾ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ¸ذµذ¼ ذ؟ذµر‚ر€ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸ذ¸ ذ»ذ¸ر‡ذ½ذ¾ذ¹ ذ¾ر‚ذ²ذµر‚رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ²رپذµر… ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€ذ¾ذ² ذ²ذ؟ذ»ذ¾ر‚رŒ ذ´ذ¾ ر€ذ¾ر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ آ«ذ·ذ° ذ²رپذµآ» – ذ¾ر‚ آ«ذ؟ر€ذ¸ذ±ر‹ذ»ذ¸آ» ذ¸ آ«رƒذ±ر‹ذ»ذ¸آ» ر‡ذ¸ذ½ذ¾ذ² ذ´ذ¾ آ«ذ³ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپر‚ذ¸آ» ذ»رژذ±ذ¾ذ¹ آ«ذ²ذµر‰ذ¸آ», ر…ذ¾ر‚رڈ رپذ°ذ¼ر‹ذµ ر‚رڈذ¶ذµذ»ر‹ذµ ذ¾ذ±رڈذ·ذ°ذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ر‚رƒ ذ´ذµذ½ذµذ³ ذ¸ آ«ذ؟ر€ذ¸ذ؟ذ°رپذ¾ذ²آ» ذ½ذµرپذ»ذ¸ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ°ر€ر‹, ذ؛ذ°ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ¸, ذ؛ذ²ذ°ر€ر‚ذ¸ر€ذ¼ذµذ¹رپر‚ذµر€ر‹ ذ¸ذ»ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ؛ ذ؟ذ¾ذ´رƒرˆذ½ذ¾ذ¼رƒ رپذ±ذ¾ر€رƒ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ²ر‹ذ¼ ذ³ذ¾رپذ؟ذ¸ر‚ذ°ذ»رڈذ¼33.
ذگذ¼رƒذ½ذ¸ر†ذ¸ذ¸, ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ°ذ½ر‚رƒ, ر„رƒر€ذ°ذ¶رƒ ذ¸ ذ¾ر‚ذ´ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ¼رƒذ½ذ´ذ¸ر€رƒ, آ«ذ؟ذ¾ذ½ذµذ¶ذµ ذ؟ر€ذ¸ رپذµذ¼ ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذµ رپذ¾ذ»ذ´ذ°ر‚ر‹ ذ¾رپذ¾ذ±ذ»ذ¸ذ²ذ¾ ذ¾ذ±ذ¸ذ¶ذµذ½ر‹ ذ±ر‹ذ²ذ°رژر‚آ», ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ذ¾ذµ ذ²ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ½ذ¸ذµ رƒذ´ذµذ»ذ¸ذ»ذ¸ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذœ.ذœ. ذ“ذ¾ذ»ذ¸ر†ر‹ذ½ذ°34. ذذ¾ ذ¸ ر‚رƒر‚ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ‘.-ذ¥. ذœذ¸ذ½ذ¸ر…ذ° ذ؟ر€ذµذ²ذ·ذ¾رˆذ»ذ¸ ذ¸ر…, ذ²ذ¸ذ·ذ¸ر€رƒرڈ ذ² ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذ¸ ذ¸ آ«رڈر€ذ»ر‹ذ؛ذ°ر…آ» ذ؛ رچر‚ذ°ذ»ذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¼ آ«ذ²ذµر‰ذ°ذ¼آ» ذ¸ر‚ذ¾ذ³ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ²رˆذ¸ر…رپرڈ ذ؟ر€رڈذ¼ذ¾ ذ² ذ؟ر€ذ¸رپرƒر‚رپر‚ذ²ذ¸ذ¸ ذ¾ذ؟ر‹ر‚ذ¾ذ² ذ²ذ·ذ²ذµرˆذ¸ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ رپرƒذ؛ذ½ذ° ذ¸ذ»ذ¸ آ«ذ»ذ°ر‚آ» ذ¸ ذ؛ر€ذ¾رڈ آ«ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ذ¾ذ²آ» ذµذ؟ذ°ذ½ر‡ذ¸, ذ؛ذ°ر„ر‚ذ°ذ½ذ°, ذ؛ذ°ذ¼ذ·ذ¾ذ»ذ° ذ¸ رˆر‚ذ°ذ½ذ¾ذ². ذ¦ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¼ ذ¶ذµ ر€ذ°ذ·ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ½ذµذ¸ذ·ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؛ر€ذ¸ر‚ذ¸ذ؛رƒذµذ¼ر‹ذµ, ذ²رپذ»ذµذ´ ذ·ذ° ذ”.ذ¤. ذœذ°رپذ»ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذ¼, آ«ر„ذ¾ر€ذ¼ر‹آ» آ«ذ؛ذ½ذ¸ذ³ ذ¸ رپر‡ذµر‚ذ¾ذ²آ», ذ´ذ¾ ذ؟ذ¾ذ´ذ°ر‡ذ¸ ذ؛ رƒذ·ذ°ذ؛ذ¾ذ½ذµذ½ذ¸رژ 22 ذ¼ذ°ر€ر‚ذ° 1732 ذ³.35 ر€ذ°ذ·ذ´ذ°ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ² رپر‚ذ¾رڈذ²رˆذ¸ذµ ذ² ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³ذµ ذ¸ ذµذ³ذ¾ ذ¾ذ؛ر€ذµرپر‚ذ½ذ¾رپر‚رڈر… ر‡ذ°رپر‚ذ¸ ذ´ذ»رڈ ذ¾ر‚ذ·ر‹ذ²ذ¾ذ² آ«ذ±ذµذ· ر‡ذµذ³ذ¾ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ°ر… ذ¾ذ±ذ¾ذ¹ر‚ذ¸ر‚رŒرپرڈ ذ½ذµذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾, ذ²ذ؟ر€ذµذ´رŒ ذ؛ذ°ذ؛ذ¸ذµ ذ±ر‹ر‚رŒ ذ¼ذ¾ذ³رƒر‚آ»36.
ذ¢ر‰ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذµذ¹رˆذµذµ ذ؟ر€ذ¾ذ؟ذ¸رپر‹ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ² ذ½ذ¸ر… ذ¼ذµر…ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ¼ذ° ذ؟ذ¾ذ²رپذµذ´ذ½ذµذ²ذ½ذ¾ذ³ذ¾ آ«رپذ¼ذ¾ر‚ر€ذµذ½ذ¸رڈآ» ذ·ذ° ذ؟ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸ذµذ¼, ر€ذ°رپذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¸ رچذ؛رپذ؟ذ»رƒذ°ر‚ذ°ر†ذ¸ذµذ¹ رپر€ذµذ´رپر‚ذ² ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذµذ½ذ¸رڈ (ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ°ذµذ¼ر‹ر… ذ´ذµذ½رŒذ³ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ آ«ذ½ذ°ر‚رƒر€ذ¾ذ¹آ», ذ؟ذ¾ذ´ر€رڈذ¶ذ°ذµذ¼ر‹ر…, ذ؟ذ¾ذ؛رƒذ؟ذ°ذµذ¼ر‹ر… ذ¸ذ»ذ¸ ر€ذµذ¼ذ¾ذ½ر‚ذ¸ر€رƒذµذ¼ر‹ر… رپذ²ذ¾ذ¸ذ¼ذ¸ رپذ¸ذ»ذ°ذ¼ذ¸) ذ؟ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ»رڈرژر‚ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ³ر€ذ¾ذ¼ذ¾ذ·ذ´ذ؛ذ¾رپر‚رŒرژ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€ذ½ذ¾ ر‚ر€ذµر… ذ´ذµرپرڈر‚ذ؛ذ¾ذ² ر‚ذ°ذ±ذ»ذ¸ر† رپ ذ±ذµرپر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ آ«ذ³ر€ذ°ر„ذ°ذ¼ذ¸آ». ذ›ذ¸ذ¼ذ¸ر‚ رپر‚ذ°ر‚رŒذ¸ ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ»رڈذµر‚ ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚رŒ ذ¸ر… آ«ر€ذ°ذ·ذ±ذ¸ر€ذ°ذµذ¼ذ¾رپر‚رŒآ» ذ½ذ° ذ؛ذ¾ذ½رپر‚ر€رƒذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ½ر‹ذµ ذ±ذ»ذ¾ذ؛ذ¸, ذ´ذ»رڈ ذ¾ذ²ذ»ذ°ذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¼ذ¸ ذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ ذ·ذ½ذ°ر‚رŒ ر‡ذµر‚ر‹ر€ذµ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ°ر€ذ¸ر„ذ¼ذµر‚ذ¸ذ؛ذ¸. ذںذ¾رچر‚ذ¾ذ¼رƒ رپذ¾رˆذ»ذµذ¼رپرڈ ذ½ذ° ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»-ذ¼ذ°ذ¹ذ¾ر€ذ° ذ“ذµذ½ذµر€ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ رˆر‚ذ°ذ±ذ° ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ° ذ¥ذ¥ ذ². ذ.ذک. ذ،ذ¾ذ»ذ¾ذ²رŒذµذ²ذ°, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذµذ´ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ·ذ°ذ¼ذµر‚ذ¸ذ» رڈذ²ذ½ذ¾ذµ ذ¾ذ±ذ»ذµذ³ر‡ذµذ½ذ¸ذµ رپ ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ¾ر‚ر‡ذµر‚ذ½ذ¾رپر‚رŒرژ آ«ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸ذ½ر‹آ», رپذ؟ر€ذ°رˆذ¸ذ²ذ°ذ²رˆذµذ¹رپرڈ ذ² 1720-ذµ ذ³ذ³. ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ³ر€ذ°ذ¶ذ´ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ²ذ»ذ°رپر‚رڈذ¼ذ¸37.
ذœذµذ¶ذ´رƒ ر‚ذµذ¼ ذ؟ذµر‡ذ°ر‚ذ½ر‹ذµ آ«رپر‡ذµر‚ر‹آ» ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ²ذ¸ذ·رƒذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر‡ذµر‚ر‡ذµ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸ذ¹ ذ½ذµذ´ذ°ذ²ذ½ذ¸ر… رƒذ؛ذ°ذ·ذ¾ذ², ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ°ذ؟ذµذ»ذ»ذ¸ر€رƒرژر‚ ذ´ر€رƒذ³ ذ؛ ذ´ر€رƒذ³رƒ ذ´ذ»رڈ ذ²ذ·ذ°ذ¸ذ¼ذ¾ر€ذ°ذ·رٹرڈرپذ½ذµذ½ذ¸رڈ, ذ½ذ¾ ذ²ر‹ذ½رƒذ¶ذ´ذµذ½ر‹ ذ؛ذ¾ذ½رپر‚ذ°ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¸ ذ½ذµ رˆذ»رژر‚ آ«ذ²ذµذ´ذ¾ذ¼ذ¾رپر‚ذµذ¹آ» ذ؛ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµر€ذ؛ذµ, ذ° آ«ذ²ذµذ´ذ¾ذ¼ذ¾رپر‚ذ¸آ» ذ؟ر€ذ¸رپذ»ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµر€ذ؛ذµ ذ½ذµذ´ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ½ر‹38. ذ،ذ¾ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر€ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ²ر‹رˆذµذ´رˆذµذ¹ ذ¸ذ· ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر†ذ¸ذ¸ ر€ذ°ذ·ر€ذµرˆذ°ذµذ¼ر‹ذ¼ ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡ذ°ذ¼ ذ²ذ¸ذ´ذ½ذ° ذ¸ ذ¸ذ· ذµذµ ذ؟ذµر€ذµذ°ذ´ر€ذµرپذ¾ذ²ذ؛ذ¸ 31 ذ´ذµذ؛ذ°ذ±ر€رڈ 1735 ذ³. ذ؛ذ°ذ½ر†ذµذ»رڈر€ذ¸رڈذ¼ ذ³رƒذ±ذµر€ذ½ذ°ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ² ذ¸ ذ²ذ¾ذµذ²ذ¾ذ´ ذ²ذ¼ذµرپر‚ذµ رپ ذ؟ذµر€ذµذ°ذ´ر€ذµرپذ¾ذ²ذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ذ¼ ذ؟ذ¾ذ´رƒرˆذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ±ذ¾ر€ذ°, ذ½ذ°ر‡ذ°ذ²رˆذµذ¹ ر‡ذµر€ذµذ´رƒ ذ¾ر‚ذ¼ذµذ½ آ«ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¾ذ½ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر…آ» ذ؟ذ¾رپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ½ذµ ذ؟ر€ذ¾رˆذ»ذ¸ ذ¸رپذ؟ر‹ر‚ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذµذ¼.
ذڑر€ذ°رپذ½ذ¾ر€ذµر‡ذ¸ذ²ذµذµ ذ¶ذµ ذ²رپذµذ³ذ¾ ذ¾ ر‚ذ¾ذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ذ² ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ½رپر‚ذ²ذµ ذ¾ذ½ذ¸ ذ¾ر‚ذ²ذµر‡ذ°ذ»ذ¸ ذ´رƒر…رƒ رچذ؟ذ¾ر…ذ¸, رپذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²رƒذµر‚ ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸رڈ ذ’ذ¾ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ 1742 ذ³., رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ·ر‹ذ²رƒ ر„ذµذ»رŒذ´ذ¼ذ°ر€رˆذ°ذ»ذ° ذ³ر€. ذں.ذں. ذ›ذ°رپرپذ¸ ذ؛ آ«ذ¼ذ¸ذ½ذ¸رپر‚ر€ذ°ذ¼ ذ¸ ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»ذ¸ر‚ذµر‚رƒآ» ذ؟ذ¾ ذ²ذ¾رپرˆذµرپر‚ذ²ذ¸ذ¸ ذ•ذ»ذ¸ذ·ذ°ذ²ذµر‚ر‹ ذںذµر‚ر€ذ¾ذ²ذ½ر‹ ذ¸ آ«ذ؟ذ°ذ´ذµذ½ذ¸ذ¸آ» ذ‘.-ذ¥. ذœذ¸ذ½ذ¸ر…ذ°39. ذ،ر‚ذ°ر€ذµذ¹رˆذ¸ذ¼ رپذ؟ذ¾ذ´ذ²ذ¸ذ¶ذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ ذ¾ر‚ر†ذ° ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ر€ذ¸ر†ر‹ (ر„ذµذ»رŒذ´ذ¼ذ°ر€رˆذ°ذ»رƒ ذ’.ذ’. ذ”ذ¾ذ»ذ³ذ¾ر€رƒذ؛ذ¾ذ¼رƒ, ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»-ذ°ذ½رˆذµر„ذ°ذ¼ ذœ.ذ¯. ذ’ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ²رƒ, ذگ.ذک. ذ رƒذ¼رڈذ½ر†ذµذ²رƒ, ذ،.ذگ. ذ،ذ°ذ»ر‚ر‹ذ؛ذ¾ذ²رƒ, ذگ.ذک. ذ£رˆذ°ذ؛ذ¾ذ²رƒ) رپ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رڈذ¼ذ¸ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ¼ذ¾ذ»ذ¾ذ´ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ذ؛ذ¾ذ»ذµذ½ذ¸رڈ (ذ² رپر€ذµذ´رƒ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ¸ذ· آ«ذ¼ذ¸ذ½ذ¸ر…ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ر…آ» ر‡ذ»ذµذ½ذ¾ذ² ذ؟ذ¾ذ؟ذ°ذ» ذ¾ذ´ذ¸ذ½ ذک.ذ،. ذ£ذ½ذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذ¹) ذ²ذ¼ذµذ½رڈذ»رپرڈ ذ¸ذ´ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ·ذ°ذ؛ذ°ذ· آ«رƒر‡ذ¸ذ½ذ¸ر‚رŒآ» آ«ذ²ذ¾ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ رپر‚ذ°ر‚ رپ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ°ر€ذ¸ذ°ر‚رپذ؛ذ¸ذ¼ ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ°ذ½ر‚رپذ؛ذ¸ذ¼ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµذ¼â€¦ ذ½ذ° ذ؟ر€ذµذ¶ذ½ذµذ¼ ذںذµر‚ر€ذ° ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸آ». ذذ¾ ذ¾ذ½ذ¸ ذ¾ذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر‡ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ر‚ذµذ؛رƒر‰ذ¸ذ¼ذ¸ ذ؟ذ¾ذ؟ر€ذ°ذ²ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ² رپذ؟ذ¸رپذ؛ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ² (رپ ذ²ذ¾ذ·ر€ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ³ر€ذµذ½ذ°ذ´ذµر€رپذ؛ذ¸ر…) ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ±ذ»ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ½ذ¾ذ¼ذµذ½ذ؛ذ»ذ°ر‚رƒر€ر‹ ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»رŒرپذ؛ذ¸ر… ذ¸ ذ¾ر„ذ¸ر†ذµر€رپذ؛ذ¸ر… ر‡ذ¸ذ½ذ¾ذ² ذ؛ ر‡ذ°رڈذ½ذ¸رڈذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ´ذ²ذ¾ر€ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذµر€ر…رƒرˆذ؛ذ¸, ذ²ذ؛ذ»رژر‡ذ°رڈ ذ؟ذµر€ذµذ´ذ°ر‡رƒ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹ رƒذ؟ر€ذ°ذ·ذ´ذ½رڈذµذ¼ر‹ر… ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»-ذ¸ذ½رپذ؟ذµذ؛ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ² ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€رپذ؛ذ¸ذ¼ ذ³ذµذ½ذµر€ذ°ذ»-ذ°ذ´رٹرژر‚ذ°ذ½ر‚ذ°ذ¼. ذرپر‚ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذµ آ«ذ±ر‹ذ²رˆذµذ¹ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸آ» آ«ر€ذµذ·ذ¾ذ½ر‹آ» ذ¾ر‚رپر‚ذ°ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸, ذ؛ذ°ذ؛ رپذ²ذ¾ذ¸, ذ° ذ¾ ذ´ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ½رڈرژر‰ذ¸ر… ذ¢ذ°ذ±ذµذ»رŒ 1720 ذ³. آ«ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ°ر…آ» ذ¸ ر€ذµر‡رŒ ذ½ذµ ذ·ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ°40.
ذ’ذ¾ذ·ذ²ر€ذ°ر‰ذ°رڈرپرŒ ذ؛ ذ·ذ°ذ؛ذ»رژر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¼رƒ رچر‚ذ°ذ؟رƒ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ 1730 ذ³., ذ²ر‹رپذ؛ذ°ذ¶ذµذ¼ ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸ذµ, ر‡ر‚ذ¾ ذ¼ذ¾ذ»ر‡ذ°ذ»ذ¸ذ²ذ¾ذµ ذ¸رپر‡ذµذ·ذ½ذ¾ذ²ذµذ½ذ¸ذµ رپ ذµذµ ذ³ذ¾ر€ذ¸ذ·ذ¾ذ½ر‚ذ° ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذ¸ر… آ«ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ¾ذ²آ» ذکذ½رپر‚ر€رƒذ؛ر†ذ¸ذ¸ (ذ؟رƒرپر‚رŒ ذ¸ ذ²ذ¾ذ·ذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ²رˆذ¸ر… ذ² ذ·ذ°رپذµذ´ذ°ذ½ذ¸رڈر… ذ½ذµذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ؛ر€ذ°ر‚ذ½ذ¾) ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ¾رˆذ»ذ¾ ذ² ذ؟ر€ذ¾ر†ذµرپرپذµ ذ²ذ·ذ°ذ¸ذ¼ذ¾ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ´ذ²رƒر… ر‚ذµذ½ذ´ذµذ½ر†ذ¸ذ¹, ذ² ذ؛ذ¾ذ½ر†ذµ ذ؛ذ¾ذ½ر†ذ¾ذ² رپذ¾ذ¼ذ؛ذ½رƒذ²رˆذ¸ر…رپرڈ. ذرپذ؟ذ¾ر€ذµذ½ذ½رƒرژ رپذµذ½ذ°ر‚ذ¾ر€ذ°ذ¼ذ¸ ذ؛ذ»ذ°رپرپذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸رژ (ذ؟ذ¾ آ«ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚رƒآ» 13) ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚ذµذ¹ رپ ذ¸ر… ذ³ذ°ر€ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ½ذ°ذ¼ذ¸ ذ؟ذ¾ 6 آ«ذ´ذµذ؟ذ°ر€ر‚ذ°ذ¼ذµذ½ر‚ذ°ذ¼آ» ذ¾ر‚ذ»ذ¾ذ¶ذ¸ذ»ذ¸ آ«ذ´ذ¾ ذ؟ر€ذµذ´ذ±رƒذ´رƒر‰ذ¸ر… ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذ¹آ», ذ؛ذ°ذ؛ ذ¾ر‚ذ؛ذ»ذ°ذ´ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذµ ر‡ر€ذµذ²ذ°ر‚ر‹ذµ ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ³ذ»ذ°رپذ¸رڈذ¼ذ¸ ذ¼ذ¾ذ¼ذµذ½ر‚ر‹, آ«رƒر€ذ¾ر‡ذ½ر‹ذµ ذ»ذµر‚ذ°آ» ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ذ؛ذ° ذ؟ذ¾ذ¶ذ¸ذ·ذ½ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ´ذ²ذ¾ر€رڈذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ رپذ»رƒذ¶ذ±ر‹ ذ¸ذ»ذ¸ آ«ر€ذ¾رپذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸ذµآ» ذ؟ذ¾ ذ³رƒذ±ذµر€ذ½ذ¸رڈذ¼ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ°ذ½ر‚رپذ؛ذ¸ر… ذ¼ذ°ذ³ذ°ذ·ذ¸ذ½ذ¾ذ². ذذ¾ ذ³ذ¾ر€ذ°ذ·ذ´ذ¾ ر‡ذ°ر‰ذµ ذ² ذ،ذµذ½ذ°ر‚ذµ, ذ؟ر€ذ¸ذ³ذ»ذ°رˆذ°ذ²رˆذµذ¼ ذ؛ رپذ»رƒرˆذ°ذ½ذ¸رڈذ¼ ذ¸ آ«ذ؟ذ¾رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ½ذ¸ر…آ» رپذ°ذ½ذ¾ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ², ذ¸ذ¼ذµذ»ذ¾ ذ¼ذµرپر‚ذ¾ ذµذ´ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ¾, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذµ رƒذ±ذµذ¶ذ´ذ°ذ»ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ²رˆذ¸ر… ر€ذµرˆذµذ½ذ¸رڈ ذ² ذ²ذµر€ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¸ر… ذ½ذ°ر†ذµذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ½ذ° ذ·ذ°ذ²ذµر€رˆذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذ°ر‡ذ°ر‚ذ¾ذ¹ ذںذµر‚ر€ذ¾ذ¼ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر€ذµذ³رƒذ»رڈر€ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸.
ذ¤ذ¸ذ½ذ°ذ½رپذ¾ذ²ر‹ذµ ر‚ر€رƒذ´ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ ذ½ذµذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ رپر‚ذ°ذ±ذ¸ذ»ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸41 ذ¾ر‚رپر‚رƒذ؟ذ¸ذ»ذ¸ ذ½ذ° ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ»ذ°ذ½, ر‚ذ°ذ؛ ر‡ر‚ذ¾ ذ²ر‹رپذ²ذ¾ذ±ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ½ر‹ذµ آ«ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²آ» ذ¢ذ°ذ±ذµذ»ذ¸ 1720 ذ³. رپرƒذ¼ذ¼ر‹ ذ؟ذµر€ذµذ²ذµذ»ذ¸ ذ½ذ° ذڑذ°ذ´ذµر‚رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپ, رƒذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ¸ رپ ذ؟ذ¾رپذµذ»رڈذµذ¼ذ¾ذ¹ ذ½ذ° ذ½ذ¸ر… ذ»ذ°ذ½ذ´ذ¼ذ¸ذ»ذ¸ر†ذ¸ذµذ¹ ذ¸ ذ½ذ° ذ¸ذ½ر‹ذµ ذ²ذ½ذµرˆر‚ذ°ر‚ذ½ر‹ذµ ر€ذ°رپر…ذ¾ذ´ر‹. ذگ ذ‘.-ذ¥. ذœذ¸ذ½ذ¸ر… ذ؛ذ°ذ؛ ذ³ذ»ذ°ذ²ذ° ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ رپرƒذ¼ذµذ» ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚رŒ رپذ²ذ¾ذ¸ رپر‚ر€ذµذ¼ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ´ذ¾ذ±ذ¸ر‚رŒرپرڈ ذ² ذ¼ذ¸ر€ذ½ذ¾ذµ ذ²ر€ذµذ¼رڈ آ«ذ´ذ¾ذ±ر€ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾رپر‚ذ¾رڈذ½ذ¸رڈآ» ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸, ذ؟ذ¾ذ±ذµذ´ذ¸ذ²رˆذµذ¹ ذ² ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ذµ, ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ¸ر‚رŒ ذµذµ ذ؛ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ذ°ذ¼, ذ½ذµذ¸ذ·ذ±ذµذ¶ذ½ر‹ذ¼ ذ² ذ±رƒذ´رƒر‰ذµذ¼. ذ•ذ³ذ¾ ذ½ذµذ´ذ¾ذ»ذ³ذ°رڈ ذ±ذ»ذ¸ذ·ذ¾رپر‚رŒ ذ؛ ذ²ذ»ذ°رپر‚رŒ ذ؟ر€ذµذ´ذµر€ذ¶ذ°ر‰ذ¸ذ¼ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ° ذ²رپذµذ¾ذ±ذµذ¼ذ»رژر‰ذµذ¹ ذ؟ذ¾ذ´ذ´ذµر€ذ¶ذ؛ذµ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¾ذ½ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… آ«ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¹آ», رپ 17 ذ°ذ²ذ³رƒرپر‚ذ° 1731 ذ³. ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ ر€ذµذ°ذ»ذ¸ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ²رˆذ¸ر…رپرڈ42. ذ£ذ؟ر€ذ¾ر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ¶ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ² ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ر‹ر… رپر‚ر€رƒذ؛ر‚رƒر€ذ°ر… ذ»ذ¸رˆذ°ذ»ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ر‡ذ¸ذ½ ذ؛ رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رژ ذ²ذ½ذµذ²ذµذ´ذ¾ذ¼رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ ذµذ³ذ¾ ذ¶ذµ ذ؟ر€ذµذ´رپذµذ´ذ°ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ذ¸ رپذ´ذµذ»ذ°ذ»ذ¾ ذµرپر‚ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذµذµ آ«رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµذ½ذ¸ذµ ذ´ذ¾ ذ¾ذ؛ذ¾ذ½ر‡ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ´ذ¾رپر‚ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ¾ذ²آ» 31 ذ¼ذ°رڈ 1732 ذ³. ذ² ذ’ذ¾ذµذ½ذ½رƒرژ ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ³ذ¸رژ43.
ذر‚ ذµذµ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ¸ 13 ذ¸ 30 ذ¸رژذ½رڈ 1732 ذ³. ذ´ذ¾ ذ،ذµذ½ذ°ر‚ذ° ذ´ذ¾رˆذ»ذ¸ آ«ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸رڈآ» ذ¾ ذ³ذ°ر€ذ½ذ¸ذ·ذ¾ذ½ذ½ر‹ر… رˆذ؛ذ¾ذ»ذ°ر… ذ´ذ»رڈ رپذ¾ذ»ذ´ذ°ر‚رپذ؛ذ¸ر… ذ´ذµر‚ذµذ¹ ذ¸ ذ¾ ذ ذ¾رپذ»ذ°ذ²ذ»رŒرپذ؛ذ¾ذ¼ رچرپذ؛ذ°ذ´ر€ذ¾ذ½ذµ ذ² ذ،ذ¼ذ¾ذ»ذµذ½رپذ؛ذµ. ذ£ذ¶ذµ ذ±ذµذ· رپرپر‹ذ»ذ؛ذ¸ ذ½ذ° ذ½ذµذµ ذ² 1732–1733 ذ³ذ³. ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ¸ذ·ذ´ذ°ذ½ر‹ ذ±ذµر€رƒر‰ذ¸ذµ ذ¸ذ· ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸, ذ؟ذ¾ ذگ.ذڑ. ذ‘ذ°ذ¹ذ¾ذ²رƒ, رپذ²ذ¾ذµ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ¾ آ«رچذ؛ذ·ذµر€ر†ذ¸ر†ذ¸ذ¸آ» آ«ذ؟ذµرˆذ°آ» ذ¸ آ«ذ؛ذ¾ذ½ذ½ذ°رڈآ», ذ² 1733 ذ¸ 1735 ذ³ذ³. – ذ¨ر‚ذ°ر‚ ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ر‹ر… ذ°ذ؟ر‚ذµذ؛ ذ¸ ذ“ذµذ½ذµر€ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ر€ذµذ³ذ»ذ°ذ¼ذµذ½ر‚ ذ¾ ذ³ذ¾رپذ؟ذ¸ر‚ذ°ذ»رڈر…44. ذ—ذ°ذ±ذ²ذµذ½ذ¸ذµ ذ¶ذµ ذ´ذµذ؛ذ»ذ°ر€ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ¾ذ± ذ¾ذ±ذ½ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ°ر€ذ¼ذµذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ آ«ذ£ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸رڈآ» ذ² ذ±ذµذ·ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذ½ذ¾ذ¹ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ ذ´ذ»رڈ ذ¸رپذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ’ذ¾ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ رƒرپر‚ذ°ذ²ذ° 1720–1721 ذ³ذ³. ذ؟ر€ذ¸ رƒرپذ؟ذµرˆذ½ذ¾ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²رƒرژر‰ذ¸ر… ذ½ذ¾ر€ذ¼ 1716 ذ³. ذ½ذµ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ذ¾ ذ¼ذµرˆذ°ر‚رŒ ذ؟ر€ذ¸ذ·ذ½ذ°ذ½ذ¸رژ ذ·ذ° ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذµذ¹ 1730 ذ³. ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ¸ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؟ذµر‚ر€ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذ°رˆذ¸ذ½ر‹. ذگ رپذ°ذ¼ذ° ذ¾ذ½ذ° ذ؟ذ¾ رپذ¾ذ²ذ¾ذ؛رƒذ؟ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ذ³ذ½رƒر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذ¾ذ¶ذµر‚ ذ·ذ°رپذ»رƒذ¶ذµذ½ذ½ذ¾ رپر‡ذ¸ر‚ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ¾ذ´ذ½ذ¸ذ¼ ذ¸ذ· رƒذ´ذ°ر‡ذ½ذµذ¹رˆذ¸ر… ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ر€ذ¸رڈر‚ذ¸ذ¹ ر†ذ°ر€رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ½ذµ رپر‚ذ¾ذ»رŒ ذ²ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹, ذ½ذ¾ ذ´ذ¾رپر‚ذ¾ذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ر€ذµذµذ¼ذ½ذ¸ر†ر‹ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€ذ°.
1 ذںذµر‚ر€رƒر…ذ¸ذ½ر†ذµذ² ذ.ذ. ذ¦ذ°ر€رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذگذ½ذ½ر‹ ذکذ¾ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ²ذ½ر‹. ذ¤ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ²ذ½رƒر‚ر€ذ¸ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛رƒر€رپذ° ذ¸ رپرƒذ´رŒذ±ر‹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذ¸ ر„ذ»ذ¾ر‚ذ°, 1730–1735 ذ³. ذ،ذںذ±., 2001.
2 ذ،ر€.: ذںذ،ذ—. ذ¢. 8. â„– 5571; ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 248. ذڑذ½. 389. ذ›. 7–8.
3 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 248. ذڑذ½. 389. ذ›. 6–6 ذ¾ذ±., 16–16 ذ¾ذ±., 345–345 ذ¾ذ±., 398–398 ذ¾ذ±.
4 ذ‘ذ°ذ¹ذ¾ذ² ذگ.ذڑ. ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸رڈ ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذ°. ذœ., 2008. ذ¢. 1. ذ،. 319–323.
5 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 9. ذر‚ذ´&ذµ 1. ذڑذ½. 29. ذ›. 445–445 ذ¾ذ±.
6 ذںر€ذ¾ر‚ذ¾ذ؛ذ¾ذ»ر‹, ذ¶رƒر€ذ½ذ°ذ»ر‹ ذ¸ رƒذ؛ذ°ذ·ر‹ ذ’ذµر€ر…ذ¾ذ²ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر‚ذ°ذ¹ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾ذ²ذµر‚ذ°, 1726–1730 / ذکذ·ذ´. ذ؟ذ¾ذ´ ر€ذµذ´. ذ.ذ¤.ذ”رƒذ±ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذ°. ذ،ذںذ±., 1886–1898. ذ¢. 1-8 (ذ،ذ±. ذ ذکذ. ذ¢. 55, 56, 63, 69, 79, 84, 94, 101). ذ”ذ°ذ»ذµذµ: ذ‘رƒذ¼ذ°ذ³ذ¸ ذ’.ر‚.رپ. ذ،ذ±. ذ ذکذ.
7 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 248. ذڑذ½. 389. ذ›. 345–347, 398–398 ذ¾ذ±., 414.
8 ذںر€ذ¸ذ½رڈر‚ر‹ذµ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ¼ذ¸ 14 ذ¸ 19 رڈذ½ذ²ذ°ر€رڈ, 2, 7 ذ¸ 19 ر„ذµذ²ر€ذ°ذ»رڈ 1711 ذ³. ذ¸ ذ¾ر‚ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ½ذ° ذ³ذ¾ذ´ رˆر‚ذ°ر‚ر‹ آ«ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸آ» (ذ±ذµذ· ذ³ذ²ذ°ر€ذ´ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸) – ذ² ذ²ذ¸ذ´ذµ ر‚ذ°ذ±ذ»ذ¸ر†, ذ·ذ°ر‡ذ°رپر‚رƒرژ ذ¸ذ¼ذµذ½رƒذµذ¼ر‹ر… ر‚ذ°ذ±ذµذ»رڈذ¼ذ¸ – ذ²ذ¾رˆذ»ذ¸ ذ² ذ¾ذ±ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ½رƒرژ ذ¸ ذ´ذµذ»ذ¾ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذµذ½ذ½رƒرژ ذ»ذµذ؛رپذ¸ذ؛رƒ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¢ذ°ذ±ذµذ»رŒ 1712 ذ³., ذ° ذ·ذ°ذ¼ذµذ½ذ¸ذ²رˆذ¸ذµ ذ¸ر… 9 ر„ذµذ²ر€ذ°ذ»رڈ 1720 ذ³. ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ر‹ – ذ؛ذ°ذ؛ ذ¢ذ°ذ±ذµذ»رŒ 1720 ذ³. (ذںذ،ذ—. ذ¢. 4 ذ¸ 43, ر‡. 1, â„– 2319, 3511). ذر‚ذ¸ ذ·ذ°ذ³ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ؛ذ¸, ذ¾ر‚رپرƒر‚رپر‚ذ²رƒرژر‰ذ¸ذµ ذ² ذ؟ذµر‡ذ°ر‚ذ½ر‹ر… ر‚ذµذ؛رپر‚ذ°ر… ذ¾ذ±ذ¾ذ¸ر… ذ°ذ؛ر‚ذ¾ذ², ذ¸ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·رƒرژر‚رپرڈ ذ´ذ°ذ»ذµذµ.
9 ذ•ذ³ذ¾ ذ¾ذ±ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ¸ ذ² ر‚ذµر€ذ¼ذ¸ذ½ذ°ر… آ«ذ²ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹ رپذ؛رƒذ´ذ¾رپر‚ذ¸آ», آ«ذ²رپذµذ؛ذ¾ذ½ذµر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ¾ر€ذµذ½ذ¸رڈآ», آ«ذ³ر€ذ°ذ¶ذ´ذ°ذ½رپر‚ذ²رƒ ر‚رڈذ³ذ¾رپر‚ذ¸آ» ذ¾ر‚ ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°رپذ½ر‹ر… رچذ؛ذ·ذµذ؛رƒر†ذ¸ذ¹, رپرƒذ´ذµذ±ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ»ذ¾ذ؛ذ¸ر‚ر‹ ذ¸ ر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ؟ذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ر‹ر… آ«ذ½ذµذ؟ذ¾ر€رڈذ´ذ؛ذ¾ذ²آ»
10 ذںذ،ذ—. ذ¢. 8. â„– 5474.
11 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ¢. 7. â„– 5010, 5017; 200&ذ»ذµر‚ذ¸ذµ ذڑذ°ذ±ذ¸ذ½ذµر‚ذ° ذµذ³ذ¾ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذµذ»ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذ°, 1704–1904 / ذ،ذ¾رپر‚. ذ’.ذ. ذ،ر‚ر€ذ¾ذµذ², ذں.ذک. ذ’ذ°ر€ر‹ذ؟ذ°ذµذ². ذ،ذںذ±., 1909. ذںر€ذ¸ذ». ذ،. 47–58; ذ،ذ¾ذ»ذ¾ذ²رŒذµذ² ذ،.ذœ. ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸رڈ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¸ رپ ذ´ر€ذµذ²ذ½ذµذ¹رˆذ¸ر… ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ // ذ،ذ¾ر‡.: ذ’ 18 ذ؛ذ½. ذœ., 1993. ذڑذ½. 9, ر‚. 18. ذ،. 561–564; ذ‘ذ¾ذ³ذ¾رپذ»ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذ¹ ذœ. ذذ±ذ»ذ°رپر‚ذ½ذ°رڈ ر€ذµر„ذ¾ر€ذ¼ذ° ذںذµر‚ر€ذ° ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ¾: ذںر€ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر†ذ¸رڈ 1719–27 ذ³ذ³. ذœ., 1902. ذ،. 485–492.
12 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 9. ذر‚ذ´&ذµ 1. ذڑذ½. 29. ذ›. 439–446 ذ¾ذ±., 450–467.
13 ذ—ذ° ذ½ذµذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذµر‚ذµذ½ر‚ذ½ذ¾رپر‚رŒرژ ذ² ذ¾ر†ذµذ½ذ؛ذ°ر… ذ½ذµذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذ° ذ³ذ»ذ°ذ· رپذµذ³ذ¾ذ´ذ½رڈرˆذ½ذµذ³ذ¾ ذ¾ذ±ر‹ذ²ذ°ر‚ذµذ»رڈ ذ´ذµر„ذ¸ر†ذ¸ر‚ذ° ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ±رژذ´ذ¶ذµر‚ذ° رپذµر€ذµذ´ذ¸ذ½ر‹ 1720-ر… ذ³ذ³. ذ² 5 % ذ¸ذ»ذ¸ ذ´ذ°ذ¶ذµ, ر‡ذµر€ذµذ· ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ»ذµر‚, 16 % (ذںذµر‚ر€رƒر…ذ¸ذ½ر†ذµذ² ذ.ذ. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 145–146) ذ² رپذ¾ر‡ذµر‚ذ°ذ½ذ¸ذ¸ رپذ¾ رپذ½ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ´ذ¾ذ»ذ¸ ذ² آ«ذ¾ذ؛ذ»ذ°ذ´ذµآ» رپر‚ر€ذ°ذ½ر‹ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ر‹ر… ر€ذ°رپر…ذ¾ذ´ذ¾ذ² رپ 78 % ذ² 1701 ذ´ذ¾ 45 % ذ² 1724 ذ³. (ذ،ذ¾ذ»ذ¾ذ²رŒذµذ² ذ.ذک. ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ ذ¾ر‡ذµر€ذ؛ذ¸ رƒرپر‚ر€ذ¾ذ¹رپر‚ذ²ذ° ذ¸ ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒرپر‚ذ²ذ¸رڈ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر… ر€ذµذ³رƒذ»رڈر€ذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ² ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذµ XVIII رپر‚ذ¾ذ». (1700–1761). ذ،ذںذ±., 1901. ذ،. 69, 95).
14 ذ ر‡ذµذ¼, ذ؛ر€ذ¾ذ¼ذµ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¸ر… ر‡ذ°رپر‚ذ½ر‹ر… رپذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ² ذ² ر‚ذµر… ذ¶ذµ آ«ذ±رƒذ¼ذ°ذ³ذ°ر…آ» ذ’ذµر€ر…ذ¾ذ²ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر‚ذ°ذ¹ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾ذ²ذµر‚ذ°, ذµرپر‚رŒ ذ¸ ذ¾ر„ذ¸ر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذµ, ذ¾ر‚ ذ¼ذ°ر€ر‚ذ° 1727 ذ³., ذ´ذ¾ذ½ذµرپذµذ½ذ¸ذµ ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ°ر€ذ¸ذ°ر‚ذ° ذ² ذ’ذ¾ذµذ½ذ½رƒرژ ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ³ذ¸رژ: ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 9. ذر‚ذ´-ذµ 1. ذڑذ½. 29. ذ›. 4.
15 ذ،ذ¼. ذ؟ر€ذµذ¶ذ´ذµ ذ²رپذµذ³ذ¾: ذ ذµذ´ذ¸ذ½ ذ”.ذگ. ذگذ´ذ¼ذ¸ذ½ذ¸رپر‚ر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذµ رپر‚ر€رƒذ؛ر‚رƒر€ر‹ ذ¸ ذ±رژر€ذ¾ذ؛ر€ذ°ر‚ذ¸رڈ ذ£ر€ذ°ذ»ذ° (ذ—ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ر‹ذµ رƒذµذ·ذ´ر‹ ذ،ذ¸ذ±ذ¸ر€رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ³رƒذ±ذµر€ذ½ذ¸ذ¸ ذ² 1711–1727 ذ³ذ³.). ذ•ذ؛ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ½ذ±رƒر€ذ³, 2007.
16 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 9. ذر‚ذ´-ذµ 1. ذڑذ½. 29. ذ›. 7.
17 ذںذµر‚ر€رƒر…ذ¸ذ½ر†ذµذ² ذ.ذ. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 69–77.
18 ذ ذ“ذ’ذکذگ. ذ¤. 23. ذذ؟. 1/121. ذ•ذ´. ر…ر€. 507. ذ›. 1–121.
19 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ›. 82 ذ¾ذ±.–83, 90–90 ذ¾ذ±., 109–109 ذ¾ذ±., 112–113 ذ¾ذ±.
20 ذںذ،ذ—. ذ¢. 8. â„– 5900, 5904.
21 ذ،ذ¾ذ»ذ¾ذ²رŒذµذ² ذ.ذک. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 137, 157, 162; ذ¢رƒر‡ذ؛ذ¾ذ² ذ،.ذگ. ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ رپذ»ذ¾ذ²ذ°ر€رŒ, ذ·ذ°ذ؛ذ»رژر‡ذ°رژر‰ذ¸ذ¹ ذ½ذ°ذ¸ذ¼ذµذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ذ»ذ¸ ر‚ذµر€ذ¼ذ¸ذ½ر‹, ذ² ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¼ رپرƒر…ذ¾ذ؟رƒر‚ذ½ذ¾ذ¼ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ذµ رƒذ؟ذ¾ر‚ر€ذµذ±ذ»رڈذµذ¼ر‹ذµâ€¦ 2-ذµ ذ¸ذ·ذ´. ذœ., 2008. ذ،. 145–146.
22 ذںذ،ذ—. ذ¢. 8. â„– 5638; ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 248. ذڑذ½. 389. ذ›. 67.
23 ذ ذ“ذ’ذکذگ. ذ¤. 23. ذذ؟. 1/121. ذ•ذ´. ر…ر€. 507. ذ›. 81, 82 ذ¾ذ±., 93 ذ¾ذ±.–94.
24 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 248. ذڑذ½. 389. ذ›. 339–340.
25 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ¤. 9. ذر‚ذ´-ذµ 1. ذڑذ½. 29. ذ›. 450–450 ذ¾ذ±.; ذ‘رƒذ¼ذ°ذ³ذ¸ ذ’.ر‚.رپ. ذ،ذ±. ذ ذکذ. ذ¢. 56. ذ،. 534; ذ¢. 63. ذ،. 26, 113, 241; ذڑذ°ر€ذ؟ذµذµذ² ذک.ذ’. ذڑذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ°ر€ذ¸ذ°ر‚ // ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¸: ذ،ذ»ذ¾ذ²ذ°ر€رŒ&رپذ؟ر€ذ°ذ²ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛. ذœ., 1999. ذڑذ½. 2. ذ،. 260–261.
26 ذںذµر‚ر€رƒر…ذ¸ذ½ر†ذµذ² ذ.ذ. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 319.
27 ذ ذ“ذ’ذکذگ. ذ¤. 20. ذذ؟. 1/47. ذ•ذ´. ر…ر€. 18. ذ›. 197 ذ¾ذ±.; ذ‘رƒذ¼ذ°ذ³ذ¸ ذ’.ر‚.رپ. ذ،ذ±. ذ ذکذ. ذ¢. 63. ذ،. 72; ذ‘رƒذ¼ذ°ذ³ذ¸ ذڑذ°ذ±ذ¸ذ½ذµر‚ذ° ذ¼ذ¸ذ½ذ¸رپر‚ر€ذ¾ذ² ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ر€ذ¸ر†ر‹ ذگذ½ذ½ر‹ ذکذ¾ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ²ذ½ر‹, 1731–1740 ذ³ذ³./ ذ،ذ¾ذ±ر€. ذ¸ ذ¸ذ·ذ´. ذگ.ذ. ذ¤ذ¸ذ»ذ¸ذ؟ذ؟ذ¾ذ²ر‹ذ¼. ذ®ر€رŒذµذ², 1898. ذ¢. 1. ذ،. 5–6 (ذ،ذ±. ذ ذکذ. ذ¢. 104). ذ”ذ°ذ»ذµذµ: ذ‘رƒذ¼ذ°ذ³ذ¸ ذڑذ°ذ±ذ¸ذ½ذµر‚ذ°.
28 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 9. ذر‚ذ´-ذµ 1. ذڑذ½. 29. ذ’ذµذ·ذ´ذµ. ذںذ¾ رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ؟ذ¾ذ²ذ¾ذ´رƒ ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ ذ½ذ°رپر‚ذ¾رڈر‰ذµذ¹ رپر‚ذ°ر‚رŒذ¸ ذ؟ذ»ذ°ذ½ذ¸ر€رƒذµر‚ ذ²ر‹رپر‚رƒذ؟ذ¸ر‚رŒ ذ¾ر‚ذ´ذµذ»رŒذ½ذ¾.
29 ذ،ذ¾ذ»ذ¾ذ²رŒذµذ² ذ.ذک. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 6–7, 9, 11–12, 23–29.
30 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ،. 215–216; ذںذµر‚ر€رƒر…ذ¸ذ½ر†ذµذ² ذ.ذ. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 181.
31 ذںذµر‚ر€رƒر…ذ¸ذ½ر†ذµذ² ذ.ذ. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 154–156, 158–162, 319.
32 ذںذ،ذ—. ذ¢. 43, ر‡. 1. â„– 5803.
33 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ¢. 8. â„– 6003.
34 ذ’ر‚ر€ذ¾ذµ ذ½ذ° آ«ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚آ» 5 ذ¸ ذ²ذ´ذ²ذ¾ذµ ذ½ذ° 6 ذ¸ 7 ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ آ«ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ¾ذ²آ» 1, 2, 4 ذ¸ 8 (ذ² رپر€ذµذ´ذ½ذµذ¼ ذ؟ذ¾ 17 ر‡ذ°رپذ¾ذ² ذ½ذ° ذ؛ذ°ذ¶ذ´ر‹ذ¹) ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ذ¾ر‡ر‚ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ذ¼ ذ¸ذ³ذ½ذ¾ر€ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸ آ«ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ°آ» 3 (4 ر‡ذ°رپذ°). ذ ذ°رپر‡ذµر‚ر‹ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذµذ´ذµذ½ر‹ ذ¼ذ½ذ¾رژ ذ؟ذ¾: ذ ذ“ذ’ذکذگ. ذ¤. 23. ذذ؟. 1/121. ذ•ذ´. ر…ر€. 507. ذ’ذµذ·ذ´ذµ. ذ¦ذ¸ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»رپرڈ رƒذ؛ذ°ذ· ذ¾ر‚ 1 ذ¸رژذ½رڈ 1730 ذ³.: ذںذ،ذ—. ذ¢. 8. â„– 5571.
35 ذںذ،ذ—. ذ¢. 8. â„– 6003; ذœذ°رپذ»ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ”.ذ¤. ذ،ر‚ر€ذ¾ذµذ²ذ°رڈ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ذ°رڈ رپذ»رƒذ¶ذ±ذ° ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€ذ° ذںذµر‚ر€ذ° ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ر€ذ¸ر†ر‹ ذ•ذ»ذ¸ذ·ذ°ذ²ذµر‚ر‹: ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذµ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ. ذœ., 1883. ذ،. 94.
36 ذ ذ“ذ’ذکذگ. ذ¤. 23. ذذ؟. 1/121. ذ•ذ´. ر…ر€. 507. ذ›. 109.
37 ذ،ذ¾ذ»ذ¾ذ²رŒذµذ² ذ.ذک. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 153–154.
38 ذںذ،ذ—. ذ¢. 6. â„– 3937. ذںر€ذ¸ذ». آ«ذ¾ ر„ذ¾ر€ذ¼ذ°ر… ذ؛ذ½ذ¸ذ³آ»; ذ¢. 7. â„– 4533, 4536, 4898, 4906, 4990.
39 ذکذ»رŒذµذ½ذ؛ذ¾ ذگ. ذ’ذ¾ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذµ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ XVIII ذ²ذµذ؛ذ° // ذڑذ°ر‚ذ°ذ»ذ¾ذ³ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر‚ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذذ±ر‰ذµذ³ذ¾ ذ°ر€ر…ذ¸ذ²ذ° ذ“ذ»ذ°ذ²ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رˆر‚ذ°ذ±ذ° / ذںذ¾ذ´ ر€ذµذ´. ذ”.ذ¤. ذœذ°رپذ»ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾. ذ،ذںذ±., 1891. ذ’ر‹ذ؟. 2. ذ،. XVI.
40 ذ ذ“ذ’ذکذگ. ذ¤. 23. ذذ؟. 1/121. ذ•ذ´. ر…ر€. 837. ذ›. 1–40.
41 ذڑرƒر€رƒذ؛ذ¸ذ½ ذک.ذ’. ذذ؟ذ¾ر…ذ° آ«ذ´ذ²ذ¾ر€رپذ؛ذ¸ر… ذ±رƒر€رŒآ»: ذر‡ذµر€ذ؛ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾رپذ»ذµ& ذ؟ذµر‚ر€ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¸, 1725–1762 ذ³ذ³. ذ رڈذ·ذ°ذ½رŒ, 2003. ذ،. 254.
42 ذںذ،ذ—. ذ¢. 8. â„– 5835.
43 ذ‘رƒذ¼ذ°ذ³ذ¸ ذڑذ°ذ±ذ¸ذ½ذµر‚ذ°. ذ،. 286–287.
44 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 248. ذڑذ½. 392. ذ›. 952–972; ذڑذ½. 2027. ذ›. 243–244 ذ¾ذ±.; ذںذ،ذ—. ذ¢. 9. â„– 6852; ذ¢. 43, ر‡. 1. â„– 6674; ذ‘ذ°ذ¹ذ¾ذ² ذگ.ذڑ. ذ رƒرپرپذ؛ذ°رڈ ذ°ر€ذ¼ذ¸رڈ ذ² ر†ذ°ر€رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ر€ذ¸ر†ر‹ ذگذ½ذ½ر‹ ذکذ¾ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ²ذ½ر‹: ذ’ذ¾ذ¹ذ½ذ° ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¸ رپ ذ¢رƒر€ر†ذ¸ذµذ¹ ذ² 1736–1739. ذ،ذںذ±., 1906. ذ§. 1. ذ،. 40.






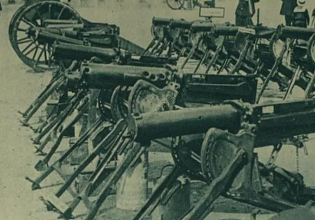
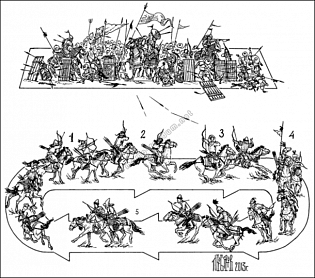
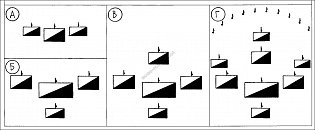

ذڑذ¾ذ¼ذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر€ذ¸ذ¸