ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠąĄ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖč湥čüčéą▓ąŠ ąĀąŠčüčüąĖąĖ čü ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ą╝ąĖ ą▓ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓ąĄą║ą░, ąæąŠą▒ą║ąŠą▓ ąÆ.ąÉ. (ąæčĆčÅąĮčüą║)
ą£ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ążąĄą┤ąĄčĆą░čåąĖąĖ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąÉą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖčÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĮą░čāą║ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝čāąĘąĄą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ čüą▓čÅąĘąĖ ąÆąŠą╣ąĮą░ ąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąØąŠą▓čŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ąóčĆčāą┤čŗ ą¦ąĄčéą▓ąĄčĆč鹊ą╣ ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖąĖ 15ŌĆō17 ą╝ą░čÅ 2013 ą│ąŠą┤ą░
ą¦ą░čüčéčī IąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│
ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ 2013
┬® ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ, 2013
┬® ąÜąŠą╗ą╗ąĄą║čéąĖą▓ ą░ą▓č鹊čĆąŠą▓, 2013
ąÆ ąØąÉąĪąóą×ą»ą®ąĢąĢ ąÆąĀąĢą£ą» ąŠą▒ąŠąĘąĮą░čćąĖą╗čüčÅ ąĖąĮč鹥čĆąĄčü ą║ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ-č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖč湥čüčéą▓ą░ ąĀąŠčüčüąĖąĖ čü ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ą╝ąĖ. ą×ą▒ čŹč鹊ą╝ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāčÄčé ą┐ąŠčÅą▓ąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ąĮą░čāčćąĮčŗąĄ ą┐čāą▒ą╗ąĖą║ą░čåąĖąĖ1. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖč湥čüčéą▓ąŠ ąĀąŠčüčüąĖąĖ čü ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ą╝ąĖ ą▓ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ąĮąĄ čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ąŠčüčī č鹥ą╝ąŠą╣ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąĮą░čāčćąĮąŠą│ąŠ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘą░.
ąÆ ą║ąŠąĮčåąĄ XIX ą▓. ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗čŗ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓ą░ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ąĖąĘ-ąĘą░ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖčÅ ąĖąĮą▓ąĄčüčéąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗčģ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ ąĮą░ ąĖčģ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠąĄ ąŠčüąĮą░čēąĄąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆąĄą║ą╗čÄčćąĖą╗ąĖ ąĮą░ ą▓čüą┐ąŠą╝ąŠą│ą░č鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ. ąÆ ąĖč鹊ą│ąĄ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĮąŠčüčéąĖ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▓ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ ą┐ąŠą║čĆčŗą▓ą░ą╗ąĖ ąĖ ąĘą░ čüč湥čé ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ čćą░čüčéąĮčŗčģ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖčÅčéąĖą╣, ąĖ ąĘą░ą║ą░ąĘąŠą▓ ąĘą░ ą│čĆą░ąĮąĖčåąĄą╣. ąóą░ą║, ąĘą░ą║ą░ąĘ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓ą░ ąĮą░ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą╗ą░č乥č鹊ą▓ ą║ 3-ą┤ą╝ ą┐čāčłą║ą░ą╝ ą▓ 1903 ą│. ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ąĖ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗąĄ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖčÅčéąĖčÅ. ąóčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī ┬½ą▓čüąĄą│ąŠ 987 ą╗ą░č乥č鹊ą▓ ŌĆ” ąśąĘ čŹč鹊ą│ąŠ čćąĖčüą╗ą░ ą╗ą░č乥č鹊ą▓ 400 ą▓ą║ą╗čÄč湥ąĮčŗ ą▓ ąĮą░čĆčÅą┤ ąĮą░ 1903 ą│. ą╝ąĄčüčéąĮčŗą╝ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░ą╝ (ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│čüą║ąŠą╝čā, ąÜąĖąĄą▓čüą║ąŠą╝čā ąĖ ąæčĆčÅąĮčüą║ąŠą╝čā), ą░ 587 ą╗ą░č乥č鹊ą▓ ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą▒čŗčéčī ąĘą░ą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ą┐čāč鹥ą╝ ąĘą░ą║ą░ąĘą░ ąĖčģ ąĮą░ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░čģ, ąĮąĄ ą┐čĆąĖąĮą░ą┤ą╗ąĄąČą░čēąĖčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝čā ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓čā. ŌĆ” ąÜąŠą╝ąĖčüčüąĖčÅ ą┐ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÄ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąŠą▒čĆą░čéąĖą╗ą░čüčī čü ąĘą░ą┐čĆąŠčüą░ą╝ąĖ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ą║ąĖ ą╗ą░č乥č鹊ą▓ ą║ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╝ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ą╝: ą×ą▒čāčģąŠą▓čüą║ąŠą╝čā, ą¤čāčéąĖą╗ąŠą▓čüą║ąŠą╝čā, ąĪ.-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│čüą║ąŠą╝čā ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąŠą╝čā, ąĘą░ą▓ąŠą┤čā ąØąŠą▒ąĄą╗čÅ, ąÉą╗ąĄą║čüą░ąĮą┤čĆąŠą▓čüą║ąŠą╝čā, ążčĆą░ąĮą║ąŠ-ąĀčāčüčüą║ąŠą╝čā ąĖ ąæčĆčÅąĮčüą║ąŠą╝čā čĆąĄą╗čīčüąŠą┐čĆąŠą║ą░čéąĮąŠą╝čā ąĖ ąČąĄą╗ąĄąĘąŠą┤ąĄą╗ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╝čā ąĘą░ą▓ąŠą┤čā┬╗2.
ąÆ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ą┐čĆą░ą▓čÅčēąĖąĄ ą║čĆčāą│ąĖ ąŠčüąŠąĘąĮą░ą▓ą░ą╗ąĖ čüą╗ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ ąĘą░ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą┤ą╗čÅ ą░čĆą╝ąĖąĖ ąĀąŠčüčüąĖąĖ. 24 ąĖčÄą╗čÅ 1901 ą│. ą┐čĆąŠą▓ąĄą╗ąĖ 1-ąĄ čüąŠą▓ąĄčēą░ąĮąĖąĄ ąÜąŠą╝ąĖčüčüąĖąĖ ą┐čĆąĖ ąōąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╝ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĄ ą┐ąŠą┤ ą┐čĆąĄą┤čüąĄą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠą╝ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĄčĆą░ ą┤ąĄą┐ą░čĆčéą░ą╝ąĄąĮčéą░ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖ ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą╣ ąŠčéč湥čéąĮąŠčüčéąĖ ąÉ.ąÆ. ąÆą░čüąĖą╗čīąĄą▓ą░ ą┤ą╗čÅ ą▓čŗčÅčüąĮąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüąŠą▓ ąŠą▒ čāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆąĄąĮąĖąĖ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĮąŠčüč鹥ą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖ ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓ ą▓ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąŠčĆčāą┤ąĖčÅčģ. ą”ąĄą╗čī ┬½čüąŠą▓ąĄčēą░ąĮąĖčÅ ŌĆō čŹč鹊 čāčüčéčĆą░ąĮąĖčéčī ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéčī ą▓ ąĘą░ą│čĆą░ąĮąĖčćąĮčŗčģ ąĘą░ą║ą░ąĘą░čģ, ą┤ą╗čÅ č湥ą│ąŠ ąĖ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčī ą┐ą╗ą░ąĮąŠą╝ąĄčĆąĮąŠčüčéčī ą▓ ąĘą░ą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄč鹊ą▓ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ┬╗3.
ąÆ č乥ą▓čĆą░ą╗ąĄ 1901 ą│. ą▓ ąÜąŠą╝ąĖč鹥č鹥 ą╝ąĖąĮąĖčüčéčĆąŠą▓ ąĮąĄąŠą┤ąĮąŠą║čĆą░čéąĮąŠ ąŠą▒čüčāąČą┤ą░ą╗ąĖ ┬½ą▓ąŠą┐čĆąŠčü ąŠ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ąĘą░ą║ą░ąĘą░čģ ąĘą░ ą│čĆą░ąĮąĖčåąĄčÄ ąĖ ąŠą▒ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖąĖ ąĖčģ čüą╗čāčćą░čÅą╝ąĖ čüą░ą╝ąŠą╣ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéąĖ┬╗, ą▓ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 čāčéą▓ąĄčĆą┤ąĖą╗ąĖ čĆčÅą┤ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖą╣4.
ąśąĘ ą┤ąŠą║čāą╝ąĄąĮč鹊ą▓ čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčüčÅ ą┐ąŠąĮčÅčéąĮąŠ, čćč鹊 ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ą░ čåąĄą╗ąŠčüčéąĮąŠčüčéčī ą▓ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĄ ąĘą░ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ą║ą░ą╝ąĖ. ąóą░ą║, ąĖąĘ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĖąĮąĖčüčéčĆą░ ąŠčé 14 č乥ą▓čĆą░ą╗čÅ 1901 ą│. čüą╗ąĄą┤čāąĄčé, čćč鹊 ┬½ąĪ.ą«. ąÆąĖčéč鹥 ąĘą░čÅą▓ąĖą╗ ą▓č湥čĆą░ ą▓ ąÜąŠą╝ąĖč鹥č鹥 ą╝ąĖąĮąĖčüčéčĆąŠą▓, čćč鹊 ąĮą░čłąĖ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąŠą▒ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗčģ ąĘą░ą║ą░ąĘą░čģ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ąĮąĄą▓ąĄčĆąĮčŗ, čćč鹊 ą▓ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ą╝čŗ ąĘą░ą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄą╝ ą▓ čüą║čĆčŗč鹊ą╝ ą▓ąĖą┤ąĄ ą│ąŠčĆą░ąĘą┤ąŠ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ┬╗5. ąÆ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ą▒čŗą╗ą░ čüąŠąĘą┤ą░ąĮą░ ą║ąŠą╝ąĖčüčüąĖčÅ ą┐ąŠ ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆą║ąĄ ąĘą░čÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąÆąĖčéč鹥. ąÜąŠą╝ąĖčüčüąĖčÅ ┬½ą┐čĆąĖčłą╗ą░ ą║ čüčéčĆą░ąĮąĮąŠą╝čā ą▓čŗą▓ąŠą┤čā, čćč鹊 čā ąĮą░čü č鹊ą╗čīą║ąŠ 30 % čĆčāčüčüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĘą░ą║ą░ąĘąŠą▓ ą┐ąŠ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗čāčĆą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ čćą░čüčéąĖ, ąŠčüčéą░ą╗čīąĮąŠąĄ ŌĆō ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮąŠą│ąŠ┬╗6.
ą¤ąŠčüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖąĄ ą║ąŠą╝ąĖčüčüąĖąĖ ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗąĄ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčŗ. ąóą░ą║, ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĖą╗ąĖ ą┤ą▓ąĄ ą│čĆčāą┐ą┐čŗ ąĘą░ą│čĆą░ąĮąĖčćąĮčŗčģ ąĘą░ą║ą░ąĘąŠą▓. ąÜ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą│čĆčāą┐ą┐ąĄ ąŠčéąĮąĄčüą╗ąĖ ┬½č鹥 ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄčéčŗ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ, ą▓čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĄ ąĮąĄąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗čÅąĄą╝ąŠčüčéąĖ ąĖčģ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ, ą╝ąŠą│čāčé ą▒čŗčéčī ąĘą░ą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄą╝čŗ ąĘą░ ą│čĆą░ąĮąĖčåąĄą╣, ą║ąŠ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą│čĆčāą┐ą┐ąĄ ŌĆō č鹥, ąĘą░ą║ą░ąĘ ą║ąŠąĖčģ ąĘą░ ą│čĆą░ąĮąĖčåąĄą╣ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąĄą┤ąĄąĮ čāčüą╗ąŠą▓ąĮąŠ, čé. ąĄ. ą▓ č鹊ą╝ č鹊ą╗čīą║ąŠ čüą╗čāčćą░ąĄ, ąĄčüą╗ąĖ, ąĮąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ ą▓čŗąĘąŠą▓ čĆčāčüčüą║ąĖčģ čäąĖčĆą╝, ąĮąĖ ąŠą┤ąĮą░ ąĖąĘ ąĮąĖčģ ąĮąĄ čüąŠą│ą╗ą░čłą░ąĄčéčüčÅ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĖčéčī ą┐čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░ąĄą╝čŗą╣ ąĘą░ą║ą░ąĘ┬╗7. ą¤ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗčģ ą╝ąĄčĆ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ. ┬½ąØąĄčüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéčī ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ čĆąĄčłąĖčéčī ą▓ąŠą┐čĆąŠčü ąŠ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╝ čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖąĖ ą░čĆą╝ąĖąĖ ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖą╗ą░ ą║ ąĘą░ą│čĆą░ąĮąĖčćąĮčŗą╝ ąĘą░ą║ą░ąĘą░ą╝┬╗8.
ąÆ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÄ ą┐ąŠ ąĘą░ą║ą░ąĘą░ą╝ ąōą╗ą░ą▓ąĮąŠą│ąŠ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ (ąōąÉąŻ) ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖą╗ąĖ čćą░čüčéąĮčŗąĄ ąĘą░ą▓ąŠą┤čŗ, ą┐ąŠą┤čćą░čü čü ą┐čĆąĖą▓ą╗ąĄč湥ąĮąĖąĄą╝ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗčģ ąĖąĮą▓ąĄčüčéąĖčåąĖą╣. ąóą░ą║ą░čÅ čüąĖčéčāą░čåąĖčÅ ą║ą░ą║ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮą░čÅ čāčüčéčĆą░ąĖą▓ą░ą╗ą░ ąōąÉąŻ, čé. ą║. ą▓ čüą╗čāčćą░ąĄ ą▓ąĘą▓ąĖąĮčćąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ čåąĄąĮ čćą░čüčéąĮčŗą╝ąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ ą▓ąĮčāčéčĆąĖ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠąĄ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ ┬½ą┐čĆąĖą▒ąĄą│ą░ą╗ąŠ ą║ ą┐ąĄčĆąĄą│ąŠą▓ąŠčĆą░ą╝ ąŠ čüą░ą╝ąŠą╣ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ ąĘą░ą║ą░ąĘąŠą▓ ąĘą░ ą│čĆą░ąĮąĖčåąĄą╣ ŌĆ” čü čåąĄą╗čīčÄ ą┤ąŠą▒ąĖčéčīčüčÅ ą┐ąŠąĮąĖąČąĄąĮąĖčÅ čåąĄąĮ ąĮą░ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąŠą▓┬╗9.
ąōąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą░ą┤čŖčÄčéą░ąĮčé ąÜčāčĆąŠą┐ą░čéą║ąĖąĮ ą┐ąĖčüą░ą╗ ą┐ąŠčüą╗ąĄ čĆčāčüčüą║ąŠ-čÅą┐ąŠąĮčüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ, čćč鹊 ┬½ąĮą░čłą░ ąĮąĄą│ąŠč鹊ą▓ąĮąŠčüčéčī ą║ ą▓ąŠą╣ąĮąĄ ą▒čŗą╗ą░ ą▓čŗąĘą▓ą░ąĮą░ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮčŗą╝ ąŠčéą┐čāčüą║ąŠą╝ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ ąĮą░ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ┬╗10. ąÆ ąŠčéą▓ąĄčé ąĮą░ ąĘą░čÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąÜčāčĆąŠą┐ą░čéą║ąĖąĮą░, ąÆąĖčéč鹥, ąĘą░ąĮąĖą╝ą░ą▓čłąĖą╣ ą┐ąŠčüčé ą╝ąĖąĮąĖčüčéčĆą░ čäąĖąĮą░ąĮčüąŠą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ, čüčĆą░ą▓ąĮąĖą╗ ą▒čÄą┤ąČąĄčéąĮčŗąĄ čĆą░čüčģąŠą┤čŗ ąĀąŠčüčüąĖąĖ, ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ, ąōąĄčĆą╝ą░ąĮąĖąĖ, ąÉą▓čüčéčĆąŠ-ąÆąĄąĮą│čĆąĖąĖ ąĖ ąśčéą░ą╗ąĖąĖ. ąÆčŗą▓ąŠą┤ ą▒čŗą╗ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╝: ┬½ą¤ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮčŗą╝ ąĘą░čéčĆą░čéą░ą╝ ąĮą░ ą▓ąŠąĄąĮąĮčāčÄ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčā ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąĖ ą┐ąŠ čĆąŠčüčéčā čŹčéąĖčģ ąĘą░čéčĆą░čé ąĀąŠčüčüąĖčÅ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĮąĄ ąŠčéčüčéą░ąĄčé ąŠčé ą┤čĆčāą│ąĖčģ ąĄą▓čĆąŠą┐ąĄą╣čüą║ąĖčģ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓, ąĮąŠ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░ąĄčé čüčĆąĄą┤ąĖ ąĮąĖčģ ą┐ąĄčĆą▓ąĄąĮčüčéą▓čāčÄčēąĄąĄ ą╝ąĄčüč鹊┬╗11. ąóą░ą║, ą▓ 1901 ą│. ąĮą░ ą░čĆą╝ąĖčÄ ąĖ čäą╗ąŠčé ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą┐ąŠčéčĆą░čéąĖą╗ąĖ 451,8 ą╝ą╗ąĮ. čĆčāą▒., ą░ ą▓ ąōąĄčĆą╝ą░ąĮąĖąĖ ŌĆō 453,3 ą╝ą╗ąĮ. čĆčāą▒. ąÆ 1906 ą│. ąĘą░čéčĆą░čéčŗ ąĀąŠčüčüąĖąĖ čüąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ąĖ 528,5 ą╝ą╗ąĮ. čĆčāą▒., ą░ ąōąĄčĆą╝ą░ąĮąĖąĖ, ąĮąĄąĮą░ą╝ąĮąŠą│ąŠ ąŠčéčüčéą░ą▓ą░ą▓čłąĄą╣, 477,9 ą╝ą╗ąĮ. čĆčāą▒.12 ąĪčĆą░ą▓ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ą┤ą░ąĮąĮčŗąĄ, ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮčŗąĄ ąÆąĖčéč鹥 ą┐ąŠ ą┤čĆčāą│ąĖą╝ čüčéčĆą░ąĮą░ą╝, čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāčÄčé ąŠ č鹊ą╝ ąČąĄ. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ ą┐ąŠą╝ąĮąĖčéčī, čćč鹊 ąĀąŠčüčüąĖčÅ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░ą╗ą░ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĄą╣ ąĖ ąĄąĄ ą░čĆą╝ąĖčÅ ąĖ čäą╗ąŠčé ą▒čŗą╗ąĖ čĆą░čüčüčĆąĄą┤ąŠč鹊č湥ąĮčŗ ą┐ąŠ ąĮąĄą╣. ąÆčüąĄ čŹč鹊, ą║ą░ą║ ąĖ čĆčÅą┤ ą┤čĆčāą│ąĖčģ čäą░ą║č鹊čĆąŠą▓ (ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, čüčāčĆąŠą▓čŗąĄ ąĘąĖą╝čŗ, ąĘą░čéčĆą░čéčŗ ąĮą░ čĆčāčüčüą║ąŠ-čÅą┐ąŠąĮčüą║čāčÄ ą▓ąŠą╣ąĮčā ąĖ čé. ą┤.), ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╣ čĆąŠčüčé čäąĖąĮą░ąĮčüąŠą▓čŗčģ čĆą░čüčģąŠą┤ąŠą▓, ąĮąĄ ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤čÅ ą║ ą┐ąŠą╗čīąĘąĄ ą┤ąĄą╗ą░. ąÆą╝ąĄčüč鹥 čü č鹥ą╝, ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ ą┐ąŠą┤č湥čĆą║ąĮčāčéčī ą▓ą║ą╗ą░ą┤ ąÆąĖčéč鹥 ą▓ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖą║ąĖ
ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░. ąĢą│ąŠ čĆąĄč乊čĆą╝ą░ čüčéą░ą▒ąĖą╗ąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ą░ čäąĖąĮą░ąĮčüčŗ, ┬½čćč鹊 čüą┐ąŠčüąŠą▒čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ąĖąĮč鹥ą│čĆą░čåąĖąĖ čüčéčĆą░ąĮčŗ ą▓ ą╝ąĖčĆąŠą▓čāčÄ čŹą║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║čāčÄ čüąĖčüč鹥ą╝čā, ą┐čĆąĖč鹊ą║čā ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗčģ ąĖąĮą▓ąĄčüčéąĖčåąĖą╣ ąĖ čāčüą║ąŠčĆąĄąĮąĖčÄ ąĖąĮą┤čāčüčéčĆąĖą░ą╗čīąĮąŠ-ą║ą░ą┐ąĖčéą░ą╗ąĖčüčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą╝ąŠą┤ąĄčĆąĮąĖąĘą░čåąĖąĖ┬╗13.
ąöą░ąĮąĮčŗąĄ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāčÄčé ąŠ ąČąĄą╗ą░ąĮąĖąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ą░ čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░čéčī ą▓ąŠąĄąĮąĮčāčÄ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī, ąĮąŠ ąĄą│ąŠ č鹊čĆą╝ąŠąĘąĖą╗ąĖ ą▓ą▓ąĖą┤čā ąĮąĄčģą▓ą░čéą║ąĖ čäąĖąĮą░ąĮčüąŠą▓čŗčģ čüčĆąĄą┤čüčéą▓. ąÆ.ąØ. ąÜąŠą║ąŠą▓čåąŠą▓ čéą░ą║ ąŠčģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĖąĘąŠą▓ą░ą╗ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ čü 1904 ą┐ąŠ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮčā 1907 ą│ą│.: ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ą▒čŗą╗ ąĘą░ąĮčÅčé čüąĮą░čćą░ą╗ą░ čĆčāčüčüą║ąŠ-čÅą┐ąŠąĮčüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮąŠą╣, ą░ ąĘą░č鹥ą╝ čĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖąŠąĮąĮčŗą╝ ą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖąĄą╝ 1905ŌĆō1906 ą│., ą▓ čŹčéčā ą┐ąŠčĆčā ąĮąĄą╗čīąĘčÅ ą▒čŗą╗ąŠ ą┤čāą╝ą░čéčī ąŠ ą║ą░ą║ąŠą╣&ą╗ąĖą▒ąŠ čüąŠąĘąĖą┤ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąĄ14. ąÜčĆčāą┐ąĮčŗą╣ čüąŠą▓ąĄčéčüą║ąĖą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖą║ čüąŠčåąĖą░ą╗čīąĮąŠ&菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą║ąŠąĮčåą░ XIX ŌĆō ąĮą░čćą░ą╗ą░ XX ą▓ą▓. ąÉ.ąø. ąĪąĖą┤ąŠčĆąŠą▓ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ ąĮą░ ąŠčéą║čĆąŠą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ąĮąĄą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĄ čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą╝ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ą░ čäąĖąĮą░ąĮčüąŠą▓ ą║ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÄ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ ąĮą░ ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ┬½ąÆ 1905 ą│. ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠąĄ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓ąŠ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ąŠ ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝čā čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ąŠą│čĆąŠą╝ąĮčŗčģ ąĄą┤ąĖąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ąĘą░čéčĆą░čé ą▓ 896 ą╝ą╗ąĮ. čĆčāą▒ą╗ąĄą╣ ąĖ ąĄąČąĄą│ąŠą┤ąĮčŗčģ ąĘą░čéčĆą░čé ą┐ąŠ 42 ą╝ą╗ąĮ. čĆčāą▒ą╗ąĄą╣. ŌĆ” ąÜąŠą║ąŠą▓čåąŠą▓ ąĮą░ąĘą▓ą░ą╗ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüč鹊ą▓ čüčāą╝ą░čüą▒čĆąŠą┤ąĮčŗą╝ąĖ┬╗15.
ąÆą╝ąĄčüč鹥 čü č鹥ą╝ čü ą║ąŠąĮčåą░ 1907 ą│., ą┐ąŠ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ąĖąĘą░čåąĖąĖ ąÜąŠą║ąŠą▓čåąŠą▓ą░, ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčéčüčÅ ąĮąŠą▓čŗą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ ąĀąŠčüčüąĖąĖ. ąĀą░čüčģąŠą┤čŗ ą▓čŗčĆąŠčüą╗ąĖ ą▓ ┬½ąĮąĄą▒čŗą▓ą░ą╗čŗčģ ą┤ąŠ č鹊ą│ąŠ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆą░čģ ą┐ąŠ ą▓čüąĄą╝ ąŠčéčĆą░čüą╗čÅą╝ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ąČąĖąĘąĮąĖ┬╗, čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ čĆąŠčüą╗ąĖ čĆą░čüčģąŠą┤čŗ ąĖ ąĮą░ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčā16.
ąÆ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ąĀąŠčüčüąĖčÅ ąĘą░ą║ą╗čÄčćąĖą╗ą░ ą╝ąĄąČą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗąĄ ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆčŗ čü ąÉąĮą│ą╗ąĖąĄą╣, ąōąĄčĆą╝ą░ąĮąĖąĄą╣, ążčĆą░ąĮčåąĖąĄą╣ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖą╝ąĖ čüčéčĆą░ąĮą░ą╝ąĖ ą┐ąŠ čłąĖčĆąŠą║ąŠą╝čā ą║čĆčāą│čā ą▓ąŠą┐čĆąŠčüąŠą▓, ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ ąĖ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖč湥čüčéą▓čā ą▓ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ čüč乥čĆąĄ. ąÆąĄą╗ąĖčüčī ą┐ąĄčĆąĄą│ąŠą▓ąŠčĆčŗ ąĖ čĆą░ąĮčīčłąĄ. ąóą░ą║, ąĖąĘ ą┐ąĖčüčīą╝ą░ ą╝ąĖąĮąĖčüčéčĆą░ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗčģ ą┤ąĄą╗ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ąōąĖčĆčüą░ ą┐ąŠčüą╗čā ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▓ ą¤ą░čĆąĖąČąĄ ą£ąŠčĆąĄąĮą│ąĄą╣ą╝čā, ą┤ą░čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ąĄčēąĄ ą░ą▓ą│čāčüč鹊ą╝ 1891 ą│., čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąŠ, čćč鹊 ąĀąŠčüčüąĖčÅ ąĖ ążčĆą░ąĮčåąĖčÅ ą┐čĆąĖčłą╗ąĖ ą║ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄą╝čā: ┬½ąĢčüą╗ąĖ ą▒čŗ ąŠą┤ąĮą░ ąĖąĘ ą┤ą▓čāčģ čüč鹊čĆąŠąĮ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ą░čüčī ą┐ąŠą┤ čāą│čĆąŠąĘąŠą╣ ąĮą░ą┐ą░ą┤ąĄąĮąĖčÅ, ąŠą▒ąĄ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ čāčüą╗ą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░čÄčéčüčÅ ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčīčüčÅ ąŠ ą╝ąĄčĆą░čģ, ąĮąĄą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠąĄ ąĖ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠąĄ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĄ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ąŠą║ą░ąČąĄčéčüčÅ ą▓ čüą╗čāčćą░ąĄ ąĮą░čüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąŠąĘąĮą░č湥ąĮąĮčŗčģ čüąŠą▒čŗčéąĖą╣ ąĮą░čüč鹊čÅč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ą┤ą╗čÅ ąŠą▒ąĄąĖčģ┬╗17.
ąÉą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéčī ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▓ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ&č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖč湥čüčéą▓ą░ čü ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ą╝ąĖ ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ą░ ą║ č鹊ą╝čā, čćč鹊 ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ąĄąĄ ą┐ą░čĆčéąĮąĄčĆą░ą╝ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ: ┬½ąōąĄčĆą╝ą░ąĮąĖčÅ, ążčĆą░ąĮčåąĖčÅ, ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą▒čĆąĖčéą░ąĮąĖčÅ, ąĪą©ąÉ, ąÉą▓čüčéčĆąŠ-ąÆąĄąĮą│čĆąĖčÅ, ąæąŠą╗ą│ą░čĆąĖčÅ, ąĪąĄčĆą▒ąĖčÅ, ą¦ąĄčĆąĮąŠą│ąŠčĆąĖčÅ, ą»ą┐ąŠąĮąĖčÅ, ąÜąĖčéą░ą╣, ą£ąŠąĮą│ąŠą╗ąĖčÅ ąĖ ą┤čĆ.┬╗18 ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝, ą║ą░ą║ ąŠčéą╝ąĄčćą░ąĄčé ą▓ ąĘą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĖ ą║ čüą▓ąŠąĄą╣ ą┤ąĖčüčüąĄčĆčéą░čåąĖąĖ ą£.ąÉ. ąÜą░ą┐ą░ąĄą▓, ┬½ą┤ąŠ 96 % ą▓čüąĄčģ ąĘą░čĆčāą▒ąĄąČąĮčŗčģ ąĖąĮą▓ąĄčüčéąĖčåąĖą╣ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī ąĮą░ 4 ąĄą▓čĆąŠą┐ąĄą╣čüą║ąĖąĄ čüčéčĆą░ąĮčŗ: ążčĆą░ąĮčåąĖčÄ, ąōąĄčĆą╝ą░ąĮąĖčÄ, ąÉąĮą│ą╗ąĖčÄ ąĖ ąæąĄą╗čīą│ąĖčÄ┬╗19.
ąÆ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗąĄ ą║ą░ą┐ąĖčéą░ą╗čŗ čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░ą╗ąĖ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ. ą×ą┤ąĮčā ąĖąĘ ą▓ąĄą┤čāčēąĖčģ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖą╣ ąĘą░ąĮčÅą╗ą░ ąÉąĮą│ą╗ąĖčÅ, ą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčÅ ┬½ą┤ąŠ 48 % ą┐ąŠą╗čāč湥ąĮąĮčŗčģ ąĖąĘ-ąĘą░ ą│čĆą░ąĮąĖčåčŗ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣, ą░ ąĄčüą╗ąĖ ą▒čĆą░čéčī č鹊ą╗čīą║ąŠ čéčÅąČąĄą╗čāčÄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÄ, č鹊 ąŠąĮą░ čüąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ą░ 2/3 ąŠčé ą▓čüąĄą│ąŠ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░┬╗20.
ąÆ čüąĖą╗čā čüčéčĆą░č鹥ą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĘąĮą░čćąĖą╝ąŠčüčéąĖ ąĖ čĆąŠą╗ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮąŠčüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░, ą▓ąŠą║čĆčāą│ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĮąŠčüčéąĖ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▓ čŹč鹊ą╝ ą▓ąĖą┤ąĄ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ, ą┐ąŠ čüą╗ąŠą▓ą░ą╝ ąÆ.ąś. ąæąŠą▓čŗą║ąĖąĮą░, ąĘą░ą▓čÅąĘą░ą╗ą░čüčī ┬½čüčģą▓ą░čéą║ą░┬╗. ąóą░ą║, ą▓ ąČąĄčüčéą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮą║čāčĆąĄąĮčåąĖąĖ čĆčÅą┤ą░ čüč鹊čĆąŠąĮ ą▓ 1913 ą│. čāčćčĆąĄą┤ąĖą╗ąĖ ąĀčāčüčüą║ąŠąĄ ą░ą║čåąĖąŠąĮąĄčĆąĮąŠąĄ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąŠ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąŠą▓. ąæąŠą╗čīčłąŠąĄ čäąĖąĮą░ąĮčüąŠą▓ąŠąĄ čāčćą░čüčéąĖąĄ ą▓ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄ ą┐čĆąĖąĮčÅą╗ą░ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ą░čÅ ą║ąŠą╝ą┐ą░ąĮąĖčÅ ąÆąĖą║ą║ąĄčĆčü21.
ąśčüč鹊čĆąĖčÅ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ-č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖč湥čüčéą▓ą░ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ąĄčé ąĖąĮč鹥čĆąĄčü ąĖ čā 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖčüč鹊ą▓22. ąśčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčĆą┤ąĖą╗ąĖ, čćč鹊 ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖąĄ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░č鹥ą╗ąĖ čāą▓ąĄčĆąĄąĮąĮąŠ čćčāą▓čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ čüąĄą▒čÅ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ. ┬½ą¤ąĄčĆą▓ąŠąŠč湥čĆąĄą┤ąĮąŠą╣ ąĘą░ą┤ą░č湥ą╣ ŌĆ£ą│čĆčāą┐ą┐čŗ ąÆąĖą║ą║ąĄčĆčüŌĆØ čÅą▓ąĖą╗ąŠčüčī čüąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ą▓ ą│. ą”ą░čĆąĖčåčŗąĮąĄ (ąĮčŗąĮąĄ ąÆąŠą╗ą│ąŠą│čĆą░ą┤) ą║čĆčāą┐ąĮąĄą╣čłąĄą│ąŠ ą▓ ąĢą▓čĆąŠą┐ąĄ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ ą┐ąŠ ą▓čŗą┐čāčüą║čā ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ ąĖ ą▒ąĄčĆąĄą│ąŠą▓čŗčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣┬╗23. ąśąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗąĄ ą║ąŠą╝ą┐ą░ąĮąĖąĖ ą┐čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░ą╗ąĖ ą▓ąĘčÅčéčī ą┐ąŠą┤ čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĖ čüčāčēąĄčüčéą▓čāčÄčēąĄąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ. ąóą░ą║, ąĮą░ą║ą░ąĮčāąĮąĄ ą¤ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą╝ąĖčĆąŠą▓ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ čéą░ą║ąĖąĄ ąĘą░čÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą║ą░čüą░ą╗ąĖčüčī čüčāą┤čīą▒čŗ ą¤ąĄčĆą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čāčłąĄčćąĮąŠą│ąŠ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░24. ą¤ąŠą╝ąĖą╝ąŠ ą┐čĆąŠčćąĖčģ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąĖčģ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖą╣ ąĀąŠčüčüąĖčÄ ąĘą░ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąŠą▓ą░ą╗ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ ┬½ą╝ąĖą╗čīą▓ąŠą╗čīčüą║ąĖčģ čēąĖč鹊ą▓┬╗, ┬½čüčéčĆąĖąĮą│ąĄčĆąŠą▓ ąźčīčĹʹ░┬╗ (čéą░ą║ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ąö. ąźčīčĹʹŠą╝ ą╗ą░č乥čéčŗ ą┤ą╗čÅ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ ą┐čāčłąĄą║). ąÆ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ą▓ ąÉąĮą│ą╗ąĖčÄ ą┤ą╗čÅ ą┐ąĄčĆąĄą│ąŠą▓ąŠčĆąŠą▓, ą║ą░čüą░čÄčēąĖčģčüčÅ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░, ąŠčéą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąĖ čĆčāčüčüą║ąĖčģ ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąŠą▓ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ą░ ąóąŠą╝ąĖą▒ąĄąĮą░ ąĖ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ą░ ąōąĄčĆąĮą░25.
ą¤čĆąĖ ą▓čüąĄą╣ ą▓ą░ąČąĮąŠčüčéąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ&č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖč湥čüčéą▓ą░ čü ąÉąĮą│ą╗ąĖąĄą╣, čā ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ, ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ čüąŠą╗ąĖą┤ąĮčŗąĄ ą┐ą░čĆčéąĮąĄčĆčŗ. ąÆ ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ čŹč鹊 ąŠčéąĮąŠčüąĖčéčüčÅ ą║ ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ, čÅą▓ą╗čÅą▓čłąĄą╣čüčÅ ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖ ą▓ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąŠą╝ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąŠą▓čŗą╝ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠą╝ ą▓ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ ą┐ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░. ąöą╗čÅ ąĀąŠčüčüąĖąĖ čéą░ą║ąŠąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą┤ąĄą╗ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓čŗą│ąŠą┤ąĮąŠ, čé. ą║. ąĖąĘ ą▓čüąĄčģ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖą╣ ą▓čŗą▒čĆą░ą╗ąĖ ą╗čāčćčłąĄąĄ. ąóą░ą║, ┬½ą¤čāčéąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣ ąĘą░ą▓ąŠą┤ ąĘą░ čüčĆą░ą▓ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ąĘą░ąĮčÅą╗ ą╗ąĖą┤ąĖčĆčāčÄčēąĄąĄ ą╝ąĄčüč鹊 ą▓ ą┐čĆąŠąĄą║čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ąĖ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ąĄ, ąŠą┐čŗčéąĮąŠą╝ ąĖ ą▓ą░ą╗ąŠą▓ąŠą╝ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄ ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖ ą▓čüąĄčģ čéąĖą┐ąŠą▓ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ąĖ ą│ąŠčĆąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąŠčé ą╗ąĄą│ą║ąĖčģ ą┐čāčłąĄą║ ą┤ąŠ ą│ą░čāą▒ąĖčå. ąŁč鹊ą╝čā ą▓ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąŠą╝ čüą┐ąŠčüąŠą▒čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą┤ąŠčüčéąĖą│ąĮčāčéčŗąĄ ą▓ 1904 ą│. ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗąĄ čüąŠą│ą╗ą░čłąĄąĮąĖčÅ čü čäąĖčĆą╝ąŠą╣ ą©ąĮąĄą╣ą┤ąĄčĆ (ążčĆą░ąĮčåąĖčÅ), ą░ ą▓ 1907 ą│. ąĖ čü ą║ąŠąĮą║čāčĆąĄąĮč鹊ą╝ ą©ąĮąĄą╣ą┤ąĄčĆą░ ŌĆō ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ą╝ąĖ ąÜčĆčāą┐ą┐ą░. ąÜčĆąŠą╝ąĄ čŹčéąĖčģ čüąŠą│ą╗ą░čłąĄąĮąĖą╣, ą¤čāčéąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣ ąĘą░ą▓ąŠą┤ ą▒čŗą╗ čüą▓čÅąĘą░ąĮ čü ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╣ čäąĖčĆą╝ąŠą╣ ąÉčĆą╝čüčéčĆąŠąĮą│ ą▓ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄ ą╝ąĖąĮąĮčŗčģ ą░ą┐ą┐ą░čĆą░č鹊ą▓ ąĖ čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╣ čäąĖčĆą╝ąŠą╣ ąōąŠą╗čīčåąĄčĆ ŌĆō ą▓ ą▒čĆąŠąĮąĄą▒ąŠą╣ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░čģ. ą¤ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗąĄ čüąŠą│ą╗ą░čłąĄąĮąĖčÅ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ ąĘą░ą▓ąŠą┤čŗ: ążčĆą░ąĮą║ąŠ-ąĀčāčüčüą║ąĖą╣ čü čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╣ ą©ą░čéąĖą╗čīąŠąĮ-ąÜąŠą╝ą╝ą░ąĮčéčĆąĖ, ąÉą╗ąĄą║čüą░ąĮą┤čĆąŠą▓čüą║ąĖą╣ čüčéą░ą╗ąĄą╗ąĖč鹥ą╣ąĮčŗą╣ čü ą│ąĄčĆą╝ą░ąĮčüą║ąĖą╝ ąŁčĆčģą░čĆą┤č鹊ą╝, ąĘą░ą▓ąŠą┤ ąøąĄčüčüąĮąĄčĆą░ čü ą░ą▓čüčéčĆąĖą╣čüą║ąĖą╝ ąŻą░ą╣čéčģąĄą┤ąŠą╝┬╗26.
ąöąŠ ąĮą░čćą░ą╗ą░ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąĀąŠčüčüąĖčÅ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖčćą░ą╗ą░ ąĖ čü ąōąĄčĆą╝ą░ąĮąĖąĄą╣. ┬½ąÆ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ą│ąĄčĆą╝ą░ąĮčüą║ąĖąĄ ą║ą░ą┐ąĖčéą░ą╗čŗ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ čéčĆąĄčéčīąĄą╝ ą╝ąĄčüč鹥 čüčĆąĄą┤ąĖ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗčģ ą▓ą╗ąŠąČąĄąĮąĖą╣ ą▓ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą║ą░ą┐ąĖčéą░ą╗ąŠą▓ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą▒čĆąĖčéą░ąĮąĖąĖ ąĖ ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ┬╗27.
ąØą░ą║ą░ąĮčāąĮąĄ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą▓ 1909ŌĆō1913 ą│ą│. ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮčŗ ą╝ąĄčĆąŠą┐čĆąĖčÅčéąĖčÅ ą┐ąŠ čĆąĄč乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ ą░čĆą╝ąĖąĖ. ąźąŠčéčÅ čĆąĄą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖčÄ ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝čŗ ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖą╣ ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ą░ ą▓ąŠą╣ąĮą░, ąĮąŠ ą░čĆą╝ąĖčÅ ą▒čŗą╗ą░ čāą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮą░, čćą░čüčéąĖčćąĮąŠ čāčüąĖą╗ąĄąĮą░ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÅ28. ążąĖąĮą░ąĮčüąŠą▓čŗąĄ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ą░ ąŠčé ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗčģ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ ąŠąČąĖą▓ąĖą╗ąĖ čĆą░ą▒ąŠčéčā ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖčÅčéąĖą╣ ąĀąŠčüčüąĖąĖ. ąØąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéčī ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮčåąĄą▓ ą▓ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ, ą║ ąĮą░čćą░ą╗čā I ą£ąĖčĆąŠą▓ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮą░čÅ ą▓ąŠąĄąĮąĮą░čÅ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ą▓ čåąĄą╗ąŠą╝ ą▒čŗą╗ą░ ąĮąĄ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮą░. ąÆ 1914 ą│. ┬½ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÅ ąĮąĄą╝čåąĄą▓ ą▒čŗą╗ą░ ą╝ąŠą│čāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąĄąĄ┬╗29.
ą×ą▒ąŠčüčéčĆąĄąĮąĖąĄ ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗčģ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖą╣, ą▓čŗąĘą▓ą░ąĮąĮąŠąĄ ą▒ą░ą╗ą║ą░ąĮčüą║ąĖą╝ąĖ ą▓ąŠą╣ąĮą░ą╝ąĖ, ą┐ąŠčüą╗čāąČąĖą╗ąŠ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą┤ą╗čÅ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖčÅ ą░čĆą╝ąĖą╣ ą▓ ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗčģ čüčéčĆą░ąĮą░čģ ąĢą▓čĆąŠą┐čŗ. ą¤ąĄčĆą▓čŗą╣ čłą░ą│ čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ą░ ąōąĄčĆą╝ą░ąĮąĖčÅ, ąĘą░ ąĮąĄą╣ ŌĆō ąÉą▓čüčéčĆąŠ-ąÆąĄąĮą│čĆąĖčÅ30. ąŁč鹊 ą▓čüčéčĆąĄą▓ąŠąČąĖą╗ąŠ ą┐ąŠč鹥ąĮčåąĖą░ą╗čīąĮčŗčģ čüąŠčĹʹĮąĖą║ąŠą▓ ŌĆō ąĀąŠčüčüąĖčÄ ąĖ ążčĆą░ąĮčåąĖčÄ. ąĪ ąĮą░čćą░ą╗ąŠą╝ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ&č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą║ąŠąĮčéą░ą║čéčŗ čü ąōąĄčĆą╝ą░ąĮąĖąĄą╣ ąĖ ąĄąĄ čüąŠčĹʹĮąĖą║ą░ą╝ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ čüą▓ąĄčĆąĮčāčéčŗ.
ą¤ąĄčĆą▓ą░čÅ ą╝ąĖčĆąŠą▓ą░čÅ ą▓ąŠą╣ąĮą░ ąĮą░čćą░ą╗ą░čüčī 28 ąĖčÄą╗čÅ 1914 ą│. ąÆ č鹥č湥ąĮąĖąĄ ąĮąĄą┤ąĄą╗ąĖ čü ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéą░ ąŠą▒čŖčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąÉą▓čüčéčĆąŠ-ąÆąĄąĮą│čĆąĖąĄą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąĪąĄčĆą▒ąĖąĖ ą▓ ąĮąĄąĄ ą▓čéčÅąĮčāą╗ąĖčüčī ą┐ąŠčćčéąĖ ą▓čüąĄ ą▓ąĄą╗ąĖą║ąĖąĄ ą┤ąĄčƹȹ░ą▓čŗ ąĢą▓čĆąŠą┐čŗ, ąĮąĄ čüčéą░ą╗ą░ ąĖčüą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄą╝ ąĖ ąĀąŠčüčüąĖčÅ.
ą¤ąŠ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ąĮąĖčÄ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĖąĮąĖčüčéčĆą░ ą¤ąŠą╗ąĖą▓ą░ąĮąŠą▓ą░, ąĀąŠčüčüąĖąĖ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąŠ č鹥čģ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, ┬½ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗čÅčÄčé ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄčéčŗ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖčÅ┬╗31. ąØąĄ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮąŠ čā ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▓ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé ąĄąĄ ą▓čüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓ ą¤ąĄčĆą▓čāčÄ ą╝ąĖčĆąŠą▓čāčÄ ą▓ąŠą╣ąĮčā ą▒čŗą╗ąŠ ą▓čüąĄą│ąŠ ą╗ąĖčłčī 7088 ąŠčĆčāą┤ąĖą╣ ą▓čüąĄčģ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ 13 476 ąŠčĆčāą┤ąĖą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ąĖ čĆą░čüą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą╗ą░ ą░ą▓čüčéčĆąŠ-ą│ąĄčĆą╝ą░ąĮčüą║ą░čÅ ą░čĆą╝ąĖčÅ. ąĀčāčüčüą║ąĖąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖąĄ ąĘą░ą▓ąŠą┤čŗ ą▓čŗą┐čāčüą║ą░ą╗ąĖ ą┐čĆąĄąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ą╗ąĄą│ą║ąĖąĄ ąŠčĆčāą┤ąĖčÅ ŌĆō 3-ą┤ą╝ ą┐čāčłą║ąĖ, 48-ą╝ą╝ ą┐ąŠą╗ąĄą▓čŗąĄ ą│ą░čāą▒ąĖčåčŗ, 57-ą╝ą╝ ą║ą░ąĮąŠąĮąĄčĆąĮčŗąĄ, ą│ąŠčĆąĮčŗąĄ ą┐ąŠą╗ąĄą▓čŗąĄ ą┐čāčłą║ąĖ. ąóčÅąČąĄą╗čŗčģ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣ ąĮąĄ čģą▓ą░čéą░ą╗ąŠ. ą¤čĆąŠčéąĖą▓ 1396 čéčÅąČąĄą╗čŗčģ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣, čü ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ąĖ ąĮą░čćą░ą╗ą░ ą▓ąŠą╣ąĮčā ą░ą▓čüčéčĆąŠ-ą│ąĄčĆą╝ą░ąĮčüą║ą░čÅ ą░čĆą╝ąĖčÅ, čĆčāčüčüą║ą░čÅ ą░čĆą╝ąĖčÅ ąĖą╝ąĄą╗ą░ ą▓čüąĄą│ąŠ ą╗ąĖčłčī 24032. ąĪą╗ąŠąČąĮąŠąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą┤ąĄą╗ čü ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║č鹊ą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĄą╣ ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčĆą┤ąĖą╗ ąæąĄčüą║čĆąŠą▓ąĮčŗą╣, čāą║ą░ąĘą░ą▓, čćč鹊 ┬½čäą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖ čĆčāčüčüą║ą░čÅ ą░čĆą╝ąĖčÅ ą▓čüčéčāą┐ąĖą╗ą░ ą▓ ą▓ąŠą╣ąĮčā ą▒ąĄąĘ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ą▓ č鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ ą║ą░ą║ ą░čĆą╝ąĖąĖ ąōąĄčĆą╝ą░ąĮąĖąĖ, ąÉą▓čüčéčĆąŠ-ąÆąĄąĮą│čĆąĖąĖ čĆą░čüą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą╗ąĖ ąĄčÄ┬╗33.
ąĪ ąĮą░čćą░ą╗ąŠą╝ ą╝ąĖčĆąŠą▓ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą░ą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠčüčéčī ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ&č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖč湥čüčéą▓ą░ čü ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ą╝ąĖ čāčüąĖą╗ąĖą╗ą░čüčī. ąÆ čüąĖą╗čā ą│ąĄąŠą│čĆą░čäąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ą╗ąĖąĘąŠčüčéąĖ ą▓ą░ąČąĮčŗą╝ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ&č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖą╝ čüąŠčĹʹĮąĖą║ąŠą╝ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▒čŗą╗ą░ ążčĆą░ąĮčåąĖčÅ. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ą▓ąŠ ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąĮąĄ ą▓čüąĄ ąŠą▒čüč鹊čÅą╗ąŠ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┐ąŠą╗čāčćąĮąŠ. ąÆąŠąĄąĮąĮčŗą╣ ą░ą│ąĄąĮčé ą▓ąŠ ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ ąÉ.ąÉ. ąśą│ąĮą░čéčīąĄą▓ ąŠčéą╝ąĄčćą░ą╗, čćč鹊 ąĮą░ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąĄ ┬½ąÜčĆąĄąĘąŠ┬╗ ąĄčēąĄ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ čāčüčéą░čĆąĄą▓čłąĖąĄ ą┐čĆąŠą║ą░čéąĮčŗąĄ ą┐čĆąĄčüčüčŗ čü ąŠčéą║ą░č鹊ą╝ ąĮą░ čģąŠą╗ąŠčüč鹊ą╝ čģąŠą┤čā. ą¤ąĄčĆą▓ąŠą║ą╗ą░čüčüąĮčŗąĄ čĆą░ą▒ąŠčćąĖąĄ, ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆčŗ ŌĆō ąĖ ąĮą░čĆčÅą┤čā čü čŹčéąĖą╝ čāčüčéą░čĆąĄą╗ąŠąĄ ąŠą▒ąŠčĆčāą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ, ą│čĆčÅąĘčī ą▓ čåąĄčģą░čģ ąĖ ą▓ąŠ ą┤ą▓ąŠčĆą░čģ ŌĆō ą▓ąŠčé ą║ą░čĆčéąĖąĮą░ ą│ą╗ą░ą▓ąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą▓ąŠą╣ąĮąŠą╣. ąÆ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą▓ąŠ ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ ą▓ąŠąĘą▓čĆą░čēą░ą╗ąĖ ┬½čü čäčĆąŠąĮčéą░ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝čŗčģ ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąŠą▓ ąĖ ą║ą▓ą░ą╗ąĖčäąĖčåąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ čĆą░ą▒ąŠčćąĖčģ┬╗34. ąÆ ą┤ąĄą║ą░ą▒čĆąĄ 1914 ą│. ą╝ąŠą▒ąĖą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ ą║ą░ąĘąĄąĮąĮčŗąĄ ąĘą░ą▓ąŠą┤čŗ ąĖ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗čŗ ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ąĖ ┬½ą┤ą░ą╗ąĄą║ąŠ ą┐ąŠąĘą░ą┤ąĖ ąŠą▒čŗčćąĮčŗąĄ ąĮąŠčĆą╝čŗ┬╗. ą¦č鹊 ą║ą░čüą░ąĄčéčüčÅ ąĀąŠčüčüąĖąĖ, ą┐ąĖčüą░ą╗ ąśą│ąĮą░čéčīąĄą▓: ┬½ąóą░ą╝ ąĮąĖ ąŠ ą║ą░ą║ąŠą╣ ą╝ąŠą▒ąĖą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĄčēąĄ ąĮąĄ ą┤čāą╝ą░ą╗ąĖ┬╗35.
ąśą│ąĮą░čéčīąĄą▓ čüčćąĖčéą░ą╗, čćč鹊 ąĖąĘ-ąĘą░ čüą╗ą░ą▒ąŠčüčéąĖ čĆčāčüčüą║ąŠą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ ąĮąĄ ą▒ąĄąĘ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čīąĮąŠą╣ ąĘą░ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąŠą▓ą░ąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą╗ąĖčå, ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝čŗ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖ ą┤ą╗čÅ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄ čĆčāčüčüą║ąĖą╝, ą░ ąĘą░ą│čĆą░ąĮąĖčćąĮčŗą╝ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ą╝. ąóą░ą║, ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą▓ąŠą╣ąĮąŠą╣ ąĮą░ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąĄ ┬½ą©ąĮąĄą╣ą┤ąĄčĆ-ąÜčĆąĄąĘąŠ┬╗ čĆą░ąĘą╝ąĄčüčéąĖą╗ąĖ ąĘą░ą║ą░ąĘčŗ ąĮą░ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąŠą┤ąĖąĮąĮą░ą┤čåą░čéąĖą┤čÄą╣ą╝ąŠą▓ąŠą╣ čĆčāčüčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą╝ąŠčĆčéąĖčĆčŗ36. ą¤ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗąĄ ąŠčåąĄąĮą║ąĖ ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓čāčÄčé ąĖ ą▓ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąŠą│čĆą░čäąĖąĖ, čéą░ą║, ąÉ.ąÆ. ą×čłą░čĆąĖąĮ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčé, čćč鹊 ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ č鹥ą╝ą░ ┬½ą┐čĆąŠą┤ą░ąČąĮąŠčüčéąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ čćąĖąĮąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąŠčéą┤ą░čÄčé ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗą╝ ą│čĆčāą┐ą┐ą░ą╝ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░č鹥ą╗ąĄą╣ ą╝ąĖą╗ą╗ąĖąŠąĮąĮčŗąĄ ąĘą░ą║ą░ąĘčŗ ąĘą░ ą▓ąĘčÅčéą║ąĖ, ąĘą░ąĘą▓čāčćą░ą╗ą░ čüąŠ ą▓čüąĄą╣ ąĮą░čüč鹊ą╣čćąĖą▓ąŠčüčéčīčÄ┬╗37.
ąÜąŠčĆčĆčāą┐čåąĖčÅ ą▓ąŠą║čĆčāą│ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĮąĄ čÅą▓ą╗čÅą╗ą░čüčī ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐ąŠčĆąŠą║ąŠą╝ ąĀąŠčüčüąĖąĖ. ąŚą╗ąŠčāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░čģ ąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╝ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ąĖ ą▓ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░čģ. ąóą░ą║, čü ąĮą░čćą░ą╗ąŠą╝ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą▓ąŠ ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ, ą║ą░ą║ ąĖ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ, ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą╗ąĖ čüą╗ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ čü ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠą╝ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓. 11 ąĮąŠčÅą▒čĆčÅ 1914 ą│. čü ą║ąŠą╝ą┐ą░ąĮąĖąĄą╣ ┬½ąŁą╗ąĄą║čéčĆąĖč湥čüą║ąŠąĄ ąŠčüą▓ąĄčēąĄąĮąĖąĄ┬╗, ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤ąĖą╗ čüą║ą░ąĮą┤ą░ą╗čīąĮąŠ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╣ ąøčāąĖ ąøčāčłąĄčĆ, ąĘą░ą║ą╗čÄčćąĖą╗ąĖ čüą┤ąĄą╗ą║čā ┬½ąĮą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ 600 čéčŗčü. 75-ą╝ą╝ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓. ą¤ąĖą║ą░ąĮčéąĮąŠčüčéčī čüąĖčéčāą░čåąĖąĖ čüąŠčüč鹊čÅą╗ą░ ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 čā ą║ąŠą╝ą┐ą░ąĮąĖąĖ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĖ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čüčéą░ąĮą║ą░ ą┤ą╗čÅ ąĖčģ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░. ąØąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ ą┤ą░ą╗ąŠ ąø. ąøčāčłąĄčĆčā čüčüčāą┤čā ą▓ 420 čéčŗčü. čäčĆą░ąĮą║ąŠą▓, ą░ ąĘą░č鹥ą╝ ąĄčēąĄ ą▓ 1 ą╝ą╗ąĮ. 260 čéčŗčü. čäčĆą░ąĮą║ąŠą▓ ą┤ą╗čÅ ąĘą░ą║čāą┐ą║ąĖ ąŠą▒ąŠčĆčāą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ┬╗38.
ą¤ąĄčĆąĄą┤ ąĮą░čćą░ą╗ąŠą╝ ą╝ąĖčĆąŠą▓ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąĀąŠčüčüąĖčÅ ąĘą░ą│ąŠč鹊ą▓ąĖą╗ą░ 7005 čéčŗčü. čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ąĖ ą▓ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝ ąĖąĘčĆą░čüčģąŠą┤ąŠą▓ą░ą╗ą░ ąĖčģ ą▓ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅčģ 1914 ŌĆō ąĮą░čćą░ą╗ą░ 1915 ą│ą│. ąĪą╗ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ čü ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą▓čŗčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ąĮą░ ą┐ąĄčĆą▓čŗą╣ ą┐ą╗ą░ąĮ. ąÆ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, ą┤ą╗čÅ ą▓ąŠčüą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖčÅ čĆą░čüčģąŠą┤ą░ ą▓ č鹥č湥ąĮąĖąĄ 5 ą╝ąĄčüčÅčåąĄą▓ 1914 ą│. ą▒čŗą╗ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąĄą┤ąĄąĮąŠ ą▓čüąĄą│ąŠ 656 čéčŗčü. čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓. ą¤ąŠčŹč鹊ą╝čā ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąŠčéčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖąĘ ąōą░ą╗ąĖčåąĖąĖ ┬½ą│čĆą░ą┤čā čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą│ąĄčĆą╝ą░ąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą▒ą░čĆą░ą▒ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ąŠą│ąĮčÅ ą╝čŗ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠčüčéą░ą▓ąĖčéčī ą▓ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą╝ č鹊ą╗čīą║ąŠ 5ŌĆō10 ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąŠą▓ ąĮą░ ą╗ąĄą│ą║čāčÄ ą┐čāčłą║čā ą▓ ą┤ąĄąĮčī┬╗39. ┬½ąŻ čĆčāčüčüą║ąĖčģ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▒ąĄčĆąĄčćčī ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗. ąöąĮąĄą▓ąĮąŠą╣ čĆą░čüčģąŠą┤ ą▓ 3-ą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ ą▒čŗą╗ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮ ą┤ą╗čÅ ą│ą░čāą▒ąĖčćąĮąŠą╣ ą▒ą░čéą░čĆąĄąĖ ą▓ 10 ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąŠą▓, čé. ąĄ. ą┐ąŠ 1 2/3 ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ą░ ąĮą░ ą│ą░čāą▒ąĖčåčā┬╗40.
ąŁč鹊 čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ąŠčé čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąōąÉąŻ ą┐čĆąĖąĮčÅčéąĖčÅ čćčĆąĄąĘą▓čŗčćą░ą╣ąĮčŗčģ ą╝ąĄčĆ. ąÆ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ ą▓ąĄą║ą░ čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗čÅą╗ąĖ čüąĄą╝čī ą║ą░ąĘąĄąĮąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄčüčÅčéčī čćą░čüčéąĮčŗčģ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąŠą▓: ą×ą╗ąŠąĮąĄčåą║ąĖą╣, ąæą░čĆą░ąĮčćąĖčģąĖąĮčüą║ąĖą╣, ąĪą░čéą║ąĖąĮčüą║ąĖą╣, ąÜčāčłąĮąĄąĮčüą║ąĖą╣, ąÆąĄčĆčģąĮąĄ-ąóčāčĆąĖąĮčüą║ąĖą╣, ą¤ąĄčĆą╝čüą║ąĖą╣, ąŚą╗ą░č鹊čāčüč鹊ą▓čüą║ąĖą╣, ąĪąŠčĆą╝ąŠą▓čüą║ąĖą╣, ąøąĖą╗čī ą┐ąŠą┐-Pay, ąĀą░ą┤ąĘčüą║ąĖą╣, ąĀčāčüčüą║ąŠąĄ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąŠ ą┐ąŠ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓, ą¤ąĄčéčĆąŠą│čĆą░ą┤čüą║ąĖą╣ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖč湥čüą║ąĖą╣, ąæčĆčÅąĮčüą║ąĖą╣, ąøąĄčüčüąĮąĄčĆą░, ąØąĖą║ąŠą╗ą░ąĄą▓čüą║ąĖą╣, ą¤čāčéąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣ ąĖ ą¤ąĄčéčĆąŠą│čĆą░ą┤čüą║ąĖą╣ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖą╣41.
ąÆ čŹčéąĖčģ čéčÅąČąĄą╗čŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ąĘą░ čĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čŗ čüąĮą░čĆčÅą┤ąĮąŠą│ąŠ ą│ąŠą╗ąŠą┤ą░ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▓ąĘčÅą╗čüčÅ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆ ąĪąĄą╝ąĄąĮ ąØąĖą║ąŠą╗ą░ąĄą▓ąĖčć ąÆą░ąĮą║ąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą▒čŗą╗ ąŠą┐čŗčéąĮčŗą╝ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╝ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗ąĄą╝. ąÆ 1894ŌĆō1897 ą│ą│. ąŠąĮ ą▓ąŠąĘą│ą╗ą░ą▓ą╗čÅą╗ ąŠą║čĆčāąČąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ ą▓ ąóą░čłą║ąĄąĮč鹥. ąĪ 1897 ą│. ąĄą│ąŠ čüčāą┤čīą▒ą░ čüą▓čÅąĘą░ąĮą░ čü ąźą░ą▒ą░čĆąŠą▓čüą║ąŠą╝42, ą│ą┤ąĄ ąÆą░ąĮą║ąŠą▓ą░ ąĮą░ąĘąĮą░čćąĖą╗ąĖ ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ąŠą╝ ąźą░ą▒ą░čĆąŠą▓čüą║ąŠą╣ ąŠą║čĆčāąČąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą╝ą░čüč鹥čĆčüą║ąŠą╣43. ąĪ 23 ą╝ą░čĆčéą░ 1909 ą│. ąÆą░ąĮą║ąŠą▓ čÅą▓ą╗čÅą╗čüčÅ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆąŠą╝ ąźą░ą▒ą░čĆąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ ąŠą║čĆčāąČąĮąŠą│ąŠ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░44.
ąÆ ą║ąŠąĮčåąĄ 1913 ą│. ąĪąĄą╝ąĄąĮ ąØąĖą║ąŠą╗ą░ąĄą▓ąĖčć ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ ą▓ ąæčĆčÅąĮčüą║ąĖą╣ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗. ą¤ąŠą┤ ąĄą│ąŠ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠą╝ ąĘą┤ąĄčüčī ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī čéą░ą╗ą░ąĮčéą╗ąĖą▓čŗąĄ ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆčŗ-ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüčéčŗ: ą┐ąŠą╝ąŠčēąĮąĖą║ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆ ąÉ.ąØ. ąøčāą║ą░čłąŠą▓, ąĖ. ą┤. čüčéą░čĆčłąĄą│ąŠ č鹥čģąĮąĖą║ą░ ą│ą▓ą░čĆą┤ąĖąĖ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ ąØ.ąō. ąÆčŗčüąŠčćą░ąĮčüą║ąĖą╣, ąĖ. ą┤ čüčéą░čĆčłąĄą│ąŠ č鹥čģąĮąĖą║ą░ ą│ą▓ą░čĆą┤ąĖąĖ ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮ ąō.ą¤. ąÜčāąĘą╝ąĖąĮ-ąÜą░čĆą░ą▓ą░ąĄą▓, ąĖ. ą┤. čüčéą░čĆčłąĄą│ąŠ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖą║ą░ ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆ-č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ ąÉ.ą¤. ą¦ąĖąČąĄą▓čüą║ąĖą╣45. ąśą╝ąĄąĮąĮąŠ ąĖą╝ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠčüčī čĆąĄčłą░čéčī ą┐ąŠą┤ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠą╝ ąÆą░ąĮą║ąŠą▓ą░ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čā čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖčÅ čĆčāčüčüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ. ą×ą▒ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ ąĮą░čāčćąĮąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ čŹčéąĖčģ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāąĄčé ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ ąÆčŗčüąŠčćą░ąĮčüą║ąŠą│ąŠ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čÅą▓ą╗čÅą╗čüčÅ ą░ą▓č鹊čĆąŠą╝ ą╝ąĮąŠą│ąŠčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čüčéą░č鹥ą╣ ąŠ čüą▓ąŠą╣čüčéą▓ą░čģ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąŠą▓. ąÆčŗčüąŠčćą░ąĮčüą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤ąĖą╗ ąĖčģ ąĮą░ čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąĖą╣ čÅąĘčŗą║ ąĖ ą┐ąĄčćą░čéą░ą╗ ą▓ ą┐ą░čĆąĖąČčüą║ąŠą╝ ąČčāčĆąĮą░ą╗ąĄ ┬½ąĀąĄą▓čÄ ą┤ąĄ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗čāčƹȹĖ┬╗. ąÆ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ąĄą│ąŠ čüčéą░čéčīąĖ ą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą│ąŠčĆą░ąĘą┤ąŠ čĆąĄąČąĄ, č湥ą╝ ą▓ąŠ ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ46. ąÆ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, ą▓ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝ ąČčāčĆąĮą░ą╗ąĄ ą▓ 1914 ą│. ą▓čŗčģąŠą┤ąĖčé ąĄą│ąŠ ąĘą░ą╝ąĄčéą║ą░ ą┐ąŠ ą┐ąŠą▓ąŠą┤čā čüčéą░čéčīąĖ ąö.ąÜ. ą¦ąĄčĆąĮąŠą▓ą░ ąŠ ą▓čŗą│ąŠčĆą░ąĮąĖąĖ ą║ą░ąĮą░ą╗ąŠą▓ ą▓ čüčéą░ą╗čīąĮčŗčģ ąŠčĆčāą┤ąĖčÅčģ47.
ąŚąĮą░ą╝ąĄąĮąĖčéčŗą╣ čāč湥ąĮčŗą╣ ą¦ąĄčĆąĮąŠą▓ ą┐ąĖčüą░ą╗, čćč鹊 ┬½ą▓ čĆčāčüčüą║ąŠą╣ ą╗ąĖč鹥čĆą░čéčāčĆąĄ čŹč鹊čé ą▓ąŠą┐čĆąŠčü ąĮąĄ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮ┬╗48. ąÆ 1898 ą│. ą▓ ąÉąĮą│ą╗ąĖąĖ ąĀąŠą▒ąĄčĆč鹊ą╝-ą×čüč鹥ąĮąŠą╝ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ą░čéčŗą▓ą░ą╗ą░čüčī čŹčéą░ č鹥ą╝ą░, ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤ ą▒čŗą╗ čüą┤ąĄą╗ą░ąĮ ą▓ ąĪč鹊ą║ą│ąŠą╗čīą╝ąĄ ąĮą░ ą╝ąĖčéąĖąĮą│ąĄ ąĖąĮčüčéąĖčéčāčéą░ ąČąĄą╗ąĄąĘą░ ąĖ čüčéą░ą╗ąĖ. ąÆ ąĮąĄą╝ čüąŠčüčĆąĄą┤ąŠč鹊čćąĖą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĄ ąĮą░ č鹥čĆą╝ąŠčģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ, č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ, ą╝ąĄčģą░ąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĖ čüčéčĆčāą║čéčāčĆąĮčŗčģ čÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅčģ, ąĖ ą▓ąŠą▓čüąĄ ąĮąĄ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī čäąĖąĘąĖą║ąŠ-ą│ąĄąŠą╝ąĄčéčĆąĖč湥čüą║ąĖąĄ čÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ, ąĖą│čĆą░čÄčēąĖąĄ ą│ą╗ą░ą▓ąĮąĄą╣čłčāčÄ čĆąŠą╗čī ą▓ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╝ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüąĄ49. ąĪą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ, ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆ-č鹥čģąĮąĖą║ ąæčĆčÅąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░ ąÆčŗčüąŠčćą░ąĮčüą║ąĖą╣ ą▒čŗą╗ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą┐čĆąŠčģąŠą┤čåąĄą╝.
┬½ąÆ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ čÅąĮą▓ą░čĆčÅ 1915 ą│ąŠą┤ą░ ąÆąĄą╗ąĖą║ąĖą╣ ą║ąĮčÅąĘčī ąĪąĄčĆą│ąĄą╣ ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓ąĖčć, ą┐čĆąĄą┤čüąĄą┤ą░č鹥ą╗čī ą×čüąŠą▒ąŠą╣ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ ą║ąŠą╝ąĖčüčüąĖąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, čüčĆąŠčćąĮąŠ ą▓čŗąĘą▓ą░ą╗ ąĪ. ąÆą░ąĮą║ąŠą▓ą░ ą▓ ą¤ąĄčéčĆąŠą│čĆą░ą┤ ąĖąĘ ąæčĆčÅąĮčüą║ą░, ą│ą┤ąĄ ąŠąĮ čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗. ąÆąĄą╗ąĖą║ąĖą╣ ą║ąĮčÅąĘčī ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą╗ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čü čéčĆąĄčģą┤čÄą╣ą╝ąŠą▓čŗą╝ąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ čāą│čĆąŠąČą░čÄčēąĖą╝ ąĖ ą┐ąŠčĆčāčćąĖą╗ ąÆą░ąĮą║ąŠą▓čā ąĮąĄą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ ą┐čĆąŠą▓ąĄčüčéąĖ čĆąĄą▓ąĖąĘąĖčÄ ą¤čāčéąĖą╗ąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ (ąŠą║ąŠą╗ąŠ 15 čéčŗčüčÅčć čĆą░ą▒ąŠčćąĖčģ), čćč鹊ą▒čŗ ą▓čŗčÅą▓ąĖčéčī ą┐čĆąĖčćąĖąĮčŗ ą┐ą░ą┤ąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĖ ą▓čŗčĆą░ą▒ąŠčéą░čéčī ą╝ąĄčĆčŗ ąĄą│ąŠ čĆąĄčłąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠą┤čŖąĄą╝ą░┬╗50. ąöą╗čÅ ą╗ąĖą║ą▓ąĖą┤ą░čåąĖąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ąĮąŠą│ąŠ ą│ąŠą╗ąŠą┤ą░ ą▒čŗą╗ąŠ čĆąĄčłąĄąĮąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ąŠą┐čŗčé ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ.
ąÆ ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖčćąĮąŠą╝ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĖ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓, ą║ą░ą║ ąĀąŠčüčüąĖčÅ, ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ą░čüčī ąŠčüąĄąĮčīčÄ 1914 ą│. ąĖ ążčĆą░ąĮčåąĖčÅ. ┬½ąØąŠ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą▒ąŠąĄą▓ ąĮą░ ą£ą░čĆąĮąĄ čäčĆą░ąĮčåčāąĘčŗ ą▒čŗčüčéčĆąŠ ąŠčåąĄąĮąĖą╗ąĖ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąĖ ą┐čĆąĖąĮčÅą╗ąĖ ą▒ąĄąĘ ą▓čüčÅą║ąŠą│ąŠ ąĘą░ą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĖčÅ čĆąĄčłąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ą╝ąĄčĆčŗ ą║ ą┐čĆąĄą┤ąŠčéą▓čĆą░čēąĄąĮąĖčÄ čüąĮą░čĆčÅą┤ąĮąŠą│ąŠ ą║čĆąĖąĘąĖčüą░, ąĖ čāąČąĄ ą║ ą║ąŠąĮčåčā 1914 ą│. ą▓čüčÅ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ą░čÅ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ ą▒čŗą╗ą░ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮą░ ąĮą░ ąĮąŠą│ąĖ. ąæčŗčüčéčĆąŠ ą▒čŗą╗ą░ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮą░ ąĖ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮą░ ą▓ ąČąĖąĘąĮčī ąŠčĆąĖą│ąĖąĮą░ą╗čīąĮą░čÅ čüąĖčüč鹥ą╝ą░ ŌĆ£ąóąĄčģąĮąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą╝ąŠą▒ąĖą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖŌĆØ┬╗51. ąÜ čüąŠąČą░ą╗ąĄąĮąĖčÄ, ąŠą┐čŗčé ąĘą░čĆčāą▒ąĄąČąĮčŗčģ čüčéčĆą░ąĮ ąĮąĄ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą╝ąŠą│ ą▒čŗčéčī ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĄąĮ ąĀąŠčüčüąĖąĖ52.
ąÆ 1915 ą│. ą▓ ą¤ąĄčéčĆąŠą│čĆą░ą┤ ą┐ąŠą┤ ąĮą░čćą░ą╗čīčüčéą▓ąŠą╝ ą╝ą░ą╣ąŠčĆą░ ą¤ąĖąŠ ą┐čĆąĖąĄąĘąČą░čÄčé čäčĆą░ąĮčåčāąĘčŗ ą┤ą╗čÅ ąŠą║ą░ąĘą░ąĮąĖčÅ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą╝ąŠčēąĖ ą┐ąŠ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ čåąĄą╗čīąĮąŠą║ąŠčĆą┐čāčüąĮčŗčģ ą│čĆą░ąĮą░čé53. ążčĆą░ąĮčåčāąĘąŠą▓ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░ą╗ąĖ ąÆą░ąĮą║ąŠą▓čā, ą┐ąŠą┤ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠą╝ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖ ąōąÉąŻ ą▒čŗą╗ą░ čüąŠąĘą┤ą░ąĮą░ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮą░čÅ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖčÅ ą┐ąŠ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓. ą¤ąĄčĆą▓čŗą╣ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĮą░ą┤ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ čĆąĄčłąĖčéčī ŌĆō čŹč鹊 ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖčéčī ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąĖčģ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąŠą▓ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą▓ čĆčāčüčüą║ąŠą╣ čćą░čüčéąĮąŠą╣ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, čé. ą║. čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ą░čÅ ą│čĆą░ąĮą░čéą░ čüčāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ąŠčéą╗ąĖčćą░ą╗ą░čüčī ąŠčé ąĮą░čłąĄą╣. ą×ą┐čŗčéčŗ ą┐čĆąŠą▓ąĄą╗ąĖ ┬½ą▓ ąæčĆčÅąĮčüą║ąŠą╝ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ąĄ ąĖ ąĮą░ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ ą╝ąŠčüą║ąŠą▓čüą║ąĖčģ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░čģ┬╗54.
ąØą░ ą┐ąĄčĆą▓ąŠąĮą░čćą░ą╗čīąĮąŠą╝ čŹčéą░ą┐ąĄ ą┐ąŠą┐čŗčéą║ąĖ ąĮą░ą╗ą░ą┤ąĖčéčī ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą┐ąŠ ┬½čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╝čā ąŠą▒čĆą░ąĘčā┬╗ č鹥čĆą┐čÅčé ąĮąĄčāą┤ą░čćčā. ąÆą░ąĮą║ąŠą▓ą░ čŹč鹊 ąĮąĄ ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ąŠ, ąŠąĮ ą┐ąŠčĆčāčćą░ąĄčé ąÆčŗčüąŠčćą░ąĮčüą║ąŠą╝čā ┬½čŹą║čüą┐ąĄčĆąĖą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗą╣ ą▓čŗą┐čāčüą║ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą▓ ąæčĆčÅąĮčüą║ąŠą╝ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ąĄ┬╗55. ąÆ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ą▓ąĮąĄą┤čĆąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĮąŠą╣ ┬½čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╣ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ┬╗ čāčüą┐ąĄčģ ą▒čŗą╗ ą┤ąŠčüčéąĖą│ąĮčāčé. ąÆčŗčüąŠčćą░ąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąĮą░ąĘąĮą░čćąĖą╗ąĖ ąĘą░ą╝ąĄčüčéąĖč鹥ą╗ąĄą╝ ą┐ąŠ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą╣ čćą░čüčéąĖ čāą┐ąŠą╗ąĮąŠą╝ąŠč湥ąĮąĮąŠą│ąŠ ąōąÉąŻ ą┐ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓čā čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą┐ąŠ čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╝čā ąŠą▒čĆą░ąĘčā. ąśčüą┐čŗčéą░ąĮąĖąĄ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓ ą│čĆą░ąĮą░čé čüčéčĆąĄą╗čīą▒ąŠą╣ ą▒čŗą╗ąŠ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéąĖą▓ąĮąŠ. ą¤ąŠčüą╗ąĄ čŹč鹊ą│ąŠ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čé ąōąÉąŻ ą┤ą░ą╗ ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮčŗąĄ č湥čĆč鹥ąČąĖ ąĖ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅ ąĮą░ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą▓čüąĄčģ čćą░čüč鹥ą╣ ą│čĆą░ąĮą░čéčŗ56. ą×čĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖčÅ ąÆą░ąĮą║ąŠą▓ą░ ą▒čŗą╗ą░ ┬½ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ą┐ąŠ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéą░ą╝ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ŌĆ£čüą┐čāčéąĮąĖą║ąŠą▓čŗą╝ŌĆØ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ą×čüąŠą▒ąŠą│ąŠ čüąŠą▓ąĄčēą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮąĄ┬╗57. ąÆ ą£ąŠčüą║ą▓ąĄ ąĖ ą¤ąŠą┤ą╝ąŠčüą║ąŠą▓čīąĄ ąĮą░ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖčÄ čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ąŠ ąŠą║ąŠą╗ąŠ 100 ąĘą░ą▓ąŠą┤ąŠą▓ ąĖ ą╝ą░čüč鹥čĆčüą║ąĖčģ. ąŚą┤ąĄčüčī ą▓ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĖąĘą│ąŠčéą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąŠčé 32 ą┤ąŠ 42 % čéčĆąĄčģą┤čÄą╣ą╝ąŠą▓čŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓, ąŠčé 19 ą┤ąŠ 32 % ąĘą░ą┐ą░ą╗čīąĮčŗčģ čüčéą░ą║ą░ąĮąŠą▓ ąĖ ąŠčé 30 ą┤ąŠ 55 % ą┤ąĄč鹊ąĮą░č鹊čĆąĮčŗčģ čéčĆčāą▒ąŠą║58.
ąÜ ą║ąŠąĮčåčā 1916 ą│. ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖčÅ ąŠą▒čŖąĄą┤ąĖąĮąĖą╗ą░ 300 ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖčÅčéąĖą╣59. ąŚą░ą▓ąŠą┤čŗ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖ 7 čĆą░ą╣ąŠąĮąŠą▓: ą£ąŠčüą║ąŠą▓čüą║ąĖą╣, ą×ą┤ąĄčüčüą║ąĖą╣, ąÜąĖąĄą▓čüą║ąĖą╣, ą«ąČąĮčŗą╣, ąóą░ą╝ą▒ąŠą▓čüą║ąĖą╣, ą¤ąĄčéčĆąŠą│čĆą░ą┤čüą║ąĖą╣ ąĖ ą»čĆąŠčüą╗ą░ą▓čüą║ąĖą╣. ąŚą░ą▓ąŠą┤čŗ ą┤ąĄą╗ąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą│čĆčāą┐ą┐čŗ: 1-čÅ ąĖ 2-čÅ ą│čĆčāą┐ą┐čŗ ąĖąĘą│ąŠčéą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖ čüčéą░ą║ą░ąĮčŗ ą┤ą╗čÅ ą│čĆą░ąĮą░čé 76-ą╝ą╝ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣, 3-čÅ ŌĆō ą▓ąĘčĆčŗą▓ą░č鹥ą╗ąĖ, 4-čÅ ŌĆō ą┤ąĄč鹊ąĮą░č鹊čĆąĮčŗąĄ čéčĆčāą▒ą║ąĖ, 5-čÅ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖą╗ą░ čüąĮą░čĆčÅąČąĄąĮąĖąĄ čüčéą░ą║ą░ąĮąŠą▓60.
ą×čĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖąŠąĮąĮą░čÅ ą░čĆčģąĖč鹥ą║čéčāčĆą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĄčé 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéčŗ ┬½č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą╝ąŠą▒ąĖą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ┬╗ ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ. ąĪčāčēąĮąŠčüčéčī čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╣ ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĖ ą║ą░ą║ čĆą░ąĘ ąĖ ┬½čüąŠčüč鹊čÅą╗ą░ ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 ą▓čüčÅ ą╝ąĄą╗ą║ą░čÅ ąĖ čüčĆąĄą┤ąĮčÅčÅ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ą▒čŗą╗ą░ čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮą░ ąĮą░ ąŠą║čĆčāą│ą░ ąĖ čĆą░ąĘą│čĆčāą┐ą┐ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮą░ ąŠą║ąŠą╗ąŠ ą║čĆčāą┐ąĮčŗčģ ąĖ ą╝ąŠčēąĮčŗčģ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąŠą▓, ąĮą░ ą║ąŠąĖ ą▓ąŠąĘą╗ąŠąČąĄąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠąĄ ąĖ čģąŠąĘčÅą╣čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ą│čĆčāą┐ą┐ą░ą╝ąĖ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąŠą▓┬╗61. ąÆ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▓ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖąŠąĮąĮąŠąĄ ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąŠ čüąĖčüč鹥ą╝čā ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąŠą▓ ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖą╗ ąÆą░ąĮą║ąŠą▓. ąÆ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ą┐ąŠčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą▓ ą░čĆą╝ąĖčÄ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ čĆčāčüčüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą▓ 1915 ą│. ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü 1914 ą│. čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą╗ąŠčüčī ą▓ 6 čĆą░ąĘ, ą▓ 1916 ą│. ŌĆō ą▓ 12 čĆą░ąĘ. ąÆ čåąĄą╗ąŠą╝, ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖąĄ ąĘą░ą▓ąŠą┤čŗ čüą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą┐ąŠą║čĆčŗčéčī ą┐ąŠč鹥čĆąĖ ą▓ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĖ ą┤ą░ą╗ąĖ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī čāą┤ą▓ąŠąĖčéčī ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┐ą░čĆą║ ą░čĆą╝ąĖąĖ62.
ąæą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ąÆą░ąĮą║ąŠą▓ą░ ┬½čü čüąĄąĮčéčÅą▒čĆčÅ 1915 ą│. ą┐ąŠ ąĮąŠčÅą▒čĆčī 1917 ą│. ą▓čŗą┐čāčēąĄąĮąŠ 12 000 000 ą║ąŠčĆą┐čāčüąŠą▓ 3-ą┤ą╝ ą│čĆą░ąĮą░čé. ąĪ č乥ą▓čĆą░ą╗čÅ 1917 ą│. ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčé ą┐ą░ą┤ą░čéčī ąĖ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖčé ą║ ąĮčāą╗čÄ ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ 1917 ą│.┬╗63
ą¤ąŠčüą╗ąĄ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÅ I ą£ąĖčĆąŠą▓ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąÆą░ąĮą║ąŠą▓ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖą╗ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéčī ą┐ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą┐ąŠ čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╝čā ąŠą▒čĆą░ąĘčåčā ąĮą░ čĆčāčüčüą║ąĖčģ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░čģ. ąÆą░ąĮą║ąŠą▓ ą┐ąĖčüą░ą╗: ┬½ąØą░čłąĖ čüąŠčĹʹĮąĖą║ąĖ ŌĆō ą░ąĮą│ą╗ąĖčćą░ąĮąĄ ąĖ čäčĆą░ąĮčåčāąĘčŗ ŌĆō čüą░ą╝ąĖ ąĖčüą┐čŗčéčŗą▓ą░ą╗ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░č鹊ą║ ą▓ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╝ čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖąĖ, čé. ą║. ąĖčģ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ąĮąĄ čāčüą┐ąĄą▓ą░ą╗ą░ čāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆąĖčéčī ąĮčāąČą┤čŗ ąĖčģ ą┤ąĄą╣čüčéą▓čāčÄčēąĄą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ, č鹊 čÅčüąĮąŠ, čćč鹊 ąŠąĮąĖ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą┐ąŠą╝ąŠčćčī ą▒ąŠąĄą▓čŗą╝ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╝ čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ą╝┬╗64.
ąÆ čüą▓ąŠąĄą╣ čĆą░ą▒ąŠč鹥 ąÆą░ąĮą║ąŠą▓ ąŠą┐ąĖčĆą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ą┐ąŠą╝ąŠčēčī čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüč鹊ą▓, ąĮą░čģąŠą┤čÅčēąĖčģčüčÅ ą┐ąŠą┤ ąĄą│ąŠ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą▓ ąæčĆčÅąĮčüą║ąŠą╝ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ąĄ. ąŁč鹊čé čäą░ą║čé ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčƹȹ┤ą░ąĄčé čüąĄčĆčīąĄąĘąĮčāčÄ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║čāčÄ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║čā čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüč鹊ą▓ ą║ą░ąĘąĄąĮąĮčŗčģ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ąŠą▓ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓ą░ ąĀąŠčüčüąĖąĖ. ąÆą┐ą╗ąŠčéčī ą┤ąŠ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮčŗ 1917 ą│. ąÆą░ąĮą║ąŠą▓ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąĖčüčŗą▓ą░ą╗ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéą░ą╝ ą┤ą╗čÅ ąĮąĄčüąĄąĮąĖčÅ čüą╗čāąČą▒čŗ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą░čéčī ą▓ čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ čāą┐ąŠą╗ąĮąŠą╝ąŠč湥ąĮąĮąŠą│ąŠ ąōąÉąŻ ą┐ąŠ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą│ąŠ ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░65.
ą¤ąŠą╝ąĖą╝ąŠ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüč鹊ą▓ ąĖąĘ ąæčĆčÅąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░ ąÆą░ąĮą║ąŠą▓ ą┐čĆąĖą▓ą╗ąĄą║ą░ą╗ ą║ čĆą░ą▒ąŠč鹥 ą░ą┤ą╝ąĖąĮąĖčüčéčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ čüą╗čāąČą░čēąĖčģ. ąóą░ą║, ą┐čĆąĖą║ą░ąĘąŠą╝ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ą░-ą╝ą░ą╣ąŠčĆą░ ąÆą░ąĮą║ąŠą▓ą░ ą┐ąŠ ąæčĆčÅąĮčüą║ąŠą╝čā ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗čā Ōä¢ 84 ąŠčé 23 ą╝ą░čĆčéą░ 1917 ą│. čüą╝ąŠčéčĆąĖč鹥ą╗čÅ ąĘą┤ą░ąĮąĖą╣ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░, čéąĖčéčāą╗čÅčĆąĮąŠą│ąŠ čüąŠą▓ąĄčéąĮąĖą║ą░ ą©ąĄą▓č湥ąĮą║ąŠ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓čā, ą▓ čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ čāą┐ąŠą╗ąĮąŠą╝ąŠč湥ąĮąĮąŠą│ąŠ ąōąÉąŻ ą┐ąŠ ąĘą░ą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą│ąŠ ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░66. ą¤čĆąĖą║ą░ąĘąŠą╝ ą┐ąŠ ąæčĆčÅąĮčüą║ąŠą╝čā ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗čā Ōä¢ 116 ąŠčé 21 ą░ą┐čĆąĄą╗čÅ 1917 ą│. ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓čā ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą┤ąĄą╗ąŠą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čÅ čüčéčĆąŠąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąŠčéą┤ąĄą╗ą░ ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║ą░ ą¤ąŠą┐ąŠą▓ą░67.
ąÆą░ąČąĮąŠčüčéčī čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ąÆą░ąĮą║ąŠą▓ą░ ą┐ąŠą┤č湥čĆą║ąĖą▓ą░ąĄčé ąĖ č鹊čé čäą░ą║čé, čćč鹊 čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ ąĖąĘ ą»ą┐ąŠąĮąĖąĖ, ąĪąŠąĄą┤ąĖąĮąĄąĮąĮčŗčģ ą©čéą░č鹊ą▓, ąÉąĮą│ą╗ąĖąĖ ąĖ ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ, ┬½ŌĆ”čćč鹊ą▒čŗ ą┤ąŠčüčéąĖčćčī čĆčāčüčüą║ąŠą╣ ą┐čāčłą║ąĖ, ŌĆ” ą▓ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą╝ ą┐čĆąŠą┤ąĄą╗čŗą▓ą░ą╗ąĖ ą┐čāčéčī ą▓ čłąĄčüčéčī čü ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮąŠą╣ čéčŗčüčÅčć ą║ąĖą╗ąŠą╝ąĄčéčĆąŠą▓┬╗68.
ąÆ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ&č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠąĄ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖč湥čüčéą▓ąŠ ąĀąŠčüčüąĖąĖ čü ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ą╝ąĖ čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĖ ą┐ąŠ čĆčÅą┤čā ąĖąĮčŗčģ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖą╣. ąóą░ą║, ą║ čĆą░ą▒ąŠč鹥 ą▓ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą┐čĆąĖą▓ą╗ąĄą║ą░ą╗ąĖ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüč鹊ą▓ ąĖąĘ-ąĘą░ čĆčāą▒ąĄąČą░. ąóąĄčüąĮčŗąĄ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą║ąŠąĮčéą░ą║čéčŗ ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ XIX ŌĆō ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓ą▓. ą▒čŗą╗ąĖ čā ąĀąŠčüčüąĖąĖ čü ąæąĄą╗čīą│ąĖąĄą╣. ąÆ 1880ŌĆō1900 ą│ą│. ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąŠ 147 ą▒ąĄą╗čīą│ąĖą╣čüą║ąĖčģ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖčÅčéąĖą╣, ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ ąĖ ąŠčĆčāąČąĄą╣ąĮčŗčģ. ąŚąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čüčéą░čéčīąĄą╣ ą▒ąĄą╗čīą│ąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ 菹║čüą┐ąŠčĆčéą░ ą▒čŗą╗ąŠ ąŠčĆčāąČąĖąĄ69.
ąÆ 1915 ą│. čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą▒ąĄą╗čīą│ąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ą┐ąŠčüčéčāą┐ąĖą╗ąŠ ┬½ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąŠ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖčÄ ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąŠą▓ ąĖ čĆą░ą▒ąŠčćąĖčģ čü ąŠčĆčāąČąĄą╣ąĮčŗčģ ąĖ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣ąĮčŗčģ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąŠą▓ ąæąĄą╗čīą│ąĖąĖ ą┤ą╗čÅ čüąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ ą┐ąŠ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ ą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓┬╗70.
ą×čüąŠą▒ąŠąĄ čüąŠą▓ąĄčēą░ąĮąĖąĄ ą┐ąŠčüčćąĖčéą░ą╗ąŠ, čćč鹊 ą▒ąĄą╗čīą│ąĖą╣čüą║ąĖąĄ č鹥čģąĮąĖą║ąĖ, ąŠą┐čŗčéąĮčŗąĄ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗ąĖ ą┐ąŠą╝ąŠą│čāčé ąŠčéą║čĆčŗčéčī ąĮąŠą▓čŗąĄ ą┐čāčéąĖ ą▓ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĖ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░, ąĖ ą┐čĆąĖąĮčÅą╗ąŠ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą▒ąĄą╗čīą│ąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░71.
ą¤ąĄčĆąĄą┐čĆą░ą▓ą║ąŠą╣ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖčÄ ą▒ąĄą╗čīą│ąĖą╣čåąĄą▓ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░ą╗čüčÅ ąśą│ąĮą░čéčīąĄą▓. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝, ą┐ąŠ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅą╝ ąōąÉąŻ, ąŠ čĆą░ą▒ąŠč鹊čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéąĖ ą▒ąĄą╗čīą│ąĖą╣čüą║ąĖčģ čĆą░ą▒ąŠčćąĖčģ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ąĮąĄą▓čŗą│ąŠą┤ąĮąŠąĄ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ. ąóą░ą║, ┬½čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĮą░ ą╝ą░ą╗čāčÄ ąĖčģ ą┐čĆąĖčüą┐ąŠčüąŠą▒ą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ą║ ąĮą░čłąĖą╝ čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╝, ą║čĆą░ą╣ąĮąĄ čüą╗ą░ą▒čāčÄ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║čāčÄ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║čā, ą▒čŗą╗ąĖ ą┤ą░ąČąĄ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮčŗąĄ čüą╗čāčćą░ąĖ, čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčēąĖąĄ ąĮą░ ą┐ą╗ąŠčģčāčÄ ąĮčĆą░ą▓čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą▒ąĄą╗čīą│ąĖą╣čåąĄą▓┬╗72. ąØąŠ ąōąÉąŻ ąĮą░ą┤ąĄčÅą╗ąŠčüčī, čćč鹊 čüąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ ąŠą▒ čŹčéąĖčģ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéą░čģ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĖčéčüčÅ, čé. ą║. ąŠąĮąĖ ą┐čĆąĖčüą┐ąŠčüąŠą▒čÅčéčüčÅ ą║ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅą╝ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĮą░ ąĮą░čłąĖčģ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░čģ. ąæąĄą╗čīą│ąĖą╣čåąĄą▓ ą┤ą╗čÅ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčéčī, ąĮąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ čüą╗ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ ąĖ čĆą░čüčģąŠą┤čŗ. ąÜą░ą║ čüąŠąŠą▒čēą░ą╗ ą▓ ą┤ąŠąĮąĄčüąĄąĮąĖąĖ 15 čÅąĮą▓ą░čĆčÅ 1916 ą│. ąśą│ąĮą░čéčīąĄą▓, ┬½ą▓čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĄ ą┐čĆąĄą║čĆą░čēąĄąĮąĖčÅ čüąŠąŠą▒čēąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ ąÉčĆčģą░ąĮą│ąĄą╗čīčüą║ ąĖ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéąĖ ąŠčéą┐čĆą░ą▓ąĖčéčī ą▒ąĄą╗čīą│ąĖą╣čüą║ąĖčģ čĆą░ą▒ąŠčćąĖčģ ąŠą┤ąĖąĮąŠčćąĮčŗą╝ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ąŠą╝ č湥čĆąĄąĘ ą©ą▓ąĄčåąĖčÄ┬╗, čĆą░čüčģąŠą┤čŗ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ą╗ąĖ, ąĖ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ┬½ą║čĆąĄą┤ąĖčé ąŠą║ąŠą╗ąŠ 200 000 čäčĆą░ąĮą║ąŠą▓┬╗73.
ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ą▓ąŠąĄąĮąĮą░čÅ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąŠčüčéčĆąŠ ąĮčāąČą┤ą░ą╗ą░čüčī ą▓ ą║ą▓ą░ą╗ąĖčäąĖčåąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ čĆą░ą▒ąŠčéąĮąĖą║ą░čģ. ąÆ čüą▓čÅąĘąĖ čü čŹčéąĖą╝ ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü ąŠą▒ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ┬½ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą┤ą╗čÅ ąĮčāąČą┤ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖčÅčéąĖą╣, ąŠą▒čüą╗čāąČąĖą▓ą░čÄčēąĖčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠąĄ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓ąŠ┬╗. ąÆ 1916 ą│. čłčéą░ą▒ ą£ąŠčüą║ąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąŠą║čĆčāą│ą░ čü čüąŠą│ą╗ą░čüąĖčÅ ąōą╗ą░ą▓ąĮąŠą│ąŠ čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąōąĄąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čłčéą░ą▒ą░ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąŠą▓ą░ą╗ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą░ą▓čüčéčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ ą┤ą╗čÅ ąĮčāąČą┤ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ. ąÆčĆąĄą╝čÅ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠ, čćč鹊 čŹč鹊 ąĮąĄ čüą░ą╝čŗą╣ ą╗čāčćčłąĖą╣ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčé. ąóą░ą║, ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ ąæčĆčÅąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░ 15 ąĖčÄą╗čÅ 1916 ą│. ą▓ čĆą░ą┐ąŠčĆč鹥 Ōä¢ 58 ą▓ ąōąÉąŻ čüąŠąŠą▒čēą░ąĄčé: ┬½ąÆąŠąĄąĮąĮąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ čüčéčĆąŠąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ čģąŠąĘčÅą╣čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ čĆą░ą▒ąŠčé ą▓ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ąĄ ąĮąĄ čéčĆąĄą▒čāąĄčéčüčÅ. ą¦č鹊 ąČąĄ ą║ą░čüą░ąĄčéčüčÅ ą┤ą╗čÅ čĆą░ą▒ąŠčé ą┐ąŠ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą╣ čćą░čüčéąĖ, č鹊 ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ čģąŠčĆąŠčłąĖčģ ą╝ą░čüč鹥čĆąŠą▓ ą▒čŗą╗ąŠ ą▒čŗ ąČąĄą╗ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ┬╗, ąĮąŠ čü čŹč鹊ą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĮąĄąŠą┐čĆą░ą▓ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝. ┬½ąÆą▓ąĖą┤čā čüąĄą│ąŠ, čÅ ą┐čĆąŠčłčā, ą▓ą╝ąĄčüč鹊 ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ąĮą░ąĘąĮą░čćąĖčéčī ą▓ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ ą╝ą░čüč鹥čĆąŠą▓čŗčģ ąĖąĘ čćąĖčüą╗ą░ ąĮąĖąČąĮąĖčģ čćąĖąĮąŠą▓ ... čģąŠčéčÅ ą▒čŗ ąĖąĘ čĆą░čéąĮąĖą║ąŠą▓ ąŠą┐ąŠą╗č湥ąĮąĖčÅ čüčéą░čĆčłąĖčģ čüčĆąŠą║ąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą┤ą╗čÅ čüčéčĆąŠčÅ ą╝ą░ą╗ąŠ ą┐čĆąĖą│ąŠą┤ąĮčŗ┬╗74.
ą×ą┐čĆą░ą▓ą┤ą░ą╗ąĖčüčī ąĖ čģčāą┤čłąĖąĄ ąŠą┐ą░čüąĄąĮąĖčÅ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüč鹥ą╣ čĆą░ą▒ąŠčéąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖąĘ ąæąĄą╗čīą│ąĖąĖ. ąÜ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆčā, ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ ą▒ąĄą╗čīą│ąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ąŠčéčĆčÅą┤ą░ ą▓ ąæčĆčÅąĮčüą║ąĄ ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮ ąØą░ą╗ąĖąĮ čĆąĄčłąĖą╗: čĆą░ą▒ąŠčćąĖčģ-čüąŠąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąĖą║ąŠą▓, ┬½čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ąĮąĄ čāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆčÅčÄčēąĖčģ čüą▓ąŠąĄą╝čā ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÄ┬╗ ą┐ąŠ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéą░ą╝ čéčĆčāą┤ą░, ąŠčéą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčéčī ąĮą░ čĆąŠą┤ąĖąĮčā, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ┬½ą┐ąŠąĮąĖąČą░čéčī ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĮąŠąĄ ą┐ąŠ ą║ąŠąĮčéčĆą░ą║čéčā ąĖ ą║ąŠąĮą▓ąĄąĮčåąĖąĖ ąČą░ą╗ąŠą▓ą░ąĮčīąĄ č鹥ą╝ ąĖąĘ ąĮąĖčģ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĮąĄ ą▓ą┐ąŠą╗ąĮąĄ čāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆąĖč鹥ą╗čīąĮčŗ┬╗75.
ą¤čĆąĖčüčāčéčüčéą▓ąĖąĄ ą▒ąĄą╗čīą│ąĖą╣čåąĄą▓ ą┐ąŠą┤čćą░čü ąŠą▒ąŠčüčéčĆčÅą╗ąŠ čüąŠčåąĖą░ą╗čīąĮąŠąĄ ąĮą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĖąĄ. ąóą░ą║, čĆą░ą▒ąŠčéą░ą▓čłąĖą╝ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╝ąĖ čĆą░ą▒ąŠčćąĖą╝ąĖ ą▒ąĄą╗čīą│ąĖą╣čåą░ą╝, ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮčÅą▓čłąĖą╝ ąŠą┤ąĮčā ąĖ čéčā ąČąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčā, ┬½čüą╝ąĄąĮčÅčÅ ąĖąĮąŠą│ą┤ą░ ąĮą░ čüčéą░ąĮą║ąĄ čĆą░ą▒ąŠč湥ą│ąŠ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░┬╗, ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ą╗ą░čéąĖčéčī ąĘą░ čéčĆčāą┤ ąĮąĄčüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĮąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ, č湥ą╝ ą╝ą░čüč鹥čĆąŠą▓čŗą╝ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░, čćč鹊 ą┤ą╗čÅ ą╝ąĮąŠą│ąĖčģ ąĘą┤ąĄčüčī ┬½čÅą▓ą╗čÅą╗ąŠčüčī ąĮąĄą┐ąŠąĮčÅčéąĮčŗą╝┬╗76. ąÆ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą▓ čüąĖą╗čā č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 ąĖčģ ą║ą▓ą░ą╗ąĖčäąĖą║ą░čåąĖčÅ ą▒čŗą╗ą░ ąĮąĄą▓čŗčüąŠą║ąŠą│ąŠ čāčĆąŠą▓ąĮčÅ. ąÆą╝ąĄčüč鹊 40 ŌĆō 100 čĆčāą▒. ą▓ ą╝ąĄčüčÅčå ą▒ąĄą╗čīą│ąĖą╣čåčŗ ą┐ąŠą╗čāčćą░ą╗ąĖ 250 čĆčāą▒. ąöą╗čÅ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÅ: ┬½ą╝ąĄčüčÅčćąĮčŗą╣ ąĘą░čĆą░ą▒ąŠč鹊ą║ ą┐čĆąĖ 9-čćą░čüąŠą▓ąŠą╝ čéčĆčāą┤ąĄ ąĘą░ 24 čĆą░ą▒ąŠčćąĖčģ ą┤ąĮčÅ┬╗ čā čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ čĆą░ą▒ąŠčćąĖčģ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗: čā ┬½ą╝ą░čüč鹥čĆą░ ŌĆō 158 čĆčāą▒ą╗ąĄą╣, ą┐ąŠą┤ą╝ą░čüč鹥čĆčīčÅ ŌĆō 88 čĆčāą▒ą╗ąĄą╣, ą▒čĆą░ą║ąŠą▓čēąĖą║ą░ ŌĆō 78 čĆčāą▒ą╗ąĄą╣, ą║ąŠąĮč鹊čĆčēąĖą║ą░ ŌĆō 79 čĆčāą▒ą╗ąĄą╣┬╗ ąĖ čé. ą┤.
3 ąĖčÄą╗čÅ 1916 ą│. ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ ąæčĆčÅąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░ ą▓ čĆą░ą┐ąŠčĆč鹥 Ōä¢ 63 ą▓ ąōąÉąŻ ┬½ą┐čĆąŠčüąĖčé ąĮąĄ ąŠčéą║ą░ąĘą░čéčī čüąŠąŠą▒čēąĖčéčī, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▒čāą┤čāčé ąŠčéą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮčŗ ą▒ąĄą╗čīą│ąĖą╣čåčŗ 菹╗ąĄą║čéčĆąŠč鹥čģąĮąĖą║ąĖ, ą▓ čćąĖčüą╗ąĄ 5-čéąĖ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĄąĄ ą┐čĆąĄą▒čŗą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĖčģ ą▓ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ąĄ čéčÅąČąĄą╗ąŠ čüą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ ąĮą░ ą▒čÄą┤ąČąĄč鹥 ą╝ąĄčģą░ąĮąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą╝ą░čüč鹥čĆčüą║ąŠą╣┬╗77.
ąĢčēąĄ ąŠą┤ąĮąĖą╝ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ-č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąĘą░ąĖą╝ąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ ąĀąŠčüčüąĖąĖ čü ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ą╝ąĖ ą▓ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▒čŗą╗ąĖ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮąŠą│ąŠ čĆąŠą┤ą░ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗąĄ ąĘą░ą║čāą┐ą║ąĖ.
ąÜąŠą│ą┤ą░ ą▓ čģąŠą┤ąĄ ą╝ąĖčĆąŠą▓ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą┐ąŠąĮą░ą┤ąŠą▒ąĖą╗ąŠčüčī čüąĮą░ą▒ą┤ąĖčéčī ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║čāčÄ ą░čĆą╝ąĖčÄ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ą╝ąĖ ąĖąĘ ąĘą░ą│čĆą░ąĮąĖčåčŗ, ąĘą░ą║ą░ąĘčŗ ąĮą░čćą░ą╗ąĖ čĆą░ąĘą╝ąĄčēą░čéčī ą▒ąĄčüčüąĖčüč鹥ą╝ąĮąŠ: č湥čĆąĄąĘ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ ą░ą│ąĄąĮč鹊ą▓, ąŠčüąŠą▒ąŠ čāą┐ąŠą╗ąĮąŠą╝ąŠč湥ąĮąĮčŗčģ ą╗ąĖčå ąĖ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗčģ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░č鹥ą╗ąĄą╣, ąŠą║ą░ąĘą░ą▓čłąĖčģčüčÅ ą▓ ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│ąĄ. ąś č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ 1915 ą│. čĆąĄčłą░čÄčé čāą┐ąŠčĆčÅą┤ąŠčćąĖčéčī ąĘą░ą│čĆą░ąĮąĖčćąĮčŗąĄ ąĘą░ą║ą░ąĘčŗ ą▓ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą▒čĆąĖčéą░ąĮąĖąĖ, ąÉą╝ąĄčĆąĖą║ąĄ ąĖ ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ. ąÆ ąøąŠąĮą┤ąŠąĮąĄ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖ ąĀčāčüčüą║ąĖą╣ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čé, ą┐ąŠą╝ąĖą╝ąŠ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ąĮąĖą║ą░ą║ąĖąĄ ąĘą░ą║ą░ąĘčŗ ą▓ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą▒čĆąĖčéą░ąĮąĖąĖ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą┤ą░ą▓ą░čéčīčüčÅ, ą┐čĆąĄą┤čüąĄą┤ą░č鹥ą╗čÄ čŹč鹊ą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ą▒čŗą╗ ą┐ąŠą┤čćąĖąĮąĄąĮ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ ą▓ ąØčīčÄ-ąÖąŠčĆą║ąĄ ąĀčāčüčüą║ąĖą╣ ąĘą░ą│ąŠč鹊ą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╣ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čé. ąöąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą░ą│ąĄąĮčéą░ ą▓ąŠ ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ čéą░ą║ąČąĄ ą┤ąŠą╗ąČąĮą░ ą▒čŗą╗ą░ ą▓ąĄčüčéąĖčüčī ą▓ ą║ąŠąĮčéą░ą║č鹥 čü ąøąŠąĮą┤ąŠąĮčüą║ąĖą╝ ą║ąŠą╝ąĖč鹥č鹊ą╝78.
ąŁčéąĖ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüčŗ ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ąĖ ą║ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠčüčéąĖ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ąŠčé ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮčåąĄą▓. ┬½ą×čüąŠą▒ąŠąĄ čüąŠą▓ąĄčēą░ąĮąĖąĄ ą║ąŠąĮčüčéą░čéąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąŠ, čćč鹊 ą▓ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüą░čģ ąĘą░ą│čĆą░ąĮąĖčćąĮčŗčģ ąĘą░ą║ą░ąĘąŠą▓ ą▓ ąÉąĮą│ą╗ąĖąĖ, ąÜą░ąĮą░ą┤ąĄ ąĖ ą▓ ąĪą©ąÉ čĆčāčüčüą║ąŠąĄ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī ą▓ ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╣ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠčüčéąĖ ąŠčé ąÉąĮą│ą╗ąĖąĖ┬╗79.
ąÆ 1916 ą│. ąĮąĄčüčéčŗą║ąŠą▓ą║ąĖ čü ąĘą░ą│čĆą░ąĮąĖčćąĮčŗą╝ąĖ ąĘą░ą║ą░ąĘą░ą╝ąĖ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗ąĖčüčī. ąÆ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, ą║čĆąĖčéąĖą║čāčÅ čĆą░ą▒ąŠčéčā ąśą│ąĮą░čéčīąĄą▓ą░, ą£.ąÆ. ąĀąŠą┤ąĘčÅąĮą║ąŠ ą┐ąĖčüą░ą╗, ┬½čćč鹊 ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╣ ą░ą│ąĄąĮčé ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī čåąĄąĮąĘąŠčĆąŠą╝ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖą╣ ą┐čĆąĄą┤čüąĄą┤ą░č鹥ą╗čÅ ąōąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą┤čāą╝čŗ┬╗80. ąóčĆčāą┤ąĮąŠ ąĮąĄ čüąŠą│ą╗ą░čüąĖčéčüčÅ čü ąĪąĖą┤ąŠčĆąŠą▓čŗą╝, čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ą░ą▓čłąĖą╝, čćč鹊 ┬½ąĮąĖą║ą░ą║ąĖąĄ ą▓ąĮąĄčłąĮąĖąĄ ąĘą░ą║čāą┐ą║ąĖ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▓ąŠąĘą╝ąĄčüčéąĖčéčī ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░čéą║ąŠą▓ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĄą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░. ą×ą│čĆąŠą╝ąĮąŠąĄ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ čĆčāčüčüą║ąŠą│ąŠ ąĘąŠą╗ąŠčéą░, ą▓čŗą┐ą╗ą░č湥ąĮąĮąŠąĄ ąÆąĖą║ą║ąĄčĆčüčā ą▓ ąÉąĮą│ą╗ąĖąĖ, ąÜą░ąĮą░ą┤čüą║ąŠą╝čā ąŠą▒čēąĄčüčéą▓čā ąĖ ąæčāčéą╗ąĄčĆčā ą▓ ąĪą©ąÉ, ąĮąĄ ą┤ą░ą╗ąŠ ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą│ąŠ čŹčäč乥ą║čéą░, čé. ą║. ą┐ąŠčüčéą░ą▓čēąĖą║ąĖ ąĮąĄ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĖą╗ąĖ ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīčüčéą▓┬╗81.
ąĪąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗ąĖ ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčƹȹ┤ą░čÄčé ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗąĄ č鹥ąĘąĖčüčŗ. ąö.ąÆ. ąøąĖčéą▓ąĖąĮąĄąĮą║ąŠ ą▓ ąĘą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĖ ą║ čüą▓ąŠąĄą╣ čĆą░ą▒ąŠč鹥 ąŠčéą╝ąĄčéąĖą╗: ┬½ąĪąŠčĹʹĮąĖą║ąĖ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ąĘą░ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąŠą▓ą░ąĮčŗ ą╗ąĖčłčī ą▓ ą▓čŗą║ą░čćąĖą▓ą░ąĮąĖąĖ čĆčāčüčüą║ąŠą│ąŠ ąĘąŠą╗ąŠčéą░, ą░ ąĮąĄ ą▓ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĖ čüąŠčĹʹĮąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą┤ąŠą╗ą│ą░┬╗82. ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą▒ąĄčüą┐ąĄčćąĮąŠčüčéčī ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĀąŠčüčüąĖąĖ, ą░ ą┐ąŠą┤čćą░čü ąĖ ąĮąĄą┐ąŠąĮčÅčéąĮą░čÅ ą┐ąĄčĆąĄąŠčåąĄąĮą║ą░ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ąŠą┐čŗčéą░ ąĖ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ąĖąĘą╗ąĖčłąĮąĖą╝ čäąĖąĮą░ąĮčüąŠą▓čŗą╝ čĆą░čüčģąŠą┤ą░ą╝.
ąÜ čüąŠąČą░ą╗ąĄąĮąĖčÄ, ąĘą░ą│čĆą░ąĮąĖčćąĮčŗąĄ ąĘą░ą║čāą┐ą║ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓čŗąĮčāąČą┤ąĄąĮąĮąŠą╣ ą╝ąĄčĆąŠą╣, č鹥ą╝ą┐čŗ ąĮą░čćą░č鹊ą╣ ą┤ąŠ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą╝ąŠą┤ąĄčĆąĮąĖąĘą░čåąĖąĖ ąĮąĄ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ąĖ ąĄąĄ ąĘą░ą▓ąĄčĆčłąĖčéčī ą┤ąŠ ąĮą░čćą░ą╗ą░ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąĖ čĆą░čüčüčćąĖčéčŗą▓ą░čéčī ąĮą░ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮčāčÄ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī. ąóą░ą║, ąĮąĄ ą┐ąĄčĆąĄąŠą▒ąŠčĆčāą┤ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ąæčĆčÅąĮčüą║ąĖą╣ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗, ą╝ąŠčēąĮąŠčüčéąĖ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąŠą▓ą░čéčī ┬½ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ą┤ą▓čāčģ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą┐ąĄčĆą▓ąŠčĆą░ąĘčĆčÅą┤ąĮčŗčģ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ąŠą▓ ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│čüą║ąŠą│ąŠ ąĖ ąÜąĖąĄą▓čüą║ąŠą│ąŠ┬╗83. ąÆ čüą▓ąŠčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ą░čÅ čĆąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąŠą▓ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ą░ ąĘą░ą║čāą┐ąŠą║ čüčéą░ąĮą║ąŠą▓ ąĖ ą╝ą░čłąĖąĮ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄčéą░ą╗ąĖčüčī ┬½ąĘą░ ą│čĆą░ąĮąĖčåąĄą╣ ŌĆō ą▓ ąÉąĮą│ą╗ąĖąĖ, ąĪą©ąÉ, ąöą░ąĮąĖąĖ, ą©ą▓ąĄčåąĖąĖ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖčģ čüčéčĆą░ąĮą░čģ┬╗84.
ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ą▓ ąōąÉąŻ ąŠčéą╝ąĄčćą░ą╗ąĖ, ┬½čćč鹊 čüčéą░ąĮą║ąĖ ą┤ą╗čÅ ą┐čāčłąĄčćąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĘą░ą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčéčüčÅ ąĮą░ čĆčāčüčüą║ąĖčģ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░čģ ąĖ čāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆčÅčÄčé čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅą╝ č鹊čćąĮąŠčüčéąĖ┬╗, ąĖ čĆą░ąĘčĆąĄčłąĖą╗ąĖ ąĘą░ą║ą░ąĘčŗą▓ą░čéčī ąĘą░ ą│čĆą░ąĮąĖčåąĄą╣ č鹊ą╗čīą║ąŠ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮčŗąĄ, ąŠčüąŠą▒ąŠ č鹊čćąĮčŗąĄ čüčéą░ąĮą║ąĖ85.
ąóąĄčģąĮąĖč湥čüą║čāčÄ čĆąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÄ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąŠą▓ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĖą╗ąĖ ą▓ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ. ąóą░ą║, čāčüąĖą╗ąĖą╗ąĖ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗čŗ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓ą░ ąĀąŠčüčüąĖąĖ. ą×ą▒ąŠčĆčāą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą┤ą╗čÅ ą┐ąĄčĆąĄąŠčüąĮą░čēąĄąĮąĖčÅ ąĘą░ą║čāą┐ą░ą╗ąĖ, ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ, ąĖ ąĘą░ ą│čĆą░ąĮąĖčåąĄą╣. ąöą╗čÅ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĘą░ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖą╣ ą┤ąŠ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ 1917 ą│. ą▓ąŠ ążčĆą░ąĮčåąĖčÄ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆčāčÄčé ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ą░ ąöą░ą▓čŗą┤ąŠą▓ą░. ą¤ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ ąöą░ą▓čŗą┤ąŠą▓ ąĘą░ą║ą░ąĘą░ą╗: ą┐ąĖą╗ ą║čĆčāą│ą╗čŗčģ ą┤ą╗čÅ ą┤ąĄčĆąĄą▓ą░ ŌĆō 200 čłčéčāą║, čüą╗ąĄčüą░čĆąĮčŗčģ ŌĆō 500 000 čłčéčāą║, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄčéčŗ. ąśčģ ą┐ą╗ą░ąĮąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī čĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅčéčī ą╝ąĄąČą┤čā ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░ą╝ąĖ, ąŠčĆčāąČąĄą╣ąĮčŗą╝ąĖ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ą╝ąĖ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖą╝ąĖ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ ąĘą░ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ86.
ąØąĄ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ą┤čāą╝ą░čéčī, čćč鹊 ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ąōąÉąŻ ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĮąŠ ąŠčéą┐čāčüčéąĖą╗ąŠ čüąĖčéčāą░čåąĖčÄ ą▓ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĮąŠąĄ ą┐ą╗ą░ą▓ą░ąĮčīąĄ. ąĀą░ą▒ąŠčéčā ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖčÅčéąĖą╣ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓, čćą░čüčéąĮčŗčģ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąŠą▓, ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ ąĖ čü ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą║ą░ą┐ąĖčéą░ą╗ąŠą▓ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ, ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąĖ.
ąÜąŠąĮčéčĆąŠą╗čī čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ąōąÉąŻ ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅą╗ąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ-č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéčŗ ą║ą░ąĘąĄąĮąĮčŗčģ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ąŠą▓. ąóą░ą║, ą▓ 1900 ą│. ┬½ą┤ą╗čÅ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĮąŠą╣ čüč鹊ąĖą╝ąŠčüčéąĖ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą╗ą░č乥čéą░ ą┐ąŠą┤ 3-ą┤ą╝ ą┐čāčłą║čā ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąŠčĆčāč湥ąĮąŠ ąĪ.&ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│čüą║ąŠą╝čā ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗čā ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąĄčüčéąĖ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēčāčÄ čĆą░čüčåąĄąĮą║čā, ŌĆ” ą┐ąŠ čĆą░čüčåąĄąĮą║ąĄ ąĮą░ąĘą▓ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░, čüč鹊ąĖą╝ąŠčüčéčī ą╗ą░č乥čéą░ ŌĆ” ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮą░ čåąĖčäčĆąŠą╣ ąŠą║ąŠą╗ąŠ 1 čéčŗčü. čĆčāą▒.┬╗87. ąĪ čāč湥č鹊ą╝ ą┐čĆąĖą▒čŗą╗ąĖ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ ąĖč鹊ą│ąŠą▓ą░čÅ čåąĄąĮą░ čüąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ą░ 1500 čĆčāą▒. ąĘą░ ą╗ą░č乥čé ą┐ąŠą┤ 3-ą┤ą╝ ą┐čāčłą║čā.
ąØą░ą▒ą╗čÄą┤ąĄąĮąĖąĄ ąĘą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠą╝ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĖ ą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠą╣ ą│ąŠą┤ąĮąŠčüčéčīčÄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣ ą▓ąŠąĘą╗ą░ą│ą░ą╗ąĖ ąĮą░ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖąĄ ą┐čĆąĖąĄą╝ąĮąĖą║ąĖ. ąóą░ą║, ą▓ 1911 ą│. ąĘą░ą▓ąĄą┤čāčÄčēąĖą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╝ąĖ ą┐čĆąĖąĄą╝ą║ą░ą╝ąĖ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčé ąÜąŠčĆąŠą▒ą║ąŠą▓ ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄą╗ čåąĄą╗čŗą╣ čĆčÅą┤ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąŠą▓, ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮčÅą▓čłąĖčģ ąĘą░ą║ą░ąĘčŗ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓ą░: ┬½ąÜąŠą╗ąŠą╝ąĄąĮčüą║ąĖą╣, ąĪąŠčĆą╝ąŠą▓čüą║ąĖą╣, ąŻčĆą░ą╗čīčüą║ąĖąĄ ą│ąŠčĆąĮčŗąĄ ąĘą░ą▓ąŠą┤čŗ: ąÜčāčüąĖąĮčüą║ąĖą╣, ąĪą░čéą║ąĖąĮčüą║ąĖą╣, ąŚą╗ą░č鹊čāčüč鹊ą▓čüą║ąĖą╣, ąÆąĄčĆčģąĮąĄčéčāčĆąĖąĮčüą║ąĖą╣, ąæą░čĆą░ąĮčćąĖąĮčüą║ąĖą╣ ąĖ ą¤ąĄčĆą╝čüą║ąĖą╣ ąĘą░ą▓ąŠą┤┬╗88. ą¤ąŠąĮčÅčéąĮąŠ, čćč鹊 ą▓ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ą╝ąĖčĆąŠą▓ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą▓ čüąĖą╗čā ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą┐ąĄčĆąĄą│čĆčāąČąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗čī ą▓ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąŠą╝ čüąĮąĖąĘąĖą╗čüčÅ. ąØąŠ ą▓ ąōąÉąŻ ąŠčüąŠąĘąĮą░ą▓ą░ą╗ąĖ ą▓ą░ąČąĮąŠčüčéčī ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĘą░ čüą▓ąŠąĄą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗą╝ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄą╝ ąĘą░ą║ą░ąĘąŠą▓89.
ą×ą┐ą╗ą░čéčā čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĄčĆąŠą▓ ąĖ ą▒čĆą░ą║ąŠą▓čēąĖą║ąŠą▓ ą▓ąĄą╗ąĖ č湥čĆąĄąĘ ąĘą░ą▓ąŠą┤čŗ ąĖ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗čŗ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓ą░. ąóą░ą║, ą▓ 1907 ą│. ąæčĆčÅąĮčüą║ąĖą╣ čĆąĄą╗čīčüąŠą┐čĆąŠą║ą░čéąĮčŗą╣ ąĘą░ą▓ąŠą┤ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ ąĘą░ą║ą░ąĘ ąĮą░ 1430 čäčāą│ą░čüąĮčŗčģ II-ą┤ą╝ ą▒ąŠą╝ą▒ ąĖ ąĮą░ 900 ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓čŗčģ 6-ą┤ą╝ ą▒ąŠą╝ą▒ ą┤ą╗čÅ ą┐čāčłąĄą║ ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░ 1904 ą│., ą░ ąæčĆčÅąĮčüą║ąĖą╣ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ ąŠčéčüą╗ąĄąČąĖą▓ą░ą╗ čĆą░ą▒ąŠčéčā, čÅą▓ą╗čÅčÅčüčī čüą▓čÅąĘčāčÄčēąĖą╝ ąĘą▓ąĄąĮąŠą╝ ą╝ąĄąČą┤čā ąĘą░ą▓ąŠą┤ąŠą╝ ąĖ ąōąÉąŻ90.
ąśčéą░ą║, ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ ąĮą░ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ-č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠąĄ ą▓ąĘą░ąĖą╝ąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ąĀąŠčüčüąĖąĖ čü ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ą╝ąĖ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ą┐ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčé ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓ąĖąĄ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ąĮą░ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąÆą╝ąĄčüč鹥 čü č鹥ą╝, čüč鹊ąĖčé ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ąŠ ą┤ą▓čāčģ ą┐ą░čĆą░ą╗ą╗ąĄą╗čīąĮąŠ čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░čÄčēąĖčģčüčÅ čÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅčģ. ąÆ ąŠą┤ąĮąŠą╣ ą┐ą╗ąŠčüą║ąŠčüčéąĖ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗ąŠ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ ąĖąĘčŗčüą║ą░ąĮąĖą╣ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖąĘąŠą▒čĆąĄčéą░č鹥ą╗ąĄą╣-ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüč鹊ą▓, ą░ čü ą┤čĆčāą│ąŠą╣ ŌĆō ą┐ąŠ ą┐ąŠąĮčÅčéąĮčŗą╝ ą┐čĆąĖčćąĖąĮą░ą╝ ąĘą░ą║čāą┐ą░ą╗ąĖ ąĖ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą▓čüąĄ ą╗čāčćčłąĄąĄ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░. ąÆąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, ą┤ą╗čÅ čüąŠčģčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ čüąĖą╗čīąĮąŠą╣ ąĖ ąĮąĄąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ą░ąČąĮąŠ čāą┤ąĄčƹȹ░čéčī ąĮąĄą║ąĖą╣ ą▒ą░ą╗ą░ąĮčü ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ąĮą░ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąØą░čĆčÅą┤čā čü čŹčéąĖą╝ ąōąÉąŻ čāąČąĄ ą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéąĖ XIX ą▓. ąĮąĄ ąĖą╝ąĄą╗ąŠ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮčŗčģ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ ą┤ą╗čÅ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ąŠą▓ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓ą░ ąĀąŠčüčüąĖąĖ. ąÆ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ą┐čĆąĖą▒ąĄą│ą░ą╗ąĖ ą║ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ą║ą░ą╝ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ čü čćą░čüčéąĮčŗčģ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖčÅčéąĖą╣ (ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ čü čāčćą░čüčéąĖąĄą╝ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗčģ ąĖąĮą▓ąĄčüčéąĖčåąĖą╣) ąĖ ąĘą░ą║čāą┐ą░ą╗ąĖ ąĄąĄ ąĘą░ ą│čĆą░ąĮąĖčåąĄą╣.
ą¤čĆąĖ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘąĄ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čŗ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮąŠą╣ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠčüčéąĖ ą▓ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖąĮą┤čāčüčéčĆąĖąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ, čćč鹊 ą║ą░ąĘąĄąĮąĮčŗą╝ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░ą╝ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓ą░ ąĀąŠčüčüąĖąĖ čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī čüąŠčģčĆą░ąĮąĖčéčī ą┤ąĄčüčÅčéąĖą╗ąĄčéąĖčÅą╝ąĖ ąĮą░ą║ą░ą┐ą╗ąĖą▓ą░ąĄą╝čŗą╣ ąŠą┐čŗčé čĆą░ą▒ąŠčéčŗ. ąóąĄčģąĮąĖą║ąĖ-ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüčéčŗ, čĆą░ą▒ąŠčéą░ą▓čłąĖąĄ ą▓ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░čģ, ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ą║ą░ą║ ą▒ą╗ąĄčüčéčÅčēąĄąĄ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĖ ąČąĄą╗ą░ąĮąĖąĄ čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░čéčī čüą▓ąŠąĖ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéąĖ, čéą░ą║ ąĖ ąĮąĄąĘą░čāčĆčÅą┤ąĮčŗąĄ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░č鹊čĆčüą║ąĖąĄ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéąĖ, čćč鹊 ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠ čĆąĄčłą░čÄčēąĄąĄ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ, ą║ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆčā, ą▓ ą╗ąĖą║ą▓ąĖą┤ą░čåąĖąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ąĮąŠą│ąŠ ą│ąŠą╗ąŠą┤ą░. ąÆą╝ąĄčüč鹥 čü č鹥ą╝, č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ą░čÅ ąŠčéčüčéą░ą╗ąŠčüčéčī ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ąŠčēąĮąŠčüč鹥ą╣ ą┐čĆąĖ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░čéą║ąĄ čäąĖąĮą░ąĮčüąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▓ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąŠą╝ ąĘą░ą╝ąĄą┤ą╗čÅą╗ą░ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąÆ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ-č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠąĄ ą▓ąĘą░ąĖą╝ąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ą▓ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XX ą▓. ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄą╗ąŠ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ, ąĮąŠ ąĖ ąŠčéčĆąĖčåą░č鹥ą╗čīąĮčŗąĄ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĖčüčéąĖą║ąĖ. ąĪ ąŠą┤ąĮąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, ą┐ąŠą┤ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗čīąĮčŗąĄ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗąĄ ąĖąĮą▓ąĄčüčéąĖčåąĖąĖ ąĖ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĘą░ąĖą╝čüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ, ąĮąŠ čü ą┤čĆčāą│ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ą▓ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ, ą▓čŗą║ą░čćąĖą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĖąĘ ą║ą░ąĘąĮčŗ ąĀąŠčüčüąĖąĖ čüčĆąĄą┤čüčéą▓, ą░ ą┐ąŠą┤čćą░čü ąĮąĄą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄ ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ ą┐ąŠ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ą║ą░ą╝.

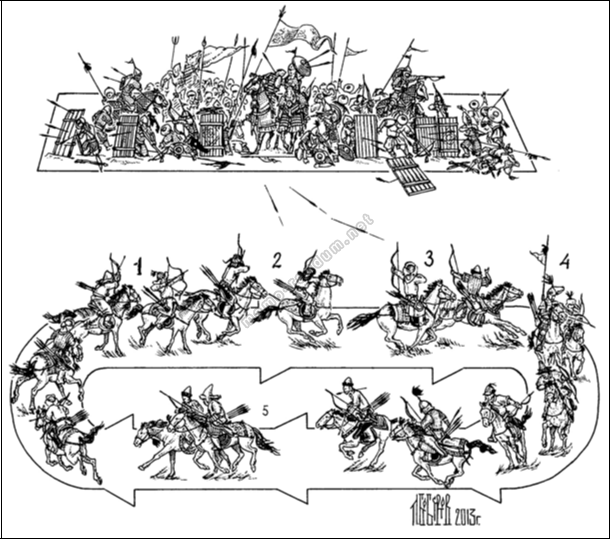
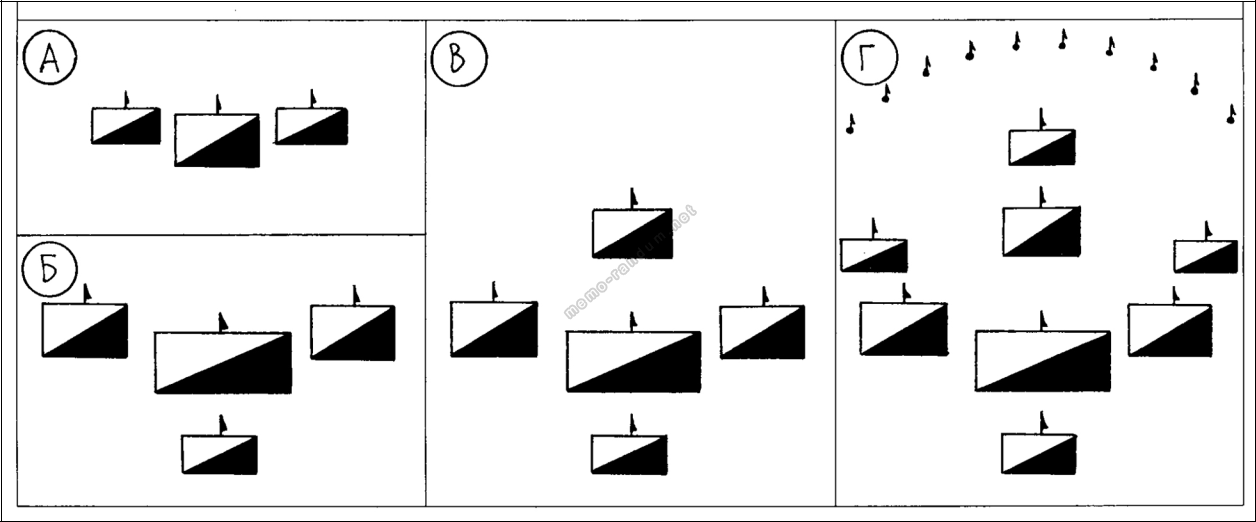

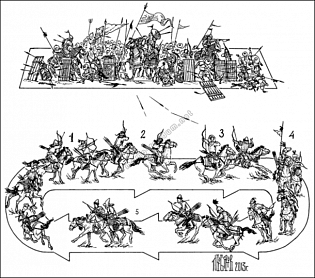
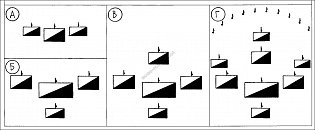

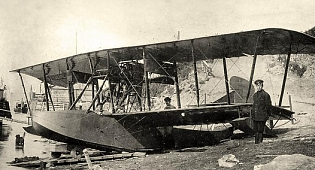
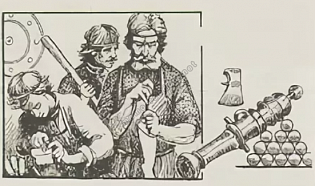
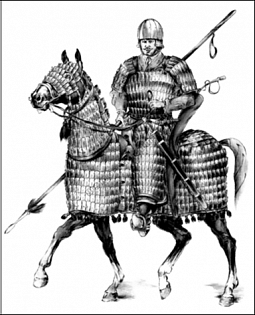
ąÜąŠą╝ą╝ąĄąĮčéą░čĆąĖąĖ