Р’.Р’. РҡРҫСҖРҫРІРёРҪ (РҡСғСҖСҒРә) РЈР§РҗРЎРўРҳР• РҹРҗР РўРҳР—РҗРқРЎРҡРҳРҘ РӨРһР РңРҳР РһР’РҗРқРҳРҷ Р’ Р‘РһРЬБЕ РҹР РһРўРҳР’ РҡРһРӣРӣРҗР‘РһР РҗРҰРҳРһРқРҳРЎРўРһР’ (1941вҖ“1943 РіРҫРҙСӢ)
РЈРҝСҖавлРөРҪРёРө РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ РңРёРҪРҫРұРҫСҖРҫРҪСӢ Р РҫСҒСҒРёРё Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәР°СҸ РҗРәР°РҙРөРјРёСҸ СҖР°РәРөСӮРҪСӢС… Рё Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРёС… РҪР°СғРә Р’РҫРөРҪРҪРҫ-РёСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРёР№ РјСғР·РөР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё, РёРҪР¶РөРҪРөСҖРҪСӢС… РІРҫР№СҒРә Рё РІРҫР№СҒРә СҒРІСҸР·Рё
ЧаСҒСӮСҢ IIIРЎР°РҪРәСӮ-РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРі
©ВРҳРңРҗРҳР’РёР’РЎ, 2016
В©РҡРҫллРөРәСӮРёРІ авСӮРҫСҖРҫРІ, 2015
В© РЎРҹРұГУРҹРўР”, 2016
РҡР°Рә РҝРҫРҙСҮРөСҖРәРёРІР°РөСӮСҒСҸ РІ РјРҪРҫРіРҫСӮРҫРјРҪРҫРј РёР·РҙР°РҪРёРё «ВРөлиРәР°СҸ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪР°СҸ РІРҫР№РҪР° 1941вҖ“1945 РіРҫРҙСӢВ», СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёСҮРөСҒСӮРІРҫ СҒ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәРҫРј РҪР° РІСҖРөРјРөРҪРҪРҫ РҫРәРәСғРҝРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢС… СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёСҸС… СҒСӮСҖР°РҪСӢ СҮР°СҒСӮРҫ РҝСҖРёРҫРұСҖРөСӮалРҫ С„РҫСҖРјСӢ РҝСҖСҸРјРҫРіРҫ СғСҮР°СҒСӮРёСҸ РІ РұРҫРөРІСӢС… РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸС… РҝСҖРҫСӮРёРІ РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ РҗСҖРјРёРё Рё РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ Рё СҒСӮРҫРёР»Рҫ РёРј РҪРөмалСӢС… РҝРҫСӮРөСҖСҢ1.
РҹРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРҫРө Рё РІРҫРөРҪРҪРҫРө СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ РЎРЎРЎР РІ лиСҶРө Р“РҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ РҡРҫРјРёСӮРөСӮР° РһРұРҫСҖРҫРҪСӢ, РҪР°СҖРәРҫРјР°СӮРҫРІ РҫРұРҫСҖРҫРҪСӢ, РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪРёС… РҙРөР» Рё РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё, РҰРөРҪСӮСҖалСҢРҪРҫРіРҫ СҲСӮР°РұР° РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҙРІРёР¶РөРҪРёСҸ РҝСҖРё РЎСӮавРәРө Р’РөСҖС…РҫРІРҪРҫРіРҫ ГлавРҪРҫРәРҫРјР°РҪРҙСғСҺСүРөРіРҫ РҝСҖРёРјРөРҪСҸли Р°РҙРөРәРІР°СӮРҪСӢРө РІРҫРөРҪРҪСӢРө РјРөСҖСӢ, РҪР°РҝСҖавлРөРҪРҪСӢРө РҪР° РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРҙРөР№СҒСӮРІРёРө РҙРҫРұСҖРҫРІРҫР»СҢСҮРөСҒРәРёРј СҮР°СҒСӮСҸРј, СҒСҖажавСҲРёРјСҒСҸ РҪР° СҒСӮРҫСҖРҫРҪРө РІРөСҖмахСӮР°, РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёРј Рё РәР°СҖР°СӮРөР»СҢРҪСӢРј РҝРҫРҙСҖазРҙРөР»РөРҪРёСҸРј, Р° СӮР°РәР¶Рө СҲРҝРёРҫРҪам Рё РҙРёРІРөСҖСҒР°РҪСӮам РІ РҝРҫР»РҫСҒах РҙРөР№СҒСӮРІСғСҺСүРёС… С„СҖРҫРҪСӮРҫРІ Рё Р°СҖРјРёР№.
РһРҙРҪРёРј РёР· РҪаиРұРҫР»РөРө РҙРөР№СҒСӮРІРөРҪРҪСӢС… СҒРҝРҫСҒРҫРұРҫРІ РұРҫСҖСҢРұСӢ СҒ РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёРјРё РҝРҫРҙСҖазРҙРөР»РөРҪРёСҸРјРё Рё СҒСӮСҖСғРәСӮСғСҖами РҫРәРәСғРҝР°СҶРёРҫРҪРҪРҫР№ влаСҒСӮРё (РІ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө РјРөСҒСӮРҪРҫРіРҫ СғРҝСҖавлРөРҪРёСҸ) СҒСӮР°РҪРҫРІРёР»РҫСҒСҢ РҙРІРёР¶РөРҪРёРө СҒРҫРҝСҖРҫСӮРёРІР»РөРҪРёСҸ РҫРәРәСғРҝР°РҪСӮам: РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёС… РұСҖРёРіР°Рҙ, РҫСӮСҖСҸРҙРҫРІ Рё СҖазвРөРҙСӢРІР°СӮРөР»СҢРҪРҫ-РҙРёРІРөСҖСҒРёРҫРҪРҪСӢС… РіСҖСғРҝРҝ, РҪахРҫРҙРёРІСҲРёС…СҒСҸ РІ РҝРҫРҙСҮРёРҪРөРҪРёРё РқРҡР’Р”вҖ“РқРҡГБ.
РўР°Рә, РҝСҖРё Р°РәСӮРёРІРҪРҫРј СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРө РҝР°СҖСӮРёР№РҪСӢС… РҫСҖРіР°РҪРҫРІ, взаимРҫРҙРөР№СҒСӮРІРёРё СҒ СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРәами 4-РіРҫ РҫСӮРҙРөла РЈРқРҡР’Р” РҝРҫ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё Рё РІРҫРөРҪРҪРҫСҒР»СғжаСүРёРјРё СҮРөСӮСӢСҖРөС… РҫСӮРҙРөР»РҫРІ (РҫСӮРҙРөР»РөРҪРёР№) РҝРҫлиСӮСғРҝСҖавлРөРҪРёР№ (РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРёС… РҫСӮРҙРөР»РҫРІ) Р‘СҖСҸРҪСҒРәРҫРіРҫ, ЮгРҫ-Р—Р°РҝР°РҙРҪРҫРіРҫ, Р’РҫСҖРҫРҪРөР¶СҒРәРҫРіРҫ С„СҖРҫРҪСӮРҫРІ Рё РҫРұСүРөРІРҫР№СҒРәРҫРІСӢС… Р°СҖРјРёР№ (13-Р№, 40-Р№, 21-Р№, 28- Р№), РҙРөР№СҒСӮРІРҫвавСҲРёС… РІ СӮСӢР»РҫРІСӢС… РіСҖР°РҪРёСҶах РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё СҖРөРіРёРҫРҪР°, РҙР»СҸ РІРөРҙРөРҪРёСҸ РұРҫРөРІСӢС… РҙРөР№СҒСӮРІРёР№ РІ СӮСӢР»Сғ РІСҖага РұСӢли РҝРҫРҙРіРҫСӮРҫРІР»РөРҪСӢ 32 РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёС… РҫСӮСҖСҸРҙР°2.
РҹРөСҖРІСӢРө РҙРҫРҪРөСҒРөРҪРёСҸ, РҝРҫСҒСӮСғРҝавСҲРёРө РҫСӮ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ РІ РҫРұРәРҫРј Р’РҡРҹ(Рұ) Рё РІ 4-Р№ РҫСӮРҙРөР» РЈРқРҡР’Р”, СҒРІРёРҙРөСӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫвали Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёРө С„РҫСҖРјРёСҖРҫРІР°РҪРёСҸ СғР¶Рө РҪР° РҪР°СҮалСҢРҪРҫРј СҚСӮР°РҝРө СҒРІРҫРөР№ РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё РІРҪРҫСҒили РҝРҫСҒРёР»СҢРҪСғСҺ Р»РөРҝСӮСғ РІ РҙРөР»Рҫ СҒРҫР·РҙР°РҪРёСҸ В«РҪРөРІСӢРҪРҫСҒРёРјСӢС… СғСҒР»РҫРІРёР№ РҙР»СҸ РІСҖага Рё РІСҒРөС… РөРіРҫ РҝРҫСҒРҫРұРҪРёРәРҫРІВ». РқР°РҝСҖРёРјРөСҖ, РҝРҫ РҙР°РҪРҪСӢРј, РҝСҖРөРҙСҒСӮавлРөРҪРҪСӢРј РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёРөРј РҡСҖРёРІСҶРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° (РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖ Рҹ.Рқ. РҹР°СҲРәРҫРІ), СҒ 25 РҙРөРәР°РұСҖСҸ 1941 РҝРҫ 1 С„РөРІСҖалСҸ 1942 Рі. РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ СғРҪРёСҮСӮРҫжили 44 РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»СҸ, РІ РёС… СҮРёСҒР»Рө 12 СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮ Рё РёС… РҝРҫРјРҫСүРҪРёРәРҫРІ, Р° СӮР°РәР¶Рө 16 РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС…3.
РңРөРҙРІРөРҪСҒРәРёР№ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёР№ РҫСӮСҖСҸРҙ РҝРҫРҙ РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёРөРј Рў.Р’. РӨРёР»СҢСҮР°РәРҫРІР° Р·Р° СҚСӮРҫСӮ Р¶Рө РҝРөСҖРёРҫРҙ СғРҪРёСҮСӮРҫжил 110 фаСҲРёСҒСӮРҫРІ Рё 18 РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»РөР№4. Р’ СҸРҪРІР°СҖРө 1942 Рі. РјРөРҙРІРөРҪСҒРәРёРө РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ СҖР°СҒСҒСӮСҖРөР»СҸли РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»РөР№ Р РҫРҙРёРҪСӢ: агСҖРҫРҪРҫРјР° РҡСғСҖСҸСҮРөРіРҫ, РӨ.Р“. РҹР»РҫС…РёС…, Рң.Р’. Р’РҫСҖРҫРҪРәРҫРІР°, РІСӢРҙававСҲРёС… РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёРө СҒРөРјСҢРё РІСҖагСғ5.
РһСҒРөРҪСҢСҺ 1941 Рі. РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ Р‘РөлгРҫСҖРҫРҙСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° (РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖ вҖ“ Рҗ.Рҗ. РҹРҫР»СҸРәРҫРІ) СҖР°СҒСҒСӮСҖРөР»СҸли СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮ СҒРөР» РЈСҲР°РәРҫРІРҫ, РЎРөРІСҖСҺРәРҫРІРҫ, Р° СӮР°РәР¶Рө С…СғСӮРҫСҖРҫРІ РЎРҫР»РҫРІСҢРөРІ Рё РЁРөРҪРҪРҫ РЁРөРұРөРәРёРҪСҒРәРҫРіРҫ СҖайРҫРҪР°6. РҹРҫР·РҙРҪРөРө РәРҫРјРёСҒСҒР°СҖ Р‘РөлгРҫСҖРҫРҙСҒРәРҫРіРҫ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° Рҗ.Рў. РЎРёРІРөСҖСҒРәРёР№ РІРҫСҒРҝРҫРјРёРҪал: В«вҖҰРЈРҙРёРІР»СҸР»Рҫ СӮРҫ, СҮСӮРҫ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө лиСҶР°, СҒСҮРёСӮавСҲРёРөСҒСҸ РҙРҫ РІРҫР№РҪСӢ С…РҫСҖРҫСҲРёРјРё Р»СҺРҙСҢРјРё Рё СҖР°РұРҫСӮРҪРёРәами СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… РҫСҖРіР°РҪРҫРІ, РҙРҫРұСҖРҫРІРҫР»СҢРҪРҫвҖҰ РҝРөСҖРөСҲли РҪР° СҒР»СғР¶РұСғ Рә фаСҲРёСҒСӮам Рё СҒСӮали Р°РәСӮРёРІРҪРҫ РёРј РҝРҫРјРҫРіР°СӮСҢВ»7.
Р’ РҙРҫРҪРөСҒРөРҪРёСҸС…, РҝРҫРҙРіРҫСӮРҫРІР»РөРҪРҪСӢС… РІ РјР°Рө 1942 Рі. СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРәами 4-РіРҫ РҫСӮРҙРөла РЈРқРҡР’Р” РҝРҫ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё, СғРәазСӢвалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ РўРҫРјР°СҖРҫРІСҒРәРёР№ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёР№ РҫСӮСҖСҸРҙ (РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖ вҖ“ Р’.Рҗ. Р”РҫРұСҖРҫС…РҫСӮРҫРІ) СғРҪРёСҮСӮРҫжил 16 РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»РөР№ Р РҫРҙРёРҪСӢ8. РһРұ СғРҪРёСҮСӮРҫР¶РөРҪРёРё 20 РёР·РјРөРҪРҪРёРәРҫРІ Р РҫРҙРёРҪСӢ СҒРҫРҫРұСүРёР»Рҫ Рё РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёРө РҳРІРҪСҸРҪСҒРәРҫРіРҫ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° (РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖ вҖ“ Р”.Р’. Р—Р°СҒСӮСҖРҫР¶РҪРҫРІ)9. Р СғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ РҡСғСҖСҒРәРҫРіРҫ РҫРұРәРҫРјР° Р’РҡРҹ(Рұ) Рё СғРҝСҖавлРөРҪРёРө РқРҡР’Р” РҝРҫ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё СӮСҖРөРұРҫвали РҫСӮ РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёСҸ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёС… РҫСӮСҖСҸРҙРҫРІ Р°РәСӮРёРІРёР·Р°СҶРёРё РёС… РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё, РІ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө РҪР°РҝСҖавлРөРҪРҪРҫР№ РҪР° СғРҪРёСҮСӮРҫР¶РөРҪРёРө РёР·РјРөРҪРҪРёРәРҫРІ Рё РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»РөР№ Р РҫРҙРёРҪСӢ. РўР°Рә, 8 РҙРөРәР°РұСҖСҸ 1941 Рі. СҖазвРөРҙСҮРёРәРё 2-РіРҫ РЎСғРҙжаРҪСҒРәРҫРіРҫ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° РІ СҒ. РҹСҖРёСҒСӮРөРҪРҪРҫРө РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё СғРҪРёСҮСӮРҫжили 6 РҪРөРјРөСҶРәРёС… РІРҫРөРҪРҪРҫСҒР»СғжаСүРёС… Рё СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮСғ СҒРөла10.
РҹРҫРәазаСӮРөР»СҢРҪСӢРј СҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ РҝСҖРёРәаз в„– 26 РҫРұлаСҒСӮРҪРҫРіРҫ СғРҝСҖавлРөРҪРёСҸ РқРҡР’Р”, РҪР°РҝСҖавлРөРҪРҪСӢР№ РҪР° РёРјСҸ РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖР° Рё РәРҫРјРёСҒСҒР°СҖР° 2-РіРҫ РЎСғРҙжаРҪСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° РЎ.Р’. РўСҖРёРұСғРҪСҒРәРҫРіРҫ Рё РҜ.РҜ. ГлРҫмазРҙРёРҪР°. Р’ РҝСҖРёРәазРө РҝРҫРҙСҮРөСҖРәивалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ РІ СӮРөСҮРөРҪРёРө С„РөРІСҖалСҸ 1942 Рі. РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёР№ РҫСӮСҖСҸРҙ СӮР°Рә Рё РҪРө РҝРөСҖРөСҲРөР» лиРҪРёСҺ С„СҖРҫРҪСӮР° РІ СҖайРҫРҪРө РҹСҖРҫС…РҫСҖРҫРІРәРё вҖ“ РһРұРҫСҸРҪРё; 4-Р№ РҫСӮРҙРөР» РЈРқРҡР’Р” СҒСӮавиСӮ Р·Р°РҙР°СҮСғ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІСғ РЎСғРҙжаРҪСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° РҝРҫСҒР»Рө РҝРөСҖРөС…РҫРҙР° лиРҪРёРё С„СҖРҫРҪСӮР° «вСӢСҸРІРёСӮСҢ РІСҒРөС… лиСҶ, РёР·РјРөРҪРёРІСҲРёС… Р РҫРҙРёРҪРө, РҝРөСҖРөСҲРөРҙСҲРёС… РҪР° СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ РҪРөРјСҶРөРІ, СғРҪРёСҮСӮРҫжаСӮСҢ СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮ, РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС… Рё РҙСҖСғРіРёС… Р°РәСӮРёРІРҪСӢС… РҝРҫРјРҫСүРҪРёРәРҫРІ РҫРәРәСғРҝР°РҪСӮРҫРІВ»11.
Рҡ СҒРҫжалРөРҪРёСҺ, РҝРҫСҒСӮавлРөРҪРҪСӢРө Р·Р°РҙР°СҮРё 2-Р№ РЎСғРҙжаРҪСҒРәРёР№ РҫСӮСҖСҸРҙ РІСӢРҝРҫР»РҪРёСӮСҢ РҪРө СҒРјРҫРі. 20 РјР°СҸ 1942 Рі. Сғ СҒРөла РЎСҖРөРҙРҪСҸСҸ РһР»СҢСҲР°РҪРәР° РҹСҖРёСҒСӮРөРҪСҒРәРҫРіРҫ СҖайРҫРҪР° РөРіРҫ РұРҫР№СҶСӢ, РҝРөСҖРөР№РҙСҸ лиРҪРёСҺ С„СҖРҫРҪСӮР°, РұСӢли РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪСӢ РјРөСҒСӮРҪСӢРё жиСӮРөР»СҸРјРё, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҫРұ СҚСӮРҫРј СҒРҫРҫРұСүили РҝРҫлиСҶРёРё Рё РІРҫРөРҪРҪРҫРјСғ РәРҫРјРөРҪРҙР°РҪСӮСғ. РҹР°СҖСӮРёР·Р°РҪ РҫРәСҖСғжили РҪРөРјРөСҶРәРёРө РҝРҫРҙСҖазРҙРөР»РөРҪРёСҸ Рё РҫСӮСҖСҸРҙ РҝРҫлиСҶРёРё. Р’ завСҸзавСҲРөРјСҒСҸ РұРҫСҺ РҝРҫРіРёРұли РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖ РҫСӮСҖСҸРҙР° РЎ.Р’. РўСҖРёРұСғРҪСҒРәРёР№, РәРҫРјРёСҒСҒР°СҖ РҜ.РҜ. ГлРҫмазРҙРёРҪ Рё РјРҪРҫРіРёРө РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ.12
Р’ РёСҺРҪРө 1942 Рі. РјРөРҙРІРөРҪСҒРәРёРө РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ РҝРҫРҙ РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёРөРј Рў.Р’. РӨРёР»СҢСҮР°РәРҫРІР° СҒСғРјРөли РҫСҖРіР°РҪРёР·РҫРІР°СӮСҢ РәСҖСғРҝРҪСғСҺ Р°РәСҶРёСҺ РІРҫР·РјРөР·РҙРёСҸ: Р·Р° РҝСҖРҫРІРөРҙРөРҪРёРө РҪР°СҒРёР»СҢСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РјРҫРұилизаСҶРёРё РјРҫР»РҫРҙРөжи Рё РҪР°РҝСҖавлРөРҪРёРө РёС… РҪР° СҖР°РұРҫСӮСғ РІ Р“РөСҖРјР°РҪРёСҺ РұСӢР» СғРұРёСӮ СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮР° СҒРөла РӣСғРұСҸРҪРәР°13.
РҹСҖРёРІР»РөСҮРөРҪРёРө РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРҪСӢС… РәРҫллаРұРҫСҖР°СҶРёРҫРҪРёСҒСӮРҫРІ Рә РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРјСғ или РІРҫР№СҒРәРҫРІРҫРјСғ СҒСғРҙСғ СғР¶Рө РҝСҖР°РәСӮРёРәРҫвалРҫСҒСҢ РІРөСҒРҪРҫР№ 1942 Рі. РўР°Рә, СҒРҫглаСҒРҪРҫ РҙРҫРҪРөСҒРөРҪРёСҺ РҪР°СҮалСҢРҪРёРәР° РҝРҫлиСӮРҫСӮРҙРөла 1-Р№ РіРІР°СҖРҙРөР№СҒРәРҫР№ СҒСӮСҖРөР»РәРҫРІРҫР№ РҙРёРІРёР·РёРё СҒСӮР°СҖСҲРөРіРҫ РұР°СӮалСҢРҫРҪРҪРҫРіРҫ РәРҫРјРёСҒСҒР°СҖР° Рң.РӨ. РңРҫРёСҒРөРөРІР°, СҒРҫСҒСӮавлРөРҪРҪРҫРјСғ РҝРҫСҒР»Рө СҒРҫРІРјРөСҒСӮРҪРҫР№ СҒ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪами РңРёРәРҫСҸРҪРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° РҫРҝРөСҖР°СҶРёРё РҝРҫ СҖазгСҖРҫРјСғ РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪР° РІ СҒРөР»Рө Р’Р°СҖРІР°СҖРҫРІРәР° Р’РҫР»СҮР°РҪСҒРәРҫРіРҫ СҖайРҫРҪР° РҘР°СҖСҢРәРҫРІСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё, СҖРөСҲРөРҪРёРөРј РІРҫРөРҪРҪРҫРіРҫ СӮСҖРёРұСғРҪала 6 РјР°СҖСӮР° 1942 Рі. РұСӢР» РҝСҖРёРіРҫРІРҫСҖРөРҪ Рә СҖР°СҒСҒСӮСҖРөР»Сғ РёР·РјРөРҪРҪРёРә Р РҫРҙРёРҪСӢ вҖ“ РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёР№ РӨРөРҙРҫСүРөРҪРәРҫ. РһРҪ РҙРөР·РөСҖСӮРёСҖРҫвал РёР· РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ Р°СҖРјРёРё Рё РҝРөСҖРөСҲРөР» РҪР° СҒР»СғР¶РұСғ Рә РІСҖагСғ. РӣРёСҮРҪРҫ РӨРөРҙРҫСүРөРҪРәРҫ РҙважРҙСӢ РҝСҖРёРҪимал СғСҮР°СҒСӮРёРө РІ РұРҫСҸС… РҝСҖРҫСӮРёРІ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… СҮР°СҒСӮРөР№. Р’ РҫРҙРҪРҫРј РёР· РұРҫРөРІ РҫРҪ СғРұРёР» 2 РәСҖР°СҒРҪРҫР°СҖРјРөР№СҶРөРІ, СҒ РҫРҙРҪРҫРіРҫ СҖР°РҪРөРҪРҫРіРҫ СҒСӮР°СүРёР» СҒР°РҝРҫРіРё14.
РҹСҖРё Р·Р°СҮСӮРөРҪРёРё РҝСҖРёРіРҫРІРҫСҖР° Рё РҝСҖРёРІРөРҙРөРҪРёРё РөРіРҫ РІ РёСҒРҝРҫР»РҪРөРҪРёРө РҝСҖРёСҒСғСӮСҒСӮРІРҫвалРҫ РҙРҫ 50 РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ Рё 100 РјРөСҒСӮРҪСӢС… жиСӮРөР»РөР№. Р Р°СҒСҒСӮСҖРөР»СҸли РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»СҸ СҒами РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ. РҹРҫСҒР»Рө СҚСӮРҫРіРҫ СҒ РҫРұСҖР°СүРөРҪРёРөРј Рә РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪам Рё РәРҫлхРҫР·РҪРёРәам РІСӢСҒСӮСғРҝРёР» РәРҫРјРёСҒСҒР°СҖ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° Рқ.Р’. РҳРІР°РҪСҮРөРҪРәРҫРІ Рё РІРҫРөРҪРҪСӢР№ СҺСҖРёСҒСӮ РёР· РҝСҖРҫРәСғСҖР°СӮСғСҖСӢ РҙРёРІРёР·РёРё.
Р’РөСҒРҪРҫР№ 1942 Рі. РҙРёРІРөСҖСҒРёРҫРҪРҪСӢРө РіСҖСғРҝРҝСӢ, Р·Р°РұСҖР°СҒСӢРІР°РөРјСӢРө РІ СӮСӢР» РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәР°, РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РҡРҫРҪСӢСҲРөРІСҒРәРҫРіРҫ Рё ДмиСӮСҖРёРөРІСҒРәРҫРіРҫ СҖайРҫРҪРҫРІ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё РҝСҖРҫРІРөли СҖСҸРҙ Р»РҫРәалСҢРҪСӢС… РұРҫРөРІСӢС… РҫРҝРөСҖР°СҶРёР№ РҝРҫ СғРҪРёСҮСӮРҫР¶РөРҪРёСҺ РёР·РјРөРҪРҪРёРәРҫРІ Р РҫРҙРёРҪСӢ. РўР°Рә, РҙРёРІРөСҖСҒРёРҫРҪРҪРҫ-СҖазвРөРҙСӢРІР°СӮРөР»СҢРҪР°СҸ РіСҖСғРҝРҝР°, СҖСғРәРҫРІРҫРҙРёРјР°СҸ Р‘РҫРұСҖСӢСҲРҫРІСӢРј (РҪР°СҒСӮРҫСҸСүР°СҸ фамилиСҸ Рҹ.Рқ. РЎРІРөСҮРәРёРҪ. вҖ“ Р’.Рҡ.), РІ СҒРөР»Рө Р‘РөР»СӢРө Р‘РөСҖРөРіР° РҡРҫРҪСӢСҲРөРІСҒРәРҫРіРҫ СҖайРҫРҪР° СғРҪРёСҮСӮРҫжила 4 РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»РөР№, РІ РёС… СҮРёСҒР»Рө РҪР°СҮалСҢРҪРёРәР° РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРҫРіРҫ РҝРҫРҙСҖазРҙРөР»РөРҪРёСҸ, СҖР°СҒРҝРҫР»РҫживСҲРөРіРҫСҒСҸ РІ СҒРөР»Рө15.
Р’ СҒРөРҪСӮСҸРұСҖРө 1942 Рі. РҫРҝРөСҖР°СӮРёРІРҪРҫР№ РіСҖСғРҝРҝРҫР№ 4-РіРҫ РҫСӮРҙРөла РқРҡР’Р” РҝРҫ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё РұСӢР» СҖР°СҒСҒСӮСҖРөР»СҸРҪ СҒСӮР°СҖСҲРёРҪР° ТагиРҪСҒРәРҫР№ РІРҫР»РҫСҒСӮРё РўСҖРҫСҒРҪСҸРҪСҒРәРҫРіРҫ СҖайРҫРҪР° Р“.Рҡ. РңР°РҪРҫС…РёРҪ. Р’ РөРіРҫ РҙРҫРјРө СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРәРё РқРҡР’Р” РёР·СҠСҸли СҒР»СғР¶РөРұРҪСӢРө РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮСӢ Рё РјРҪРҫРіРҫСҮРёСҒР»РөРҪРҪСӢРө РҝСҖРёРәазСӢ РҫРәРәСғРҝР°СҶРёРҫРҪРҪСӢС… влаСҒСӮРөР№. РЎ РұРҫР»СҢСҲРҫР№ РҙРҫСҒСӮРҫРІРөСҖРҪРҫСҒСӮСҢСҺ СҚСӮРҫ РҝРҫР·РІРҫлилРҫ СғСӮРҫСҮРҪРёСӮСҢ СҒСӮСҖСғРәСӮСғСҖСғ Р°РҙРјРёРҪРёСҒСӮСҖР°СӮРёРІРҪРҫРіРҫ СғРҝСҖавлРөРҪРёСҸ РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РҫРәРәСғРҝРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢС… СҖайРҫРҪРҫРІ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё, СҖРөРіСғР»СҸСҖРҪРҫСҒСӮСҢ РҝРҫСҒСӮавРҫРә РҝСҖРҫРҙРҫРІРҫР»СҢСҒСӮРІРёСҸ, СҒРҫРұРёСҖР°РөРјРҫРіРҫ Сғ РҪР°СҒРөР»РөРҪРёСҸ, Рё РҝРҫСҖСҸРҙРҫРә РҙРөР»РҫРҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙСҒСӮРІР°. Р’СҒРө захваСҮРөРҪРҪСӢРө РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮСӢ РұСӢли РҝРөСҖРөСҒлаРҪСӢ РІ СҲСӮР°РұСӢ Р‘СҖСҸРҪСҒРәРҫРіРҫ Рё Р’РҫСҖРҫРҪРөР¶СҒРәРҫРіРҫ С„СҖРҫРҪСӮРҫРІ16.
РһСҖРёРіРёРҪалСҢРҪСӢР№ СҒРҝРҫСҒРҫРұ СғСҒСӮСҖР°РҪРөРҪРёСҸ Р°РәСӮРёРІРҪРҫРіРҫ РҝРҫСҒРҫРұРҪРёРәР° фаСҲРёСҒСӮРҫРІ, РҪР°СҮалСҢРҪРёРәР° РҝРҫлиСҶРёРё ДмиСӮСҖРёРөРІСҒРәРҫРіРҫ СҖайРҫРҪР° Рҗ.Р—. Р“СҖРёРҙРёРҪР° РҝСҖРёРјРөРҪРёР»Рҫ РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёРө ДмиСӮСҖРёРөРІСҒРәРҫРіРҫ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° (РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖ вҖ“ Рң.Рң. РҹР»РҫСӮРҪРёРәРҫРІ) Рё РҫРҝРөСҖР°СӮРёРІРҪРҫ-СҖазвРөРҙСӢРІР°СӮРөР»СҢРҪР°СҸ РіСҖСғРҝРҝР° 4-РіРҫ РҫСӮРҙРөла РЈРқРҡР’Р” РҝРҫРҙ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫРј Р’.Рң. РҡазаРәРҫРІР°.
Р’ РІРҫСҒРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёСҸС… РұСӢРІСҲРөРіРҫ замРөСҒСӮРёСӮРөР»СҸ РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖР° 1-Р№ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫР№ РұСҖРёРіР°РҙСӢ РҝРҫ СҖазвРөРҙРәРө Рҗ.Рў. РңРҫСҒРәалРөРҪРәРҫ РҫСӮРјРөСҮалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ В«вҖҰРІ РҪРҫСҸРұСҖРө 1941 РіРҫРҙР° РёР· СҖазвРөРҙРәРё РҪРө РІРөСҖРҪСғР»СҒСҸ РҗРҪРҙСҖРөР№ Р“СҖРёРҙРёРҪ. РһРҪ РҙРөР·РөСҖСӮРёСҖРҫвал РёР· РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° Рё РҝРҫСҒСӮСғРҝРёР» РҪР° СҒР»СғР¶РұСғ Рә РіРёСӮР»РөСҖРҫРІСҶам. РҹРҫР»СғСҮРёРІ РҙРҫлжРҪРҫСҒСӮСҢ РҪР°СҮалСҢРҪРёРәР° СҖайРҫРҪРҪРҫР№ РҝРҫлиСҶРёРё, СҚСӮРҫСӮ РёСғРҙР° Р»РөР· РёР· РәРҫжи РІРҫРҪ, РҙР°РұСӢ РҙРҫРәазаСӮСҢ СҒРІРҫСҺ РҝСҖРөРҙР°РҪРҪРҫСҒСӮСҢ РҪРҫРІСӢРј С…РҫР·СҸРөвам. РҹРҫлиСҶРөР№СҒРәРёРө Р·Р°СҒР°РҙСӢ РҪР° РҝРөСҖРөРҝСҖавРө СҮРөСҖРөР· РЎРІР°РҝСғ Сғ РҙРөСҖРөРІРҪРё Р Р°СӮРјР°РҪРҫРІРҫ СҒСӮРҫили жизРҪРё РҙРөСҒСҸСӮРәам СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… СҒРҫР»РҙР°СӮ, РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ РІСӢРІРҫРҙили РёР· РҫРәСҖСғР¶РөРҪРёСҸвҖҰ Р—Р° СҒРІСҸР·СҢ СҒ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪами СҖР°СҒРҝСҖавам РҝРҫРҙРІРөСҖРіР»РҫСҒСҢ РҪР°СҒРөР»РөРҪРёРө Р»РөСҒРҪСӢС… РҝРҫСҒРөР»РәРҫРІ Р§РөРјРөСҖРәРё, РҹРҫРҙРІРҫР№РҪСӢР№, РһСҒРёРҪРҫРІСҒРәРёР№вҖҰ РҹСҖРөРҙР°СӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ Р“СҖРёРҙРёРҪР° РіСҖРҫР·РёР»Рҫ РіРёРұРөР»СҢСҺ РјРҪРҫРіРёРј СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёРј РҝР°СӮСҖРёРҫСӮам17. РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёР№ СҒСғРҙ РҝСҖРёРіРҫРІРҫСҖРёР» РёР·РјРөРҪРҪРёРәР° Рә СҒРјРөСҖСӮРё...В»18
РқРҫ РҫСӮРәСҖСӢСӮРҫ СғРҪРёСҮСӮРҫжиСӮСҢ РёР·РІРҫСҖРҫСӮливРҫРіРҫ РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»СҸ РҪРө РҝСҖРөРҙСҒСӮавлСҸР»РҫСҒСҢ РІРҫР·РјРҫР¶РҪСӢРј. РўРҫРіРҙР° РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёРө ДмиСӮСҖРёРөРІСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР°, СҒРҫглаСҒРҫвав РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ СҒ Р’.Рң. РҡазаРәРҫРІСӢРј, СҖРөСҲРёР»Рҫ РІР·СҸСӮСҢ РөРіРҫ С…РёСӮСҖРҫСҒСӮСҢСҺ. Р§РөСҖРөР· РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәСғСҺ СҖазвРөРҙСҮРёСҶСғ РЎ.Рҹ. ГлаРҙСӢСҲРөРІСғ РұСӢли РҝРөСҖРөСҒлаРҪСӢ В«РұлагРҫРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРө РҝРёСҒСҢма», Р°РҙСҖРөСҒРҫРІР°РҪРҪСӢРө Рҗ.Р—. Р“СҖРёРҙРёРҪСғ Р·Р° СҸРәРҫРұСӢ РҫРәазСӢРІР°РөРјСӢРө РҝРҫРјРҫСүСҢ Рё СҒРҫРҙРөР№СҒСӮРІРёРө РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪам Рё СҒРҫРҫРұСүРөРҪРҪСӢРө РёРј СҒРІРөРҙРөРҪРёСҸ Рҫ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәРө. РҹРёСҒСҢРјР°, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РұСӢли РҝРҫРҙРҝРёСҒР°РҪСӢ РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖРҫРј РҫСӮСҖСҸРҙР° Рң.Рң. РҹР»РҫСӮРҪРёРәРҫРІСӢРј, РЎ.Рҹ. ГлаРҙСӢСҲРөРІР° СҒРјРҫгла РҙРҫСҒСӮавиСӮСҢ РІ РҝСҖРёРөРјРҪСғСҺ РІРҫРөРҪРҪРҫР№ РәРҫРјРөРҪРҙР°СӮСғСҖСӢ ДмиСӮСҖРёРөРІР°.
Р’СҒРәРҫСҖРө РІ РәРҫРјРөРҪРҙР°СӮСғСҖСғ РұСӢла РҝРөСҖРөРҙР°РҪР° Рё СҒР»РөРҙСғСҺСүР°СҸ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәР°СҸ Р·Р°РҝРёСҒРәР°, Р°РҙСҖРөСҒРҫРІР°РҪРҪР°СҸ «гРҫСҒРҝРҫРҙРёРҪСғВ» Р“СҖРёРҙРёРҪСғ. Р’ РҪРөР№ СҒРҫРҙРөСҖжалРҫСҒСҢ РҝСҖРөРҙСғРҝСҖРөР¶РҙРөРҪРёРө Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РІ СҒР»СғСҮР°Рө РҝСҖРҫвала Р“СҖРёРҙРёРҪ РјРҫР¶РөСӮ СҖР°СҒСҒСҮРёСӮСӢРІР°СӮСҢ РҪР° РҝРҫРјРҫСүСҢ РҪР°СҖРҫРҙРҪСӢС… РјСҒСӮРёСӮРөР»РөР№. РҹРҫСҒР»Рө СҚСӮРҫРіРҫ Рҗ.Р—. Р“СҖРёРҙРёРҪ РұСӢР» Р°СҖРөСҒСӮРҫРІР°РҪ Рё РІСҒРәРҫСҖРө СҖР°СҒСҒСӮСҖРөР»СҸРҪ РіРёСӮР»РөСҖРҫРІСҶами.
Р’ СҒРҝРөСҶиалСҢРҪРҫРј СҒРҫРҫРұСүРөРҪРёРё Рҫ СҖР°СҒСҒСӮСҖРөР»Рө Рҗ. Р“СҖРёРҙРёРҪР° РҫРәРәСғРҝР°СҶРёРҫРҪРҪСӢРө влаСҒСӮРё ДмиСӮСҖРёРөРІСҒРәРҫРіРҫ СҖайРҫРҪР° РҫСӮРјРөСҮали, СҮСӮРҫ В«РҪР°СҮалСҢРҪРёРә РҝРҫлиСҶРёРё Р“СҖРёРҙРёРҪ РҪР°РәазаРҪ Р·Р° РҪРөР·Р°РәРҫРҪРҪРҫРө РҝСҖРёСҒРІРҫРөРҪРёРө СҮСғР¶РҫРіРҫ РёРјСғСүРөСҒСӮРІР° Рё РұРөСҒСҮРёРҪСҒСӮРІР° РҝРҫ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҺ Рә РҪР°СҒРөР»РөРҪРёСҺвҖҰВ»19
ЧаСҒСӮРҫ РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёРө РҝСҖРёРІР»РөРәалиСҒСҢ Рә РҪРөСҒРөРҪРёСҺ РәР°СҖР°СғР»СҢРҪРҫР№ СҒР»СғР¶РұСӢ, РҝРҫРјРҫгали РҫСӮСҖажаСӮСҢ РҪР°РҝР°РҙРөРҪРёСҸ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ РҪР° РіРөСҖРјР°РҪСҒРәРёРө РІРҫРёРҪСҒРәРёРө СҮР°СҒСӮРё. Р’РҝСҖРҫСҮРөРј, РҪРөСҖРөРҙРәРҫ СҒР»СғСҮалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ Рё СҒами РҪРөРјРөСҶРәРҫ-РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёРө РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪСӢ РҝРҫРҝР°Рҙали РҝРҫРҙ СғРҙР°СҖСӢ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРёС… РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёС… РҫСӮСҖСҸРҙРҫРІ.
16 РёСҺРҪСҸ 1942 Рі. СӮР°РәР°СҸ СғСҮР°СҒСӮСҢ РҝРҫСҒСӮигла РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёР№ РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪ РІ СҒР»РҫРұРҫРҙРө РңихайлРҫРІРәРө. РҹР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ РңихайлРҫРІСҒРәРҫРіРҫ Рё ДмиСӮСҖРёРөРІСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙРҫРІ Р·Р°СҖР°РҪРөРө РҝСҖРҫРІРөли СҖазвРөРҙРәСғ Рё СғСҒСӮР°РҪРҫвили СҮРёСҒР»РөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪР° (60вҖ“70 РіРёСӮР»РөСҖРҫРІСҶРөРІ Рё РҙРҫ 400 РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС…). РқР° РҫСҒРҪРҫРІР°РҪРёРё СҚСӮРёС… РҙР°РҪРҪСӢС… РұСӢР» СҒРҫСҒСӮавлРөРҪ РҝлаРҪ СғРҪРёСҮСӮРҫР¶РөРҪРёСҸ РңихайлРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪР°. ЕгРҫ СҖРөализаСҶРёСҸ РҪР°СҮалаСҒСҢ РҪРҫСҮСҢСҺ 16 РёСҺРҪСҸ 1942 Рі. РһРҙРёРҪРҫСҮРҪСӢРјРё РІСӢСҒСӮСҖРөлами РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ СҒРҪСҸли СҮР°СҒРҫРІСӢС…. ЗавСҸзалСҒСҸ Р¶РөСҒСӮРҫРәРёР№ РұРҫР№, РІ С…РҫРҙРө РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ РұСӢР» СғРұРёСӮ СҖСҸРҙ РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС…, РҫРәазСӢвавСҲРёС… СҒРҫРҝСҖРҫСӮРёРІР»РөРҪРёРө. РЎРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРәРё РҝРҫлиСҶРёРё Рё РіРёСӮР»РөСҖРҫРІСҶСӢ, СҖР°СҒРәРІР°СҖСӮРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢРө РІ Р·РҙР°РҪРёРё РұСӢРІСҲРөРіРҫ СҖайРәРҫРјР° РҝР°СҖСӮРёРё, РІСҒРө Р¶Рө РҫРәазали СғРҝРҫСҖРҪРҫРө СҒРҫРҝСҖРҫСӮРёРІР»РөРҪРёРө. РЈРәСҖСӢРІСҲРёСҒСҢ РҪР° РІСӮРҫСҖРҫРј СҚСӮажРө, РҫРҪРё РҙРҫ СғСӮСҖР° РІРөли РҫРіРҫРҪСҢ. РҳРјРөСҸ СҮРёСҒР»РөРҪРҪРҫРө РҝСҖРөРІРҫСҒС…РҫРҙСҒСӮРІРҫ, РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ СҒРјРҫгли РҝРҫРҙавиСӮСҢ СҚСӮРҫСӮ РҫСҮаг РІСҖажРөСҒРәРҫРіРҫ СҒРҫРҝСҖРҫСӮРёРІР»РөРҪРёСҸ. Р‘СӢР»Рҫ СғРұРёСӮРҫ РҙРҫ 100 РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС… Рё СҒРҫР»РҙР°СӮ РІРөСҖмахСӮР°, захваСҮРөРҪСӢ 18 РІРёРҪСӮРҫРІРҫРә Рё РҝСғР»РөРјРөСӮ. Р’ РҙРҫРҪРөСҒРөРҪРёРё РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ РҝРҫРҙСҮРөСҖРәивалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ РҪР°СҖРҫРҙРҪСӢРө РјСҒСӮРёСӮРөли РІСӢРІРөли РёР· СҒСӮСҖРҫСҸ РҫРұРҫСҖСғРҙРҫРІР°РҪРёРө РјРөСҒСӮРҪРҫРіРҫ РјР°СҒР»РҫзавРҫРҙР°, РұР°РҪРәР°, РёР·СҠСҸли РәСҖСғРҝРҪСӢРө СҒСғРјРјСӢ РҪРөРјРөСҶРәРёС… Рё СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… РҙРөРҪРөРі, РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮСӢ, РјРөРҙРёРәамРөРҪСӮСӢ Рё РҝСҖРҫРҙРҫРІРҫР»СҢСҒСӮРІРёРө20.
РҗРәСӮРёРІРҪСғСҺ РұРҫСҖСҢРұСғ СҒ РёР·РјРөРҪРҪРёРәами Р РҫРҙРёРҪСӢ РІРөли РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ ДмиСӮСҖРёРөРІСҒРәРҫРіРҫ Рё ДмиСӮСҖРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёС… РҫСӮСҖСҸРҙРҫРІ, РҙРөР№СҒСӮРІРҫвавСҲРёРө РІ СҒРөРІРөСҖРҫ-Р·Р°РҝР°РҙРҪСӢС… СҖайРҫРҪах РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё. РҹСҖРёРІРөРҙРөРј РІСӢРҙРөСҖР¶РәСғ РёР· РҙРҪРөРІРҪРёРәР° Р·Р° 1942 Рі. РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖР° ДмиСӮСҖРёРөРІСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° Рҳ.Рҳ. РЎРІРёСҖРёРҪР°: В«23 РјР°СҸ вҖ“ РІ РҹРөСҖРІРҫавгСғСҒСӮРҫРІСҒРәРҫРј РҝРҫСҒРөР»РәРө СғРұРёСӮ СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮР° Рё РҙРІР° РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС…. 12 РёСҺРҪСҸ вҖ“ РІ СҒРөР»Рө РҹРҫР»РҫР·РҫРІРәР° СғРұРёСӮРҫ 4 РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС…. 16 РёСҺРҪСҸ вҖ“ РІ Р‘РҫРіРҫСҒР»РҫРІРәРө СғРұРёСӮ СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮР°. 18 РёСҺРҪСҸ вҖ“ РҪалРөСӮ РҪР° РҡСғР·РҪРөСҶРҫРІРәСғ, СғРұРёСӮ РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёР№. 25 РёСҺРҪСҸ вҖ“ СҖазгСҖРҫРјР»РөРҪР° РҝРҫлиСҶРёСҸ РІ СҒ. РҡСғР·РҪРөСҶРҫРІРәР° Рё РҘР»РөРұСӮРҫРІРҫ. РЈРұРёСӮРҫ 11 РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС…. 3 РёСҺР»СҸ вҖ“ РІ РҙРөСҖ. Р РҫРјР°РҪРҫРІРҫ СғРҪРёСҮСӮРҫР¶РөРҪСӢ СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮР° Рё РҝРёСҒР°СҖСҢ. 19 РёСҺР»СҸ вҖ“ СғРҪРёСҮСӮРҫР¶РөРҪСӢ РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёР№ Рё РҪР°СҮалСҢРҪРёРә Р—РІРөРҪСҸСҮРөРҪСҒРәРҫР№ РҝРҫлиСҶРёРё. 21 РёСҺР»СҸ вҖ“ РІ СҒРөР»Рө РҹРҫРҝРҫРІРәРёРҪРҫ СғРұРёСӮРҫ РҙРІР° РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»СҸ. 22 РёСҺР»СҸ вҖ“ РІ Р”РөСҖСҺРіРёРҪРҫ СғРҪРёСҮСӮРҫР¶РөРҪРҫ 2 РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»СҸ. 27 РёСҺР»СҸ вҖ“ Р·Р°СҒР°РҙР° РҪР° РҝРҫлиСҶРёСҺ РІ СҒ. РҹалСҢСҶРөРІРҫ, СғРұРёСӮРҫ 12 РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС…В»21.
РўРҫР»СҢРәРҫ РІ СӮРөСҮРөРҪРёРө РҙРІСғС… Р»РөСӮРҪРёС… РјРөСҒСҸСҶРөРІ 1942 Рі. РҙРјРёСӮСҖРёРөРІСҒРәРёРө РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ СғРҪРёСҮСӮРҫжили 40 РёР·РјРөРҪРҪРёРәРҫРІ Р РҫРҙРёРҪСӢ. РӣСҺРұРҫРҝСӢСӮРҪСӢРө СҚРҝРёР·РҫРҙСӢ СғРҪРёСҮСӮРҫР¶РөРҪРёСҸ РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»СҸ-Р»РөСҒРҪРёРәР° РһРұлаСғС…РҫРІР°, РІСӢРҙавСҲРөРіРҫ фаСҲРёСҒСӮам РјРөСҒСӮРҫ СҒСӮРҫСҸРҪРәРё ДмиСӮСҖРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР°, СҒРҫРҙРөСҖжаСӮ РІРҫСҒРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёСҸ РұСӢРІСҲРөРіРҫ РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖР° РҫСӮСҖСҸРҙР° (СҒ авгСғСҒСӮР° 1942 Рі. вҖ“ РәРҫРјРёСҒСҒР°СҖР° 1-Р№ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫР№ РұСҖРёРіР°РҙСӢ) Рҗ.Р”. РӨРөРҙРҫСҒСҺСӮРәРёРҪР°.22
РЈР·РҪав РҫРұ РҫРұСҒСӮРҫСҸСӮРөР»СҢСҒСӮвах РіРёРұРөли СҖазвРөРҙСҮРёСҶСӢ Р’РөСҖСӢ РўРөСҖРөСүРөРҪРәРҫ, РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ СҖазвРөРҙСӢРІР°СӮРөР»СҢРҪРҫР№ РіСҖСғРҝРҝСӢ ДмиСӮСҖРёРөРІСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° Рҳ.Рқ. Р•СҖРјР°РәРҫРІ, Р•.Рҗ. РӣР°РәРөРөРІ Рё Рҗ.Рң. Р•РҪРёСҮРөРІ СҖРөСҲили СғРҪРёСҮСӮРҫжиСӮСҢ РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»РөР№. РқРҫСҮСҢСҺ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёРө СҖазвРөРҙСҮРёРәРё РҝСҖРёСҲли РІ РҙРҫРј Рә РҝРёСҒР°СҖСҺ БажРөРҪРҫРІСғ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№, РҫжиРҙР°СҸ РјРөСҒСӮРё РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ, СғРөхал РІ РҪРөРёР·РІРөСҒСӮРҪРҫРј РҪР°РҝСҖавлРөРҪРёРё. РЎСӮР°СҖРҫСҒСӮСғ РҝРҫСҒ. Р—РөР»РөРҪСӢР№ Гай Р‘СғСҲРҪРөРІР° РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ захваСӮили РҙРҫРјР°. РҹР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәР°СҸ СҖазвРөРҙРіСҖСғРҝРҝР° РҪР° СҒР°РҪСҸС… РІСӢРІРөзла РөРіРҫ РІ РөР»РҫРІСӢР№ Р»РөСҒ, РіРҙРө СҖР°СҒСҒСӮСҖРөР»СҸла. ЕмСғ РҪР° РіСҖСғРҙСҢ РҝСҖРёРәРҫР»Рҫли лиСҒСӮРҫРә РұСғмаги СҒРҫ СҒР»Рҫвами: В«РҳР·РјРөРҪРҪРёРә Р РҫРҙРёРҪСӢ. Р—Р° РҝРҫРҙР»РҫРө РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ Р’РөСҖСӢ РўРөСҖРөСүРөРҪРәРҫВ»23.
РўРҫР»СҢРәРҫ Р·Р° РҫРәСӮСҸРұСҖСҢ 1941 вҖ“ авгСғСҒСӮ 1942 РіРі. РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ ДмиСӮСҖРёРөРІСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° СғРҪРёСҮСӮРҫжили 26, Р° ДмиСӮСҖРҫРІСҒРәРҫРіРҫ вҖ“ 19 РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС…24. Р’СҒРөРіРҫ Р¶Рө Р·Р° СҚСӮРҫСӮ РҝРөСҖРёРҫРҙ РІ СҒРөРІРөСҖРҫ-Р·Р°РҝР°РҙРҪСӢС… СҖайРҫРҪах РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ РёСҒСӮСҖРөРұили 154 РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»СҸ Р РҫРҙРёРҪСӢ25.
РҹРөСҖРІСӢР№ СҒРөРәСҖРөСӮР°СҖСҢ РҡСғСҖСҒРәРҫРіРҫ РҫРұРәРҫРјР° Рҹ.Рҳ. Р”РҫСҖРҫРҪРёРҪ, РІСӢСҒСӮСғРҝР°СҸ СҒ РҙРҫРәлаРҙРҫРј РҪР° X РҝР»РөРҪСғРјРө РҫРұРәРҫРјР° Р’РҡРҹ(Рұ) (Р°РҝСҖРөР»СҢ 1943 Рі.), РҫСӮРјРөСӮРёР», СҮСӮРҫ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪами РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё Р·Р° 1941вҖ“1943 РіРі. РұСӢР»Рҫ СғРҪРёСҮСӮРҫР¶РөРҪРҫ 1511 РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС… Рё СҖазлиСҮРҪСӢС… РҝРҫСҒРҫРұРҪРёРәРҫРІ фаСҲРёСҒСӮРҫРІ26.
Р’РөСӮРөСҖР°РҪ 37-Р№ РіРІР°СҖРҙРөР№СҒРәРҫР№ СҒСӮСҖРөР»РәРҫРІРҫР№ РҙРёРІРёР·РёРё Р“.Рң. Р РҫРіРҫРІРҫР№ СӮР°Рә РҫРҝРёСҒСӢвал СҒРёСӮСғР°СҶРёСҺ, СҒР»РҫживСҲСғСҺСҒСҸ РҪР° СҒРөРІРөСҖРҫ-Р·Р°РҝР°РҙРө СҖРөРіРёРҫРҪР° Р·РёРјРҫР№ 1943 Рі.: «В РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё РұСӢР»Рҫ СӮР°Рә: РҫРҙРҪР° РҙРөСҖРөРІРҪСҸ РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәР°СҸ, РіРҙРө РІСҒРө РјСғР¶СҮРёРҪСӢ СҒР»Сғжили РІ РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ РҝРҫлиСҶРёРё Рё Рҝалили РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ, Р° РҙСҖСғРіР°СҸ вҖ“ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәР°СҸ. Р’ СӮР°РәРёС… РҙРөСҖРөРІРҪСҸС…вҖҰ РІСҒРө РұСӢР»Рҫ СҒРҫжжРөРҪРҫ РҝРҫлиСҶР°СҸРјРё. РңРөСҒСӮРҪСӢРө жиСӮРөли РұСӢли СҖазРҙРөР»РөРҪСӢ РҪР° РҝРҫлиСҶР°РөРІ Рё РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ РҝРҫСҮСӮРё РҝРҫСҖРҫРІРҪСғ. РһРҪРё РҙСҖСғРі РҙСҖСғРіР° РҪРөРҪавиРҙРөли РұРҫР»СҢСҲРө, СҮРөРј РјСӢ РҪРөРјСҶРөРІВ»27.
РЎРҫРІРөСҖСҲР°СҸ СҖР°СҒРҝСҖавСӢ РҪР°Рҙ СҒРөРјСҢСҸРјРё РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС…, РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ С…РҫСӮРөли Р·Р°СҒСӮавиСӮСҢ СҒСӮСҖажРөР№ РҝРҫСҖСҸРҙРәР° РұСҖРҫСҒРёСӮСҢ СҒР»СғР¶РұСғ. РўСҖСғРҙРҪРөРө РұСӢР»Рҫ РҝСҖРёРҪСғРҙРёСӮСҢ Рә СҚСӮРҫРјСғ жиСӮРөР»РөР№ СҒРөР» Рё РҙРөСҖРөРІРөРҪСҢ, РіРҙРө РІ РҝРҫлиСҶРёРё СҒРҫСҒСӮРҫСҸли РІСҒРө РјСғР¶СҮРёРҪСӢ. РўРҫРіРҙР° РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёРө РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёС… РҫСӮСҖСҸРҙРҫРІ СҒСӮР°СҖалРҫСҒСҢ РҪР°РәазаСӮСҢ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС…, РҪРҫ РІСҒРөС… РіСҖажРҙР°РҪ, РҝСҖРҫживавСҲРёС… СӮам.
РҡРҫРјР°РҪРҙРҪСӢРј СҒРҫСҒСӮавРҫРј РҫСӮСҖСҸРҙРҫРІ Рё РҫСҖРіР°РҪами РәРҫРҪСӮСҖСҖазвРөРҙРәРё РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёС… Р·РҫРҪ СӮР°РәР¶Рө РІРөлаСҒСҢ СҖР°РұРҫСӮР° РҝРҫ РІСӢСҸРІР»РөРҪРёСҺ агРөРҪСӮРҫРІ РҪРөРјРөСҶРәРёС… СҒРҝРөСҶСҒР»СғР¶Рұ, СӮайРҪРҫ РІРҪРөРҙСҖРөРҪРҪСӢС… РІ СҒРҫСҒСӮав РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёС… РҫСӮСҖСҸРҙРҫРІ. 8 авгСғСҒСӮР° 1942 Рі. РІ РҙРҫРәлаРҙРҪРҫР№ Р·Р°РҝРёСҒРәРө РҪР°СҮалСҢРҪРёРәР° СҲСӮР°РұР° РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҙРІРёР¶РөРҪРёСҸ РҪР° Р‘СҖСҸРҪСҒРәРҫРј С„СҖРҫРҪСӮРө Рҗ.Рҹ. РңР°СӮРІРөРөРІР° Рҫ СҖР°РұРҫСӮРө РҫРҝРөСҖР°СӮРёРІРҪРҫСҮРөРәРёСҒСӮСҒРәРёС… РіСҖСғРҝРҝ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёС… РҫСӮСҖСҸРҙРҫРІ РҫСӮРјРөСҮалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ 28 РёСҺР»СҸ 1942 Рі. РұСӢР» СҖР°СҒСҒСӮСҖРөР»СҸРҪ агРөРҪСӮ РіРөСҖРјР°РҪСҒРәРёС… СҒРҝРөСҶСҒР»СғР¶Рұ, СғСҖРҫР¶РөРҪРөСҶ СҒ. РҳР·РҪРҫСҒРәРҫРІРҫ РӣСҢРіРҫРІСҒРәРҫРіРҫ СҖайРҫРҪР° РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё Рҳ.Рң. РңР°РәСҒРёРјРөРҪРәРҫ. РһРҪ РІ СҒРҫСҒСӮавРө РіСҖСғРҝРҝСӢ РёР·РјРөРҪРҪРёРәРҫРІ Р РҫРҙРёРҪСӢ, РІСҒСӮСғРҝРёР» РІ РҘР°СҖСҢРәРҫРІСҒРәРёР№ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёР№ РҫСӮСҖСҸРҙ. РҹСҖРҫРұСӢРІ РІ РҫСӮСҖСҸРҙРө 7 РҙРҪРөР№, захРҫСӮРөР» СҒРұРөжаСӮСҢ, СҮСӮРҫРұСӢ РІРҪРҫРІСҢ РІРҫР·РІСҖР°СӮРёСӮСҢСҒСҸ Рә РІСҖагСғ. РқРҫ СҮРөСҖРөР· РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәСғСҺ агРөРҪСӮСғСҖСғ РұСӢли РІСӢСҸРІР»РөРҪ Рё Р·Р°РҙРөСҖжаРҪ28.
РҹР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ Рё РҝРҫРҙРҝРҫР»СҢСүРёРәРё РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪРҫ РІРөли РәРҫРҪСӮСҖРҝСҖРҫРҝагаРҪРҙРёСҒСӮСҒРәСғСҺ СҖР°РұРҫСӮСғ: РёРјРё РҝСҖР°РәСӮРёРәРҫвалаСҒСҢ Р·Р°СҒСӢР»РәР° СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… лиСҒСӮРҫРІРҫРә Рё РҙСҖСғРіРҫР№ РҝСҖРҫРҝагаРҪРҙРёСҒСӮСҒРәРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСӢ РІ РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёРө РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪСӢ Рё РҙРҫРұСҖРҫРІРҫР»СҢСҮРөСҒРәРёРө СҮР°СҒСӮРё. РҹСҖРҫРҝагаРҪРҙРёСҒСӮСҒРәР°СҸ РІРҫР№РҪР° РҝСҖРҫСӮРёРІ РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС… РІРөлаСҒСҢ Рё РёР·РҫРұСҖазиСӮРөР»СҢРҪСӢРјРё СҒСҖРөРҙСҒСӮвами. РўР°Рә, Рқ.РЎ. РҳСҒР°РөРІ, РІРҫРөвавСҲРёР№ РҪР° Р‘СҖСҸРҪСүРёРҪРө РІ СҒРҫСҒСӮавРө 2-Р№ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫР№ РұСҖРёРіР°РҙСӢ, РІСҒРҝРҫРјРёРҪал: В«РңСӢ лиСҒСӮРҫРІРәРё завРөСҖСӮСӢвали РәСғСҒРҫСҮРәами СҶРІРөСӮРҪРҫР№ РјР°СӮРөСҖРёРё, СҮСӮРҫРұСӢ РҫРҪРё РҝСҖРёРІР»РөРәали РІРҪРёРјР°РҪРёРө, Рё РҝРҫРҙРұСҖР°СҒСӢвали РҪР° РұазаСҖРҪРҫР№ РҝР»РҫСүР°РҙРёвҖҰ РһРҙРҪажРҙСӢ РјРҫР»РҫРҙСӢРө РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ РёР·РҫРұСҖазили РҪР° лиСҒСӮРҫРІРәРө РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРҫРіРҫ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ С„СҖРёСҶСғ лижРөСӮ Р·Р°Рҙ. Р РөРұСҸСӮР° СғС…РёСӮСҖилиСҒСҢ РҝСҖРёР»РөРҝРёСӮСҢ РөРө РҪР° СҒРҝРёРҪСғ РҫРҙРҪРҫРіРҫ СҒР»СғжаРәРё. РўРҫСӮ СҲРөР» СҒ РҪРөР№ РҝРҫ РІСҒРөРјСғ СҒРөР»Сғ, Р° РІСҒР»РөРҙ СҖазРҙавалСҒСҸ РҙСҖСғР¶РҪСӢР№ СҒРјРөС…В»29.
РӣСҺРұРҫРҝСӢСӮРҪРҫ, СҮСӮРҫ лиСҒСӮРҫРІРәРё СҒ РәР°СҖРёРәР°СӮСғСҖами Р°РҪалРҫРіРёСҮРҪРҫРіРҫ СҒРҫРҙРөСҖжаРҪРёСҸ СҖР°СҒРҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҸлиСҒСҢ РІРҫ РјРҪРҫРіРёС… СҖайРҫРҪах. РҡР°Рә РҫСӮРјРөСҮР°РөСӮ РёСҒСӮРҫСҖРёРә Р‘.Рқ. РҡРҫвалРөРІ, РІРҫ РІСҖажРөСҒРәРҫРј СӮСӢР»Сғ В«СҖР°РұРҫСӮР° РІРөлаСҒСҢ РҝРҫ РҙРІСғРј РҫСҒРҪРҫРІРҪСӢРј РҪР°РҝСҖавлРөРҪРёСҸРј: РҝСҖРҫРәламаСҶРёРё, СҖР°СҒСҒСҮРёСӮР°РҪРҪСӢРө РҪР° РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС…, Рё РҝСҖРҫРәламаСҶРёРё, РҝСҖРөРҙРҪазРҪР°СҮРөРҪРҪСӢРө Р»РөРіРёРҫРҪРөСҖам Рё влаСҒРҫРІСҶам». РңР°СӮРөСҖиалСӢ, Р°РҙСҖРөСҒРҫРІР°РҪРҪСӢРө РҝСҖРөРҙСҒСӮавиСӮРөР»СҸРј СҒР»СғР¶РұСӢ РҝРҫСҖСҸРҙРәР°, РҝРҫ СҒР»Рҫвам РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҸ, РұСӢли РјРөРҪРөРө СӮРёСҖажРҪСӢРјРё, РёРҪРҫРіРҙР° РҝРёСҒалиСҒСҢ РҫСӮ СҖСғРәРё, СҮР°СүРө РІСҒРөРіРҫ СҒРҫРҙРөСҖжали РҫРұСҖР°СүРөРҪРёРө Рә жиСӮРөР»СҸРј РәРҫРҪРәСҖРөСӮРҪСӢС… РҙРөСҖРөРІРөРҪСҢ.
РўР°Рә, РІ С„РөРІСҖалРө 1943 Рі. РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәР°СҸ газРөСӮР° В«РқР°СҖРҫРҙРҪСӢР№ РјСҒСӮРёСӮРөР»СҢВ» РҫРҝСғРұлиРәРҫвала РҫРұСҖР°СүРөРҪРёРө ДмиСӮСҖРёРөРІСҒРәРҫРіРҫ РҫРәСҖСғР¶РәРҫРјР° Р’РҡРҹ(Рұ) Рә РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёРј, СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮам Рё СҒСӮР°СҖСҲРёРҪам СҒ РҝСҖРёР·СӢРІРҫРј РҝРөСҖРөС…РҫРҙРёСӮСҢ РҪР° СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ Рё СғРҪРёСҮСӮРҫжаСӮСҢ РҪРөРјРөСҶРәРёС… захваСӮСҮРёРәРҫРІ30.
РҳСҒСӮРҫСҖРёРә РЎ.Рҗ. РқРёРәРёС„РҫСҖРҫРІ РІ РҫРҙРҪРҫР№ РёР· РјРҫРҪРҫРіСҖафий РҫСӮРјРөСҮР°РөСӮ, СҮСӮРҫ В«СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёСҮРөСҒСӮРІРҫ СҒ РҫРәРәСғРҝР°РҪСӮами РІ глазах СғСҮР°СҒСӮРҪРёРәРҫРІ Р°РҪСӮифаСҲРёСҒСӮСҒРәРҫРіРҫ СҒРҫРҝСҖРҫСӮРёРІР»РөРҪРёСҸ, РәР°Рә РҝСҖавилРҫ, РҪРө РҙРөлалРҫ СҮРөР»РҫРІРөРәР° «вРөСҮРҪСӢРјВ» СҒРҫСҺР·РҪРёРәРҫРј фаСҲРёСҒСӮРҫРІ. РқР°РҝСҖРҫСӮРёРІ, РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ Рё РҝРҫРҙРҝРҫР»СҢСүРёРәРё, СҒСҖажавСҲРёРөСҒСҸ РІ РҪРөРјРөСҶРәРҫРј СӮСӢР»Сғ, РҫСҒСӮавлСҸли РіСҖажРҙР°РҪам, РҝСҖРёРІР»РөСҮРөРҪРҪСӢРј РҪР° СҒР»СғР¶РұСғ Рә РҪРөРјСҶам, РҝСҖавРҫ РІРөСҖРҪСғСӮСҢСҒСҸ. РўР°РәСғСҺ РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ СӮРөСҖСҸли СӮРҫР»СҢРәРҫ СӮРө, РәСӮРҫ лиСҮРҪРҫ СғСҮР°СҒСӮРІРҫвал РІ РәазРҪСҸС… или СҸРІР»СҸР»СҒСҸ агРөРҪСӮРҫРј РҪРөРјРөСҶРәРёС… СҒРҝРөСҶСҒР»СғР¶Рұ. РЈСҒРҝРөС…Рё СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… РІРҫР№СҒРә РҪР° С„СҖРҫРҪСӮРө РҝСҖРёРІРҫРҙили Рә СӮРҫРјСғ, СҮСӮРҫ РәРҫллаРұРҫСҖР°СҶРёРҫРҪРёСҒСӮСӢ РҫСҒСӮСҖРҫ РҫСүСғСүали РјРҫСҖалСҢРҪСғСҺ Рё СҺСҖРёРҙРёСҮРөСҒРәСғСҺ РҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ Рё РёСҒРәали РІСӢС…РҫРҙ РёР· РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёСҸвҖҰВ»31
17 РҪРҫСҸРұСҖСҸ 1942 Рі. РІ Р°РҙСҖРөСҒ РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖР° РҫРұСҠРөРҙРёРҪРөРҪРҪСӢС… РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёС… РҫСӮСҖСҸРҙРҫРІ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё Рҳ.Рҡ. РҹР°РҪСҮРөРҪРәРҫ РұСӢла РҪР°РҝСҖавлРөРҪР° СҒРҝРөСҶиалСҢРҪР°СҸ РҙРёСҖРөРәСӮРёРІР° СҲСӮР°РұР° РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҙРІРёР¶РөРҪРёСҸ РҪР° Р‘СҖСҸРҪСҒРәРҫРј С„СҖРҫРҪСӮРө СҒ СҶРөР»СҢСҺ СғСҒРёР»РөРҪРёСҸ СҖР°РұРҫСӮСӢ РҝРҫ СҖазлРҫР¶РөРҪРёСҺ В«РҙРҫРұСҖРҫРІРҫР»СҢСҮРөСҒРәРёС…В» Р°РҪСӮРёСҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… С„РҫСҖРјРёСҖРҫРІР°РҪРёР№ РІ СӮСӢР»Сғ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәР°. Р’ РҪРөР№, РІ СҮР°СҒСӮРҪРҫСҒСӮРё, СғРәазСӢвалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ РәажРҙРҫРјСғ РҝРөСҖРөРұРөР¶СҮРёРәСғ РҪР° СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫ РҝСҖРөРҙРҫСҒСӮавлСҸСӮСҢ РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ РёСҒРәСғРҝРёСӮСҢ РІРёРҪСғ СғСҮР°СҒСӮРёРөРј РІ РұРҫСҖСҢРұРө Р·Р° РҫСҒРІРҫРұРҫР¶РҙРөРҪРёРө Р РҫРҙРёРҪСӢ, РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёРІ Р·Р° РҪРёРј РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪРҫРө РҪР°РұР»СҺРҙРөРҪРёРө. РһСӮ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ СӮСҖРөРұРҫвалРҫСҒСҢ РұРөСҒРҝРҫСүР°РҙРҪРҫ РёСҒСӮСҖРөРұР»СҸСӮСҢ или захваСӮСӢРІР°СӮСҢ РІ РҝР»РөРҪ РҫСҖРіР°РҪРёР·Р°СӮРҫСҖРҫРІ Рё РҝСҖРҫСҸРІР»СҸСҺСүРёС… Р°РәСӮРёРІРҪРҫСҒСӮСҢ РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖРҫРІ РәР°СҖР°СӮРөР»СҢРҪСӢС… РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС… РҫСӮСҖСҸРҙРҫРІ. Р’ РҝРөСҖРІСғСҺ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ РҝРҫРҙРІРөСҖРіР°СӮСҢ СғРҪРёСҮСӮРҫР¶РөРҪРёСҺ РұРөР»РҫРіРІР°СҖРҙРөР№СҶРөРІ, СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёСҮР°СҺСүРёС… СҒ РҫРәРәСғРҝР°РҪСӮами32.
РЎРҝРөСҶифиСҮРөСҒРәРҫР№ С„РҫСҖРјРҫР№ Р°РҪСӮифаСҲРёСҒСӮСҒРәРҫР№ РұРҫСҖСҢРұСӢ РұСӢла РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ РҝРҫ СҖазлРҫР¶РөРҪРёСҺ РјРҪРҫРіРёС… РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС… РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪРҫРІ. РһСҒРҫРұРөРҪРҪРҫ РҫРҪР° Р°РәСӮРёРІРёР·РёСҖРҫвалаСҒСҢ РҝРҫСҒР»Рө РҝРҫСҖажРөРҪРёР№, РҝРҫРҪРөСҒРөРҪРҪСӢС… РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәРҫРј РІ СҖайРҫРҪРө РЎСӮалиРҪРіСҖР°РҙР°. 11 РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС… РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪРҫРІ РҡСҖСғРҝРөСҶРәРҫРіРҫ, ГлСғСҲРәРҫРІСҒРәРҫРіРҫ, РҡРҫРҪСӢСҲРөРІСҒРәРҫРіРҫ, Р СӢР»СҢСҒРәРҫРіРҫ СҖайРҫРҪРҫРІ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё РҝРөСҖРөСҲли СҒ РҫСҖСғжиРөРј РІ СҖСғРәах РҪР° СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ. РҳР· РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС… РҡРҫРҪСӢСҲРөРІСҒРәРҫРіРҫ СҖайРҫРҪР° РұСӢР» РҙажРө СҒРҫР·РҙР°РҪ 2-Р№ РҡРҫРҪСӢСҲРөРІСҒРәРёР№ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёР№ РҫСӮСҖСҸРҙ. РһРҪ РІРөР» РұРҫРё СҒ РҪРөРјРөСҶРәРёРјРё РІРҫР№СҒРәами. Р’ РҫСҮРөСҖРөРҙРҪРҫР№ РҫРҝРөСҖСҒРІРҫРҙРәРө СҲСӮР°РұР° РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° РёРј. Р’РҫСҖРҫСҲРёР»РҫРІР° в„– 2 РҫСӮ 25 С„РөРІСҖалСҸ 1943 Рі. СҒРҫРҫРұСүалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ «в СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРө РҝСҖРҫРІРөРҙРөРҪРҪРҫР№ СҖР°РұРҫСӮСӢ РІ РҘРҫРјСғСӮРҫРІСҒРәРҫРј, РҡРҫРҪСӢСҲРөРІСҒРәРҫРј, ДмиСӮСҖРёРөРІСҒРәРҫРј СҖайРҫРҪах РҝРҫлиСҶРёСҸ РІРҫ главРө СҒ РҪР°СҮалСҢРҪРёРәРҫРј РҝРҫР»РөРІРҫР№ жаРҪРҙР°СҖРјРөСҖРёРё Р•.Рң. РҹСғСҲРәР°СҖРөРІСӢРј РІ РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІРө 230 СҮРөР»РҫРІРөРә РҝРөСҖРөСҲла РҪР° СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ. РҡРҫРјР°РҪРҙРёСҖ РұР°СӮалСҢРҫРҪР° Р»РөР№СӮРөРҪР°РҪСӮ РҗР·Р°СҖСҸРҪ РёР· РІСҒРөР№ РҝРҫлиСҶРёРё РҫСӮРҫРұСҖал 70 СҮРөР»РҫРІРөРәвҖҰ Рё СҒРҫР·Рҙал РҫРҝРөСҖР°СӮРёРІРҪСғСҺ РіСҖСғРҝРҝСғВ»33. 10 РјР°СҖСӮР° 1943 Рі. лиСҮРҪСӢР№ СҒРҫСҒСӮав СҚСӮРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° РІРҫСҲРөР» РІ СҒРҫСҒСӮав 132-Р№ СҒСӮСҖРөР»РәРҫРІРҫР№ РҙРёРІРёР·РёРё. РҳР· СҒР»СғжаСүРёС… РёРІР°РҪРҫРІСҒРәРҫР№ РҝРҫлиСҶРёРё Р СӢР»СҢСҒРәРҫРіРҫ СҖайРҫРҪР° РұСӢР» РҫРұСҖазРҫРІР°РҪ 2-Р№ РҳРІР°РҪРҫРІСҒРәРёР№ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёР№ РҫСӮСҖСҸРҙ, РҪРө РҝСҖРёРҪимавСҲРёР№, РҝСҖавРҙР°, СғСҮР°СҒСӮРёСҸ РІ РұРҫРөРІСӢС… РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸС…. РҹРҫ РҙР°РҪРҪСӢРј СҲСӮР°РұР° 1-Р№ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РұСҖРёРіР°РҙСӢ РІ РңихайлРҫРІСҒРәРҫРј СҖайРҫРҪРө РІ СҒРөСҖРөРҙРёРҪРө С„РөРІСҖалСҸ РҪР° РёС… СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ РҝРөСҖРөСҲРөР» РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёР№ РҝРҫР»Рә34. РЎРҫглаСҒРҪРҫ СғСӮРІРөСҖР¶РҙРөРҪРёСҺ РҪР°СҮалСҢРҪРёРәР° РҰРЁРҹР” Рҹ.Рҡ. РҹРҫРҪРҫРјР°СҖРөРҪРәРҫ, Рә СҮР°СҒСӮСҸРј 132-Р№ СҒСӮСҖРөР»РәРҫРІРҫР№ РҙРёРІРёР·РёРё РІ СҖайРҫРҪРө ДмиСӮСҖРёРөРІР° РҝРөСҖРөСҲли РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РіСҖСғРҝРҝ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРҪРҫР№ РҝРҫлиСҶРёРё. РҳР· РҪРёС… РұСӢли СҒС„РҫСҖРјРёСҖРҫРІР°РҪСӢ РҫСӮРҙРөР»СҢРҪСӢРө РҝРҫРҙСҖазРҙРөР»РөРҪРёСҸ РҙР»СҸ РұРҫСҖСҢРұСӢ СҒ фаСҲРёСҒСӮами35.
РЎР»СғСҮаи РҝРөСҖРөС…РҫРҙР° РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС… РҪР° СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ РұСӢли РҪРө СҖРөРҙРәРё. Р’РҝСҖРҫСҮРөРј, СҚСӮРҫ РҫРұСҒСӮРҫСҸСӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ, РәР°Рә РҝСҖавилРҫ, РҪРө СҒРҝР°СҒалРҫ РұСӢРІСҲРёС… СҒСӮСҖажРөР№ РҫРәРәСғРҝР°СҶРёРҫРҪРҪРҫРіРҫ РҝРҫСҖСҸРҙРәР° РҫСӮ РҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРөРҪРҪРҫСҒСӮРё Р·Р° СҒРҫРІРөСҖСҲРөРҪРҪРҫРө РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ.
РҡР°Рә РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ, РҝРҫРҙРҙРөСҖР¶РәР° В«РҪРҫРІРҫРіРҫ РҝРҫСҖСҸРҙРәа» Р°РҪСӮРёСҒРҫРІРөСӮСҒРәРёРјРё Рё РҪР°СҶРёРҫРҪалиСҒСӮРёСҮРөСҒРәРёРјРё СҚР»РөРјРөРҪСӮами, Р°РәСӮРёРІРҪРҫРө РёС… СғСҮР°СҒСӮРёРө РІ РұРҫСҖСҢРұРө СҒ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪами Рё РҝРҫРҙРҝРҫР»СҢСүРёРәами РҫСҮРөРҪСҢ РұРҫР»РөР·РҪРөРҪРҪРҫ РІРҫСҒРҝСҖРёРҪималаСҒСҢ РІСӢСҒСҲРёРј СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫРј СҒСӮСҖР°РҪСӢ Рё СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёРјРё РҝР°СӮСҖРёРҫСӮами. РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ РұРөР· СҒСғРҙР° Рё СҒР»РөРҙСҒСӮРІРёСҸ СҖР°СҒСҒСӮСҖРөливали РұСӢРІСҲРёС… СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… милиСҶРёРҫРҪРөСҖРҫРІ, СҒР»СғживСҲРёС… РІ РҝРҫлиСҶРёРё. РЎР»РөРҙСғРөСӮ РҫСӮРјРөСӮРёСӮСҢ, СҮСӮРҫ РҙажРө РІСҒСӮСғРҝРёРІ РІ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёР№ РҫСӮСҖСҸРҙ, РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёРө, СҖРөСҲРёРІСҲРёРө РҝРҫРәР°СҸСӮСҢСҒСҸ РҝРөСҖРөРҙ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёРј РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРҫРј, РҪРө РҝРҫР»СҢР·РҫвалиСҒСҢ РҪРёРәР°РәРёРј СғважРөРҪРёРөРј, Рё РҝРҫСҒР»Рө РІРҫР№РҪСӢ РјРҪРҫРіРёРө РёР· РҪРёС… РұСӢли Р°СҖРөСҒСӮРҫРІР°РҪСӢ РҫСҖРіР°РҪами РіРҫСҒРұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё. ЧаСҒСӮРҫ РҝСҖРёСҮРёРҪРҫР№ РұСӢР»Рҫ РҪРөРҙРҫРІРөСҖРёРө РҝРҫ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҺ Рә РұСӢРІСҲРёРј РәРҫллаРұРҫСҖР°СҶРёРҫРҪРёСҒСӮам, РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РҝРҫРҙРҫР·СҖРөвали РІ СҲРҝРёРҫРҪажРө или РҙРІРҫР№РҪРҫР№ РёРіСҖРө.
4-Р№ РҫСӮРҙРөР» РЈРқРҡР’Р”вҖ“РқРҡГБ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё РІ РҝРөСҖРёРҫРҙ РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё СҒ РјР°СҖСӮР° РҝРҫ РҙРөРәР°РұСҖСҢ 1943 Рі. РҫСҒСғСүРөСҒСӮРІР»СҸР» Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪСӢР№ РҫРұСҠРөРј СҖР°РұРҫСӮ РҝРҫ РҝРҫРҙРіРҫСӮРҫРІРәРө СҖРөР·РёРҙРөРҪСӮСғСҖСӢ РІ РҝСҖРёР»РөРіР°СҺСүРёС… Рә С„СҖРҫРҪСӮСғ СҖайРҫРҪах РҫРұлаСҒСӮРё. РўР°РәР°СҸ РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ Р°РәСӮРёРІРёР·РёСҖРҫвалаСҒСҢ РІ С…РҫРҙРө РҝРҫРҙРіРҫСӮРҫРІРәРё Рё РҝСҖРҫРІРөРҙРөРҪРёСҸ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РұРёСӮРІСӢ. Р’ авгСғСҒСӮРө 1943 Рі. РІ СӮСӢР» РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәР° РұСӢла Р·Р°РұСҖРҫСҲРөРҪР° РҫРҝРөСҖР°СӮРёРІРҪР°СҸ РіСҖСғРҝРҝР° 4-РіРҫ РҫСӮРҙРөР»РөРҪРёСҸ РЈРқРҡГБ РІ СҒРҫСҒСӮавРө СҒСӮР°СҖСҲРөРіРҫ Р»РөР№СӮРөРҪР°РҪСӮР° РіРҫСҒРұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё Рӣ.Р’. ЕгРҫСҖРҫРІР°, Р»РөР№СӮРөРҪР°РҪСӮР° Рҡ.Рҳ. РҡРҫРҝСӮРөРІР° Рё СҖР°РҙРёСҒСӮР° Рӣ.Рӣ. РҡРҫР»РөСҒРҪРёСҮРөРҪРәРҫ36. РЎ РҝРҫРјРҫСүСҢСҺ жиСӮРөР»СҢРҪРёСҶСӢ РЎСғР·РөРјСҒРәРҫРіРҫ СҖайРҫРҪР° РһСҖР»РҫРІСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё Рң.Рў. РЎСӮР°СҖРҫСҒСӮРёРҪРҫР№ РёРј СғРҙалРҫСҒСҢ РІСӢР№СӮРё РҪР° СҒРІСҸР·СҢ СҒ СҒРҫР»РҙР°СӮами РұР°СӮалСҢРҫРҪР° Р РһРҗ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҪахРҫРҙРёР»СҒСҸ РҪР° РҫС…СҖР°РҪРө лагРөСҖСҸ РіСҖажРҙР°РҪСҒРәРёС… лиСҶ РІ СҒРөР»Рө РЎРөСҖРөРҙРёРҪР° Р‘СғРҙР° РЎСғРјСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё37. РҡСғСҖСҒРәРёРө СҮРөРәРёСҒСӮСӢ, РұазиСҖСғСҸСҒСҢ РІ Р·РҫРҪРө РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫР№ РұСҖРёРіР°РҙСӢ РёРј. РӨСҖСғРҪР·Рө, СҒРјРҫгли СҒагиСӮРёСҖРҫРІР°СӮСҢ РІРҫРөРҪРҪРҫСҒР»СғжаСүРёС… РёР· РұР°СӮалСҢРҫРҪР° Р РһРҗ. РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ 30 авгСғСҒСӮР° 1943 Рі. 132 СҒРҫР»РҙР°СӮР° Р РһРҗ, РІРҫзглавлСҸРөРјСӢРө РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖРҫРј РҫСӮРҙРөР»РөРҪРёСҸ Рң. ДиРҙРөР»РөРІСӢРј, РҝРҫРәРёРҪСғли РҫС…СҖР°РҪСғ лагРөСҖСҸ Рё РҝСҖРёРұСӢли РІ СҖР°СҒРҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёРө РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° «БРҫР»СҢСҲРөРІРёРәВ». 1 СҒРөРҪСӮСҸРұСҖСҸ 1943 Рі. СҮР°СҒСӮСҢ РІРҫРөРҪРҪРҫСҒР»СғжаСүРёС… Р РһРҗ, РҝРөСҖРөСҲРөРҙСҲРёС… РҪР° СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ, РҝСҖРёРҪСҸла СғСҮР°СҒСӮРёРө РІ РҪР°РҝР°РҙРөРҪРёРё РҪР° РҪРөРјРөСҶРәРёР№ авСӮРҫРјРҫРұРёР»СҢРҪСӢР№ РәРҫРҪРІРҫР№, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ СҒРҫРҝСҖРҫРІРҫР¶Рҙал РІСӢСҒРҫРәРёРө РҙРҫлжРҪРҫСҒСӮРҪСӢРө лиСҶР° РҫРәРәСғРҝР°СҶРёРҫРҪРҪРҫР№ Р°РҙРјРёРҪРёСҒСӮСҖР°СҶРёРё.
РҡР°Рә СғРәазСӢвал РІ РҙРҫРәлаРҙРҪРҫР№ Р·Р°РҝРёСҒРәРө СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІСғ РқРҡГБ РҪР°СҮалСҢРҪРёРә РЈРқРҡР’Р” РҝРҫ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё РҝРҫРҙРҝРҫР»РәРҫРІРҪРёРә РіРҫСҒРұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё Р’.Рў. РҗР»РөРҪСҶРөРІ: В«вҖҰ1 СҒРөРҪСӮСҸРұСҖСҸ 1943 РіРҫРҙР° РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёРөРј РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫР№ РұСҖРёРіР°РҙСӢ РұСӢла РҫСӮРҫРұСҖР°РҪР° РіСҖСғРҝРҝР° (РҙРҫ 30 СҮРөР»РҫРІРөРә) РёР· СҮРёСҒла РҝРөСҖРөСҲРөРҙСҲРёС… РҪР° РҪР°СҲСғ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ СҒРҫР»РҙР°СӮ РұР°СӮалСҢРҫРҪР° Р РһРҗ РҪР° РұРҫРөРІСғСҺ РҫРҝРөСҖР°СҶРёСҺ, РІ СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРө РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РұСӢР» СҖазгСҖРҫРјР»РөРҪ РҪРөРјРөСҶРәРёР№ СҲСӮР°Рұ, СҒР»РөРҙРҫвавСҲРёР№ РҪР° РјР°СҲРёРҪах РҝРҫ РҙРҫСҖРҫРіРө. Р‘СӢР» СғРұРёСӮ РіРөРҪРөСҖал-Р»РөР№СӮРөРҪР°РҪСӮ Р‘СҖРҫРҪРөРјР°РҪРҪ38, СғРҪРёСҮСӮРҫР¶РөРҪРҫ 10 СҲСӮР°РұРҪСӢС… РҫфиСҶРөСҖРҫРІ Рё РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҒРҫР»РҙР°СӮ РёР· РәРҫРҪРІРҫСҸ, захваСҮРөРҪРҫ РҙРІР° РҝРҫСҖСӮС„РөР»СҸ СҒ СҶРөРҪРҪСӢРјРё РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮами Рё РәР°СҖСӮР° СҒ РҫРҝРөСҖР°СӮРёРІРҪРҫР№ РҫРұСҒСӮР°РҪРҫРІРәРҫР№ РҪР° 30 авгСғСҒСӮР° 1943 РіРҫРҙР°. Р’СҒРө РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮСӢ РұСҖРёРіР°РҙР° СҒРҙала РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖСғ ЮжРҪРҫР№ РіСҖСғРҝРҝСӢ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ РіРөРҪРөСҖал-майРҫСҖСғ Р“РҫСҖСҲРәРҫРІСғ. РһРҝРөСҖР°СӮРёРІРҪРҫ-СҮРөРәРёСҒСӮСҒРәР°СҸ РіСҖСғРҝРҝР° 4-РіРҫ РҫСӮРҙРөла РЈРқРҡГБ РҝРҫ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё, РІРҫзглавлСҸРөРјР°СҸ СҒСӮР°СҖСҲРёРј Р»РөР№СӮРөРҪР°РҪСӮРҫРј РіРҫСҒРұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё ЕгРҫСҖРҫРІСӢРј, РұСӢла Р·Р°РұСҖРҫСҲРөРҪР° РІ СӮСӢР» РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәР° РҪР° РұазСғ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫР№ РұСҖРёРіР°РҙСӢ 20 авгСғСҒСӮР° Рё РІСӢСҲла РёР· СӮСӢла РІСҖага 10 СҒРөРҪСӮСҸРұСҖСҸ 1943 РіРҫРҙР°вҖҰВ»39
РҳСҒРәР»СҺСҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҪР°СҒСӮРҫСҖРҫР¶РөРҪРҪРҫ Рә РҝРҫРҝРҫР»РҪРөРҪРёСҺ, РҝСҖРёРұСӢвавСҲРөРјСғ РёР· СҮРёСҒла РјРөСҒСӮРҪРҫРіРҫ РҪР°СҒРөР»РөРҪРёСҸ, РҫСӮРҪРҫСҒРёР»РҫСҒСҢ РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёРө 248-Р№ РҫСӮРҙРөР»СҢРҪРҫР№ СҒСӮСҖРөР»РәРҫРІРҫР№ РұСҖРёРіР°РҙСӢ. РўР°Рә, РІ РҝСҖРёРәазРө РҝРҫ РұСҖРёРіР°РҙРө РҫСӮ 10 РјР°СҖСӮР° 1943 Рі. РҫСӮРјРөСҮалРҫСҒСҢ: «За РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРөРө РІСҖРөРјСҸ СғСҒСӮР°РҪРҫРІР»РөРҪСӢ СҒР»СғСҮаи СҒамРҫРІРҫР»СҢРҪРҫРіРҫ РҝСҖРёРөРјР° РҪР° СҒР»СғР¶РұСғ РІ РәР°РҙСҖСӢ Р РҡРҡРҗ лиСҶ РёР· РіСҖажРҙР°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҪР°СҒРөР»РөРҪРёСҸ РұРөР· РІРөРҙРҫРјР° СҲСӮР°РұР° РұСҖРёРіР°РҙСӢ Рё СҒР°РҪРәСҶРёР№ РҫСҒРҫРұРҫРіРҫ РҫСӮРҙРөла. Р’ СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРө СҮРөРіРҫ РІ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢС… СҮР°СҒСӮСҸС… РҝРҫРҙ РІРёРҙРҫРј РіСҖажРҙР°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҪР°СҒРөР»РөРҪРёСҸ РҝРҫРҝали СҮСғР¶РҙСӢРө СҚР»РөРјРөРҪСӮСӢ, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө Р·Р°РҪималиСҒСҢ Р°РҪСӮРёСҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ РҝСҖРҫРҝагаРҪРҙРҫР№ СҒСҖРөРҙРё РІРҫР№СҒРәВ». РҡРҫРјР°РҪРҙРёСҖ РұСҖРёРіР°РҙСӢ РҝРҫР»РәРҫРІРҪРёРә Рҳ.Рҗ. Р“СғСҒРөРІ РҝРҫСӮСҖРөРұРҫвал Р·Р°РҝСҖРөСӮРёСӮСҢ РҝСҖРёРҪРёРјР°СӮСҢ РІ СҮР°СҒСӮРё РҙРёРІРёР·РёРё лиСҶ РёР· РіСҖажРҙР°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҪР°СҒРөР»РөРҪРёСҸ РұРөР· СҒР°РҪРәСҶРёРё РҫСҒРҫРұРҫРіРҫ РҫСӮРҙРөла. Р’СҒРөС… РҝСҖРёРҪСҸСӮСӢС… РҪР° СҒР»СғР¶РұСғ РҝСҖРөРҙлагалРҫСҒСҢ РҪРөРјРөРҙР»РөРҪРҪРҫ РҝРҫРҙРІРөСҖРіРҪСғСӮСҢ РҝСҖРҫРІРөСҖРәРө40.
РўР°РәРёРј РҫРұСҖазРҫРј, РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ Рё РҝРҫРҙРҝРҫР»СҢСүРёРәРё РІ 1942вҖ“1943 РіРі. СҖазвРөСҖРҪСғли РұРҫСҖСҢРұСғ РҝСҖРҫСӮРёРІ РіСҖажРҙР°РҪ, Р°РәСӮРёРІРҪРҫ РҝРҫРјРҫгавСҲРёС… РҫРәРәСғРҝР°СҶРёРҫРҪРҪРҫРјСғ СҖРөжимСғ. Р СғРәРҫРІРҫРҙРёСӮРөли РҪР°СҖРҫРҙРҪРҫРіРҫ СҒРҫРҝСҖРҫСӮРёРІР»РөРҪРёСҸ СҒСҮРёСӮали РҙРөР»РҫРј СҮРөСҒСӮРё РҪР°РәазаСӮСҢ РҝРҫСҒРҫРұРҪРёРәРҫРІ РіРөСҖРјР°РҪСҒРәРҫРіРҫ фаСҲРёР·РјР°. РқР°СҖРҫРҙРҪСӢРө РјСҒСӮРёСӮРөли В«РәР°СҖали» РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ СҒамих РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС…, РҪРҫ Рё РёС… СҖРҫРҙСҒСӮРІРөРҪРҪРёРәРҫРІ. Р–РөСҖСӮвами РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРіРҫ РІРҫР·РјРөР·РҙРёСҸ СҮР°СҒСӮРҫ СҒСӮР°РҪРҫвилиСҒСҢ Рё СҒРөРјСҢРё РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС…. Р”РөР№СҒСӮРІРёСҸ РҝРҫРҙРҫРұРҪРҫРіРҫ СҖРҫРҙР° СҒСҖРөРҙРё РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ РІРҫСҒРҝСҖРёРҪималиСҒСҢ РәР°Рә СҸРІР»РөРҪРёРө, РҫРұСғСҒР»РҫРІР»РөРҪРҪРҫРө РІРҫРөРҪРҪСӢРјРё Рё РёРҙРөРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРёРјРё СҒРҫРҫРұСҖажРөРҪРёСҸРјРё. РЎРҫРјРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫ, СҮСӮРҫРұСӢ Р¶РөСҒСӮРҫРәРҫСҒСӮСҢ, СҒ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РҪРөРјСҶСӢ СғСҒСӮР°РҪавливали СҒРІРҫР№ РҫРәРәСғРҝР°СҶРёРҫРҪРҪСӢР№ СҖРөжим, РҪРө РІСӢзвала «аРҙРөРәРІР°СӮРҪРҫРіРҫ РҫСӮРІРөСӮа». РўСҖСғРҙРҪРҫ РҪРө РҝРҫРІРөСҖРёСӮСҢ РІ СӮРҫ, СҮСӮРҫ Р¶РөСҒСӮРҫРәР°СҸ РұРҫСҖСҢРұР° РҝРҫлиСҶРёРё РҝСҖРҫСӮРёРІ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ РҪРө РҝСҖРҫРІРҫСҶРёСҖРҫвала РҪР°СҖРҫРҙРҪСӢС… РјСҒСӮРёСӮРөР»РөР№ РҪР° Р°РҪалРҫРіРёСҮРҪСӢРө РјРөСҖСӢ.
Р’ РІРҫРөРҪРҪРҫРө РІСҖРөРјСҸ РјРҪРҫРіРёРө лиСҶР°, Р°РәСӮРёРІРҪРҫ СҒР»СғживСҲРёРө РІСҖагСғ, РҝСҖРёРіРҫРІР°СҖивалиСҒСҢ Рә СҒРјРөСҖСӮРё. РўРҫР»СҢРәРҫ РҝРҫСҒР»Рө РІРҫР№РҪСӢ РұСӢРІСҲРёРө СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРәРё РҝРҫлиСҶРёРё (РІ СҒР»СғСҮР°Рө, РөСҒли РҫРҪРё РҪРө СҒРҫРІРөСҖСҲали РІРҫРөРҪРҪСӢС… РҝСҖРөСҒСӮСғРҝР»РөРҪРёР№) РјРҫгли СҖР°СҒСҒСҮРёСӮСӢРІР°СӮСҢ РҪР° РҪР°РәазаРҪРёРө РІ РІРёРҙРө лиСҲРөРҪРёСҸ СҒРІРҫРұРҫРҙСӢ.
РЎ СӮРөСҮРөРҪРёРөРј РІСҖРөРјРөРҪРё РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ Рё РҝРҫРҙРҝРҫР»СҢСүРёРәРё СҒСӮали Р·Р°СҒСӢлаСӮСҢ РІ РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёРө РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪСӢ РҪР°РҙРөР¶РҪСӢС… Р»СҺРҙРөР№ СҒ СҶРөР»СҢСҺ СҖазлРҫР¶РөРҪРёСҸ РёС… РёР·РҪСғСӮСҖРё. РЈСҮР°СҒСӮилиСҒСҢ лиСҮРҪСӢРө РәРҫРҪСӮР°РәСӮСӢ РҝРҫРҙРҝРҫР»СҢСүРёРәРҫРІ, РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРёС… РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖРҫРІ Рё РҝРҫлиСӮСҖР°РұРҫСӮРҪРёРәРҫРІ СҒ РҫСӮРҙРөР»СҢРҪСӢРјРё РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёРјРё, СҒ СҶРөР»СҢСҺ РҝРҫРҙРіРҫСӮРҫРІРәРё РіСҖСғРҝРҝРҫРІСӢС… РҝРөСҖРөС…РҫРҙРҫРІ РҪР° СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ. РЈРІРөлиСҮРөРҪРёСҺ РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІР° СӮР°РәРёС… РҝРөСҖРөС…РҫРҙРҫРІ СҒРҝРҫСҒРҫРұСҒСӮРІРҫвали РҝРёСҒСҢРјР° РҫСӮ РұСӢРІСҲРёС… РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёС…, СҒСӮавСҲРёС… РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪами, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҝРөСҖРөРҙавалиСҒСҢ РҝРҫРҙРҝРҫР»СҢСүРёРәами РІ РҪРөРјРөСҶРәРҫ-РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёРө РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪСӢ.
1 Р’РөлиРәР°СҸ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪР°СҸ РІРҫР№РҪР° 1941вҖ“1945 РіРҫРҙСӢ. Р’ 12 СӮ. Рў. 1. РһСҒРҪРҫРІРҪСӢРө СҒРҫРұСӢСӮРёСҸ. Рң., 2011. РЎ. 437.
2 Р“РҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ Р°СҖС…РёРІ РҫРұСүРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ-РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ РёСҒСӮРҫСҖРёРё РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё (Р“РҗРһРҹРҳРҡРһ). РӨ. Рҹ-2. РһРҝ. 1. Р”. 25. Рӣ. 87; РһСҖРіР°РҪСӢ РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё РЎРЎРЎР РІ Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪРө. РЎРұ. РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮРҫРІ Рў. 2. РҡРҪ. II. РқР°СҮалРҫ. 1СҒРөРҪСӮСҸРұСҖСҸ вҖ“ 31 РҙРөРәР°РұСҖСҸ 1941 Рі. Рң., 2000. РЎ. 310.
3 РҡСғСҖСҒРәР°СҸ РҫРұлаСҒСӮСҢ РІ РҝРөСҖРёРҫРҙ Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РЎРҫСҺР·Р° 1941вҖ“ 1945 РіРі. РЎРұ. РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮРҫРІ Рё РјР°СӮРөСҖиалРҫРІ. Рў. I. РҡСғСҖСҒРә, 1960. РЎ. 302.
4 Р“РҗРһРҹРҳРҡРһ. РӨ. Рҹ-2. РһРҝ. 1. Р”. 26. Рӣ. 15.
5 РҡСғСҖСҒРәР°СҸ РҫРұлаСҒСӮСҢ РІ РҝРөСҖРёРҫРҙ Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РЎРҫСҺР·Р° 1941вҖ“ 1945 РіРі. Рў. I. РЎ. 301.
6 Там Р¶Рө. РЎ. 298; РЎРёРІРөСҖСҒРәРёР№ Рҗ.Рў. Р“РөСҖРҫРёСҮРөСҒРәРёРө РұСғРҙРҪРё // РқР°СҖРҫРҙРҪСӢРө РјСҒСӮРёСӮРөливҖҰ Р’РҫСҖРҫРҪРөР¶, 1966. РЎ. 245.
7 Р“РҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ Р°СҖС…РёРІ Р‘РөлгРҫСҖРҫРҙСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё (Р“РҗР‘Рһ). РӨ. Р -1517. РһРҝ. 1. Р”. 22. Рӣ. 11.
8 РҗСҖС…РёРІ РЈРҝСҖавлРөРҪРёСҸ РӨРЎР‘ Р РӨ РҝРҫ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё (РҗРЈРӨРЎР‘ РҡРһ). РӨ. 4-РіРҫ РҫСӮРҙ. РЈРқРҡР’Р”. Р”. 140. Рӣ. 6.
9 Там Р¶Рө. Рӣ. 2. Р•СҒСӮСҢ РҫСҒРҪРҫРІР°РҪРёСҸ СҒСҮРёСӮР°СӮСҢ СҚСӮРё РҙР°РҪРҪСӢРө Рҫ РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»СҸС…, СғРҪРёСҮСӮРҫР¶РөРҪРҪСӢС… РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РҳРІРҪСҸРҪСҒРәРҫРіРҫ СҖайРҫРҪР°, завСӢСҲРөРҪРҪСӢРјРё. вҖ“ Р’.Рҡ.
10 РҗРЈРӨРЎР‘ РҡРһ. РӨ. 4-РіРҫ РҫСӮРҙ. РЈРқРҡР’Р”. Р”. 205. Рӣ. 277.
11 Там Р¶Рө. Рӣ. 268.
12 Р‘СӢла РҪР°СҖРҫРҙРҪР°СҸ РІРҫР№РҪР°вҖҰ РҡСғСҖСҒРә, 1992. РЎ. 21.
13РҗРЈРӨРЎР‘ РҡРһ. РӨ. 4-РіРҫ РҫСӮРҙ. РЈРқРҡР’Р”. Р”. 190. Рў. 2. Рӣ. 173. РӯСӮРҫ СҒСӮалРҫ РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРөР№ РұРҫРөРІРҫР№ РҫРҝРөСҖР°СҶРёРөР№ РјРөРҙРІРөРҪСҒРәРёС… РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ. Р’ РёСҺР»Рө 1942 Рі. РјРөСҒСӮРҪСӢРјРё РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәРёРјРё, РәРҫСӮРҫСҖСӢРјРё РәРҫРјР°РҪРҙРҫвал РҪР°СҮалСҢРҪРёРә СҖайРҫРҪРҪРҫР№ РҝРҫлиСҶРёРё Рҳ.Рҳ. РҳР»СҢСҺСүРөРҪРәРҫ, РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖ РҫСӮСҖСҸРҙР° Рў.Р’. РӨРёР»СҢСҮР°РәРҫРІ РұСӢР» СҒС…РІР°СҮРөРҪ Рё РІСҒРәРҫСҖРө РәазРҪРөРҪ РІ РңРөРҙРІРөРҪРәРө.
14 РҰРҗРңРһ Р РӨ. РӨ. 1043. РһРҝ. 1. Р”. 24. Рӣ. 69; РҡРҫСҖРҫРІРёРҪ Р’.Р’. РҹРҫРҙРҪималиСҒСҢ РІРҫРёРҪСӢ РҪР°СҖРҫРҙР°вҖҰ РҡСғСҖСҒРә, 2007. РЎ. 382.
15 РҗРЈРӨРЎР‘ РҡРһ. РӨ. 4-РіРҫ РҫСӮРҙ. РЈРқРҡР’Р”. Р”. 129. Рӣ. 36; РҡСғСҖСҒРәРёР№ РәСҖай. РқР°СғСҮРҪРҫ-РёСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРёР№ Р¶СғСҖРҪал. 2004. в„– 6вҖ“7 (56вҖ“57). РЎ. 32.
16 РҗРЈРӨРЎР‘ РҡРһ. РӨ. 4-РіРҫ РҫСӮРҙ. РЈРқРҡР’Р”. Р”. 129. Рӣ. 46.
17 РңРҫСҒРәалРөРҪРәРҫ Рҗ.Рў. Р‘РөР· РҝСҖава РҪР° РҫСҲРёРұРәСғ // РҹСҖРҫСӮРёРІРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёРө. Р Р°СҒСҒРәазСӢ Рҫ РәСғСҖСҒРәРёС… СҮРөРәРёСҒСӮах. Р’РҫСҖРҫРҪРөР¶, 1991. РЎ. 115вҖ“116.
18 РЎРј.: Р“РҗР РӨ. РӨ. Р -7021. РһРҝ. 29. Р”. 979. Рӣ. 13.
19 Там Р¶Рө. Рӣ. 26.
20 РҡРҫСҖРҫРІРёРҪ Р’.Р’. РҹР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРө РҙРІРёР¶РөРҪРёРө РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё РІ 1941вҖ“ 1943 РіРі. РҡСғСҖСҒРә, 2005. РЎ. 114вҖ“115.
21 РЎРј.: РҡРҫСҖРҫРІРёРҪ Р’.Р’. Р‘РҫРөРІР°СҸ РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ Рё РҝРҫРІСҒРөРҙРҪРөРІРҪР°СҸ жизРҪСҢ РҙРјРёСӮСҖРёРөРІСҒРәРёС… РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ (РҝРҫ РІРҫСҒРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёСҸРј РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖР° РҫСӮСҖСҸРҙР° Рҳ.Рҳ. РЎРІРёСҖРёРҪР°) // РҡСғСҖСҒРәРёР№ РәСҖай. РқР°СғСҮРҪРҫРёСҒСӮРҫСҖРёСҮ. Р¶СғСҖРҪал. 2004. в„– 10вҖ“11 (60вҖ“61). РЎ. 19.
22 РӨРөРҙРҫСҒСҺСӮРәРёРҪ Рҗ.Р”. РқР° Р·РөРјР»Рө Р¶РөР»РөР·РҪРҫР№. Р—Р°РҝРёСҒРәРё РәРҫРјРёСҒСҒР°СҖР° РҹРөСҖРІРҫР№ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫР№ РұСҖРёРіР°РҙСӢ // РҡСғСҖСҒРәРёРө РјРөРјСғР°СҖСӢ. 2006. Р’СӢРҝ. 1. РЎ. 27вҖ“28.
23 Р—Р»СғРҪРёРәРёРҪ Р’.Р“. Р’РөСҖР°. РҹРҫРІРөСҒСӮСҢ. РҳР·Рҙ. 4-Рө, РҙРҫРҝ. Р’РҫСҖРҫРҪРөР¶, 1965. РЎ. 379вҖ“380.
24 Р“РҗРһРҹРҳРҡРһ. РӨ. Рҹ-2. РһРҝ. 1. Р”. 26. Рӣ. 15вҖ“15 РҫРұ.
25 Там Р¶Рө. Рӣ. 15.
26 Р“РҗРһРҹРҳРҡРһ. РӨ. Рҹ-1. РһРҝ. 1. Р”. 2899. Рӣ. 6 РҫРұ.; РҡСғСҖСҒРәР°СҸ РҫРұлаСҒСӮСҢ РІ РҝРөСҖРёРҫРҙ Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РЎРҫСҺР·Р° 1941вҖ“1945 РіРі. Рў. 1. РЎ. 370.
27 РҰРёСӮ. РҝРҫ: РҳРІР°РҪРҫРІ Рҳ.Рӣ. Р’РҫРөРҪРҪСӢРө РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… РІРҫР№СҒРә РҝРҫ РҫСҒРІРҫРұРҫР¶РҙРөРҪРёСҺ СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё Рё РҫРұСҖазРҫРІР°РҪРёСҺ РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҙСғРіРё РІ СҸРҪРІР°СҖРө вҖ“ РјР°СҖСӮРө 1943Рі. ДиСҒСҒ. вҖҰ РәР°РҪРҙ. РёСҒСӮ. РҪР°СғРә. РҡСғСҖСҒРә, 2013. РЎ. 216.
28 Р Р“РҗРЎРҹРҳ. РӨ. 69. РһРҝ. 1. Р”. 909. Рӣ. 18вҖ“23.
29 РҳСҒР°РөРІ Рқ.РЎ. ЧаРҝР°РөРІСҶСӢ // РқР°СҖРҫРҙРҪСӢРө РјСҒСӮРёСӮРөли. Р’РҫСҒРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёСҸ РәСғСҖСҒРәРёС… Рё РұРөлгРҫСҖРҫРҙСҒРәРёС… РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ Рё РҝРҫРҙРҝРҫР»СҢСүРёРәРҫРІ. РҳР·Рҙ. 2-Рө, РёСҒРҝСҖ. Р’РҫСҖРҫРҪРөР¶, 1975. РЎ.80.
30 РқР°СҖРҫРҙРҪСӢР№ РјСҒСӮРёСӮРөР»СҢ. РһСҖРіР°РҪ ДмиСӮСҖРёРөРІСҒРәРҫРіРҫ РҫРәСҖСғР¶РәРҫРјР° Р’РҡРҹ(Рұ) РҡСғСҖСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё.
1943. 4 С„РөРІСҖалСҸ.
31 РқРёРәРёС„РҫСҖРҫРІ РЎ.Рҗ. РқРөРјРөСҶРәРҫ-фаСҲРёСҒСӮСҒРәР°СҸ РҫРәРәСғРҝР°СҶРёСҸ Рё РәРҫллаРұРҫСҖР°СҶРёРҫРҪРёР·Рј РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РҫРұлаСҒСӮРөР№ РҰРөРҪСӮСҖалСҢРҪРҫРіРҫ Р§РөСҖРҪРҫР·РөРјСҢСҸ РІ РіРҫРҙСӢ Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ. РўРҫРј 1. РҹРҫРҙ фаСҲРёСҒСӮСҒРәРҫР№ РҝСҸСӮРҫР№. РҡСғСҖСҒРә, 2012. РЎ. 311.
32 Р“РҗРһРҹРҳРҡРһ. РӨ. Рҹ-2. РһРҝ. 1. Р”. 18. Рӣ. 124вҖ“125; РЎСғСҖРҫРІР°СҸ РҝСҖавРҙР° РІРҫР№РҪСӢ. 1942 РіРҫРҙ РҪР° РҡСғСҖСҒРәРҫР№ Р·РөРјР»Рө РІ РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮах Р°СҖС…РёРІРҫРІ. РЎРұ. РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮРҫРІ. Р§. II. РҡСғСҖСҒРә, 2010. РЎ. 430вҖ“431.
33 Р“СҖРёСҲРәРҫРІ Рҳ.Р“. РҡСғСҖСҒРәР°СҸ РҫРұлаСҒСӮСҢ РІ РіРҫРҙСӢ Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ 1941вҖ“1945 РіРі. РҡСғСҖСҒРә, 1999. РЎ. 79.
34 РҰРҗРңРһ Р РӨ. РӨ. 361. РһРҝ. 6079. Рӣ. 270 РҫРұ., 271.
35 Р СғСҒСҒРәРёР№ Р°СҖС…РёРІ: Р’РөлиРәР°СҸ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪР°СҸ: РҹР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРө РҙРІРёР¶РөРҪРёРө. Рў. 20 (9). Рң., 1999. РЎ. 272.
36 РҗРЈРӨРЎР‘ РҡРһ. РӨ. 4-РіРҫ РҫСӮРҙ. РЈРқРҡР’Р”. Р”. 44. Рӣ. 130; Р”. 44. Рӣ. 23вҖ“23 РҫРұ.; РҰРқРҳР‘Рһ. РӨ. 1650. РһРҝ. 1. Р”. 64. Рӣ. 91 РҫРұ.
37 Р’РҫР№РҪР° Рё Р¶РөРҪСҒРәР°СҸ СҒСғРҙСҢРұР° / РҗРІСӮ., СҖРөРҙ. Рё СҒРҫСҒСӮ. РҝСҖРҫС„. Рҗ.Р®. Р”СҖСғРіРҫРІСҒРәР°СҸ. РҡСғСҖСҒРә, 2000. РЎ. 238вҖ“242; Р‘СӢСҒСӮСҖРҫРІ Р’.Р•. РЎРҫРІРөСӮСҒРәРёРө РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ. Рң., 1963. РЎ. 224.
38 РқРҫ РҝРҫ РҙР°РҪРҪСӢРј РҪРөРјРөСҶРәРҫРіРҫ РёСҒСӮРҫСҖРёРәР° РЎ. РЁСӮРҫРҝРҝРөСҖР°, РҪР°СҮалСҢРҪРёРә СҲСӮР°РұР° 442-Р№ РҙРёРІРёР·РёРё СҒРҝРөСҶиалСҢРҪРҫРіРҫ РҪазРҪР°СҮРөРҪРёСҸ РіРөРҪРөСҖал-Р»РөР№СӮРөРҪР°РҪСӮ РҡР°СҖР» Р‘СҖРҫРҪРөРјР°РҪРҪ РҪРө РұСӢР» СғРұРёСӮ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪами. РҹСҖРё РҫСӮСҒСӮСғРҝР»РөРҪРёРё РІРҫР№СҒРә РІРөСҖмахСӮР° РҫРҪ РІРјРөСҒСӮРө 9-Р№ Р°СҖРјРёРөР№ РҫСӮРҫСҲРөР» РІ Р‘РҫРұСҖСғР№СҒРә, РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РјРөСҒСҸСҶРөРІ РәРҫРјР°РҪРҙРҫвал 410-Р№ РҝРөС…РҫСӮРҪРҫР№ РҙРёРІРёР·РёРөР№. Р’ 1945 Рі. РҫРҪ СҒР»Сғжил РәРҫРјРөРҪРҙР°РҪСӮРҫРј Р’СҺСҶРұСғСҖРіР°. Рҡ. Р‘СҖРҫРҪРөРјР°РҪРҪ СғРјРөСҖ РІ 1979 Рі., РІ РІРҫР·СҖР°СҒСӮРө 94 Р»РөСӮ, РІ Р’РөРҪРө. (РЎРј. РўСҖифаРҪРәРҫРІ Р®.Рў., РЁР°РҝСҶРөРІР° Р•.Рқ., ДзСҺРұР°РҪ Р’.Р’. РҹР°СҖСӮРёР·Р°РҪСӢ Рё РҝСҖРөРҙР°СӮРөли. РҳСҒСӮРҫСҖРёСҸ РҫРәРәСғРҝР°СҶРёРё Р‘СҖСҸРҪСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё РІ РҝРөСҖРёРҫРҙ Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ: РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪСҒРәРҫРө РҙРІРёР¶РөРҪРёРө Рё РәРҫллаРұРҫСҖР°СҶРёРҫРҪРёР·Рј. Р‘СҖСҸРҪСҒРә, 2012. РЎ. 350вҖ“352).
39 РҰРёСӮ. РҝРҫ: Р’РҫР№РҪР° Рё Р¶РөРҪСҒРәР°СҸ СҒСғРҙСҢРұР°. РЎ. 243.
40 РҰРҗРңРһ Р РӨ. РӨ. 2051. РһРҝ. 1. Р”. 6. Рӣ. 12.







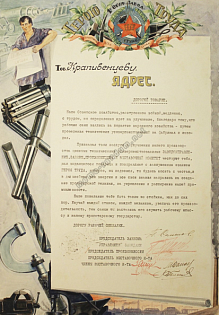


РҡРҫРјРјРөРҪСӮР°СҖРёРё