Ð.Ð. ÐĨÐūзÐļКÐūÐē (ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ) ÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐĄÐÐÐ â ÐÐÐ ÐÐÐ ÐĄÐÐÐĶÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐРЧÐÐĄÐĒÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐŊÐĒÐÐ ÐĄÐÐÐÐĒ-ÐÐÐĒÐÐ ÐÐĢÐ ÐÐ
ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ
ЧаŅŅŅ VÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ
ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016
ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2016
ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016
Ð 1810 Ðģ. Ðē ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēÐū ÐūÐąŅаŅÐļÐŧŅŅ ÐаŅÐŧ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―, Ð°Ð―ÐģÐŧÐļŅÐ°Ð―ÐļÐ―, ŅÐķÐĩ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐĩŅÐēÐĩŅŅÐļ ÐēÐĩКа ÐŋŅÐūÐķÐļÐēаÐēŅÐļÐđ Ðē ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģÐĩ, Ņ ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐŋŅÐļÐūÐąŅÐĩŅŅÐļ ŅазŅÐ°ÐąÐūŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐļО ŅÐĩŅ Ð―ÐūÐŧÐūÐģÐļŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ŅŅÐķÐĩÐđÐ―ŅŅ ÐŋŅÐŧŅ Ðļз ŅŅÐģŅÐ―Ð°1. ÐзÐūÐąŅÐĩŅаŅÐĩÐŧŅ ŅÐķÐĩ ÐąŅÐŧ Ð·Ð―Ð°ÐšÐūО ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēŅ, ÐŋŅÐļŅÐĩО Ņ ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ, ÐŋÐūŅŅÐūОŅ К ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐūŅÐ―ÐĩŅÐŧÐļŅŅ Ņ ÐąÐūÐŧŅŅÐļО ÐēÐ―ÐļÐžÐ°Ð―ÐļÐĩО.
ÐаŅÐŧ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐŋÐūŅÐēÐļÐŧŅŅ Ðē Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ðē 1784 Ðģ., КÐūÐģÐīа ÐēОÐĩŅŅÐĩ Ņ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļОÐļ ÐīŅŅÐģÐļОÐļ ŅÐūÐūŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐļКаОÐļ ÐūÐ― ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐŧ Ð―Ð° ŅÐŧŅÐķÐąŅ КаОÐĩŅÐīÐļÐ―ÐĩŅÐūО ÐŋŅÐļ ÐēÐĩÐŧÐļКÐūО ÐšÐ―ŅзÐĩ ÐÐūÐ―ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐ―Ðĩ ÐаÐēÐŧÐūÐēÐļŅÐĩ. ЧÐĩŅÐĩз ÐīÐĩŅŅŅŅ ÐŧÐĩŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐŋÐū ŅÐūŅŅÐūŅÐ―ÐļŅ зÐīÐūŅÐūÐēŅŅ ÐūŅŅаÐēÐļÐŧ КаŅŅÐĩŅŅ ÐŋŅÐļ ÐīÐēÐūŅÐĩ Ðļ ÐŋÐūŅÐēŅŅÐļÐŧ ŅÐĩÐąŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļÐ―ÐļОаŅÐĩÐŧŅŅŅÐēŅ. ÐÐģÐū ÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ŅаÐģÐļ Ð―Ð° Ð―ÐūÐēÐūО ÐŋÐūÐŋŅÐļŅÐĩ ÐąŅÐŧÐļ ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ņ Ņ ŅŅÐģŅÐąÐū ОÐļŅÐ―ŅОÐļ ÐīÐĩÐŧаОÐļ, ŅазŅÐ°ÐąÐūŅКÐūÐđ Ðļ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐūО ОŅÐŧа, КŅаŅÐūК, КÐūÐ―ŅÐĩŅÐēÐūÐē2. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū Ðē 1808 Ðģ. ÐūÐ― ÐēÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐļÐŧ ŅÐēÐūÐļ ŅŅÐŧŅÐģÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūОŅ ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēŅ, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐļÐē ŅÐĩŅ Ð―ÐūÐŧÐūÐģÐļŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐŧŅ, ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐļÐēаÐēŅŅŅ ОÐĩÐ―ŅŅŅŅ, Ðē ŅŅаÐēÐ―ÐĩÐ―ÐļÐļ Ņ ÐīÐūÐŋŅŅКаÐēŅÐĩÐđŅŅ, ÐŋÐūŅÐĩŅŅ ŅÐēÐļÐ―Ņа ÐŋŅÐļ ÐŧÐļŅŅÐĩ3.
ÐĄÐšÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ŅÐĩзКаŅ ŅОÐĩÐ―Ð° ŅŅÐĩŅŅ ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐūÐąŅŅŅÐ―ŅÐŧаŅŅ ŅÐĩО, ŅŅÐū ÐīÐĩÐŧа ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° Ðē ÐģŅаÐķÐīÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐūÐąÐŧаŅŅÐļ ÐŋÐūŅÐŧÐļ ÐēÐ―Ðļз. ÐзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū, ŅŅÐū ÐūÐ― ÐūÐąŅаŅаÐŧŅŅ за ÐŋÐūÐīÐīÐĩŅÐķКÐūÐđ Ðē ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐаÐĩÐžÐ―ŅÐđ ÐąÐ°Ð―Ðš, ÐūŅ КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū Ðē 1804 Ðģ. ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐŧ ŅŅŅÐīŅ Ðē 20 000 Ņ.4, а Ðē 1805 Ðģ. ÐūÐīÐļÐ― Ðļз ÐĩÐģÐū ŅŅÐ―ÐūÐēÐĩÐđ ÐąŅÐŧ ÐļŅКÐŧŅŅÐĩÐ― Ðļз ÐÐūŅÐ―ÐūÐģÐū КаÐīÐĩŅŅКÐūÐģÐū КÐūŅÐŋŅŅа Ņ Ð―Ð°ÐŧÐļŅÐļÐĩО Ð―ÐĩÐīÐūÐļОКÐļ за ŅÐūÐīÐĩŅÐķÐ°Ð―ÐļÐĩ5. ÐаКÐūÐ―ÐĩŅ, Ðē 1807 Ðģ. ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐūÐąŅŅÐēÐļÐŧ, ŅŅÐū Ð―Ðĩ Ðē ŅÐūŅŅÐūŅÐ―ÐļÐļ ÐīаÐŧÐĩÐĩ ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ŅŅŅ ŅÐēÐūÐļ ÐūÐąŅзаŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа ÐŋÐū ÐīÐūÐŧÐģŅ 1804 Ðģ., ÐīаÐķÐĩ ÐŋŅÐļŅÐūО, ŅŅÐū ÐēŅŅ ŅŅООа ÐąŅÐŧа ÐēŅÐīÐ°Ð―Ð° ÐĩОŅ ÐąÐĩз ÐŋŅÐūŅÐĩÐ―ŅÐūÐē, Ðļ ÐūÐąŅаŅÐļÐŧŅŅ Ņ ÐŋŅÐūŅÐĩÐ―ÐļÐĩО К ÐļОÐŋÐĩŅаŅÐūŅŅ ÐūÐą ÐūŅŅŅÐūŅКÐĩ ÐŋÐŧаŅÐĩÐķа ÐŋÐū ÐūŅŅаÐēŅÐĩОŅŅŅ Ð―Ð° Ð―ÐĩО ÐīÐūÐŧÐģŅ Ðē 16 000 Ņ. Ð―Ð° ŅÐĩŅŅŅ ÐŧÐĩŅ. ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅ I ÐŋŅÐūŅÐļОŅŅ ÐūŅŅŅÐūŅКŅ ÐīаÐŧ6, ÐūÐīÐ―Ð°ÐšÐū ŅŅÐū Ð―Ðĩ ÐūŅОÐĩÐ―ŅÐŧÐū Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐūŅŅÐļ Ð·Ð°ÐąÐūŅÐļŅŅŅŅ ÐūÐą ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКаŅ ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ, Ðļ, ÐēÐļÐīÐļОÐū, ŅÐļŅŅаŅÐļŅ ÐŋÐūÐīŅКазŅÐēаÐŧа ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļÐ―ÐļОаŅÐĩÐŧŅ, ŅŅÐū ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ заКазŅ ОÐūÐģŅŅ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐļŅŅ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅŅŅÐūÐđŅÐļÐēŅÐđ Ðļ Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐđ ŅÐŋŅÐūŅ.
ÐÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ŅŅ Ðļз ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―ŅŅ ÐŋÐūÐŋŅŅÐūК ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° заŅÐ°ÐąÐūŅаŅŅ Ð―Ð° ÐģŅаÐķÐīÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐŋŅÐūÐīŅКŅÐļÐļ ÐąŅÐŧа ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļÐ―ŅŅа Ðē ŅÐūО ÐķÐĩ 1808 Ðģ., КÐūÐģÐīа ÐūÐ― ÐļзÐūÐąŅÐĩÐŧ Ðļ ÐēŅÐēÐĩÐŧ Ð―Ð° ŅŅÐ―ÐūК ŅÐūŅŅаÐē-заОÐĩÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅ КÐūŅÐĩ. ÐĄÐūŅŅаÐē ŅŅÐŋÐĩŅÐ―Ðū ÐŋŅÐūŅÐĩÐŧ ÐūŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ Ðē ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКÐūО ŅÐļзÐļКаŅÐĩ, ÐūÐąŅŅÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ðū ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐūÐīаÐķÐĩ Ð―Ð° ŅÐ°ÐąŅÐļКÐĩ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° Ð―Ð° ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ðĩ Ðļ Ðē ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаŅÐĩО ÐĩОŅ ОаÐģазÐļÐ―Ðĩ Ņ ÐÐūÐŧÐļŅÐĩÐđŅКÐūÐģÐū ОÐūŅŅа ÐŋŅÐąÐŧÐļКÐūÐēаÐŧÐļŅŅ Ðē ÂŦÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКÐļŅ ÐēÐĩÐīÐūОÐūŅŅŅŅ Âŧ7, Ð―Ðū, ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐļÐīÐļОÐūŅŅÐļ, ÐķÐĩÐŧаÐĩОŅО ŅÐŋŅÐūŅÐūО ŅÐūÐēаŅ Ð―Ðĩ ÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧŅŅ. Ð Ð―Ð°ŅÐļÐ―Ð°Ņ Ņ 1808 Ðģ. Ð―ÐĩŅ Ð―ÐļКаКÐļŅ ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐē Ðū КаКÐļŅ -ÐŧÐļÐąÐū ОÐļŅÐ―ŅŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅŅ , ŅазŅÐ°ÐąÐūŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ , ÐēŅÐŋŅŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―ÐūО.
ÐĒÐĩŅ Ð―ÐūÐŧÐūÐģÐļŅ ÐŧÐļŅŅŅ ŅÐēÐļÐ―ŅÐūÐēŅŅ ÐŋŅÐŧŅ, ŅазŅÐ°ÐąÐūŅÐ°Ð―Ð―Ð°Ņ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―ÐūО, ÐąŅÐŧа ÐŋÐūÐīÐēÐĩŅÐģÐ―ŅŅа ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ Ðļ ÐēŅÐĩŅŅÐūŅÐūÐ―Ð―ÐĩÐđ ÐūŅÐĩÐ―ÐšÐĩ ÐŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ŅО аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļО КÐūОÐļŅÐĩŅÐūО, ŅÐŧÐĩÐ―Ņ КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ŅÐŋÐĩŅÐēа ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―Ðū ÐąÐĩŅÐĩÐīÐūÐēаÐŧÐļ Ņ ÐļзÐūÐąŅÐĩŅаŅÐĩÐŧÐĩО Ðē ŅÐēÐūÐĩО ÂŦÐŋŅÐļŅŅŅŅŅÐēÐļÐļÂŧ, заŅÐĩО ÐūŅОÐūŅŅÐĩÐŧÐļ ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзÐūÐēÐ°Ð―Ð―ÐūÐĩ Ð―Ð° ŅÐ°ÐąŅÐļКÐĩ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐū, Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаÐŧÐļ за Ņ ÐūÐīÐūО ÐŧÐļŅŅŅ Ðļ, ŅÐīÐĩÐŧаÐē ŅŅÐī заОÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐđ, ÐŋŅÐūÐēÐĩÐŧÐļ ÐŋÐūÐēŅÐūŅÐ―ŅÐĩ ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļŅ8. РОаÐĩ 1808 Ðģ. ÐŋÐū ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ КÐūОÐļŅÐĩŅа ÐŋŅÐļ ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКÐūО аŅŅÐĩÐ―Ð°ÐŧÐĩ ÐąŅÐŧа ÐūÐąÐūŅŅÐīÐūÐēÐ°Ð―Ð° ŅÐŋÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―Ð°Ņ ÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―Ð°Ņ ÐīÐŧŅ ÐūÐŋŅŅÐūÐē Ðē ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐļŅÐūКÐūО ОаŅŅŅÐ°ÐąÐĩ9. Ð ÐļŅÐūÐģÐūÐēÐūО ŅаÐŋÐūŅŅÐĩ КÐūОÐļŅÐĩŅа (Ðē ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ðĩ 1808 Ðģ. ÐūÐ― ÐąŅÐŧ ÐŋÐĩŅÐĩÐļОÐĩÐ―ÐūÐēÐ°Ð― Ðē ÐĢŅÐĩÐ―ŅÐđ КÐūОÐļŅÐĩŅ ÐŋÐū аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ŅаŅŅÐļ) ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūОŅ ОÐļÐ―ÐļŅŅŅŅ ÐūŅ 2 ÐļŅÐŧŅ 1809 Ðģ. ŅКазŅÐēаÐŧÐūŅŅ, ŅŅÐū ÂŦâĶ ŅÐŋÐūŅÐūÐą ÐēŅÐŧÐļÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅÐēÐļÐ―Ņа Ðē ÐŋŅÐŧÐļ, ŅÐ°ÐąŅÐļÐšÐ°Ð―ŅÐūО ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―ÐūО ÐūŅКŅŅŅŅÐđ, ÐŋŅÐļ ŅÐąÐĩŅÐĩÐķÐĩÐ―ÐļÐļ Ð·Ð―Ð°ŅÐ―ÐūÐđ ŅКÐūÐ―ÐūОÐļÐļ ÐšÐ°Ð·Ð―Ðĩ, ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ŅÐĩŅ Ðļ зÐīÐūŅÐūÐēŅÐĩ ÐŧŅÐīÐĩÐđ К ÐŧÐļŅŅŅ ŅÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐŧŅÐĩОŅŅ Âŧ10. Ð Ð―ÐūŅÐąŅÐĩ ŅÐūÐģÐū ÐķÐĩ ÐģÐūÐīа ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅ I ŅŅÐēÐĩŅÐīÐļÐŧ ÐŋŅÐļÐīŅÐžÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―ÐūО ŅÐĩŅ Ð―ÐūÐŧÐūÐģÐļŅ Ðļ ÐŋÐūÐēÐĩÐŧÐĩÐŧ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅ ÐĩÐĩ ÐīÐŧŅ ÂŦÐŋÐūÐēŅÐĩОÐĩŅŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅÂŧ11.
ÐÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐļÐīÐļОÐūŅŅÐļ, ŅÐūÐģÐīа ÐķÐĩ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― заÐīŅОаÐŧŅŅ Ðļ Ðū ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅ ÐīÐŧŅ ÐŧÐļŅŅŅ ÐŋŅÐŧŅ ÐīŅŅÐģÐūÐđ, ŅÐ°Ð―ÐĩÐĩ Ð―Ðĩ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅÐēŅÐļÐđŅŅ, Ð―Ðū ŅŅÐŧÐļÐēŅÐļÐđ ÐĩŅÐĩ ÐąÐūÐŧŅŅŅŅ ŅКÐūÐ―ÐūОÐļŅ ОÐĩŅаÐŧÐŧ â ŅŅÐģŅÐ―. ÐÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОŅÐĩ ÐūÐŋŅŅŅ Ð·Ð°Ð―ŅÐŧÐļ Ņ Ð―ÐĩÐģÐū ОÐĩÐ―ŅŅÐĩ ÐģÐūÐīа, ÐŋŅÐļКаз ÐūÐą ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļÐļ ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐŧŅ ÐąŅÐŧ ÐūŅÐīÐ°Ð― 4 ÐīÐĩÐšÐ°ÐąŅŅ 1810 Ðģ., ÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐąŅ ŅÐūŅŅÐūŅÐŧÐļŅŅ ŅÐķÐĩ 9 ÐīÐĩÐšÐ°ÐąŅŅ, ÐŋŅÐūÐīÐŧÐļÐēŅÐļŅŅ ÐŋÐūŅŅÐļ ÐīÐū КÐūÐ―Ņа ŅÐ―ÐēаŅŅ 1811 Ðģ.12
23 ŅÐ―ÐēаŅŅ 1811 Ðģ. ÐĢŅÐĩÐ―ŅÐđ КÐūОÐļŅÐĩŅ ÐŋÐū аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ŅаŅŅÐļ Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐļÐŧ ÐļÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅŅ ÐēŅÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐīÐēа ŅаÐŋÐūŅŅа Ņ ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅО заКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩО Ðū ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐŧŅŅ 13. ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅ I, ÐūÐīÐ―Ð°ÐšÐū, ÐūŅÐ―ÐĩŅŅŅ К заКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐū ŅКÐĩÐŋŅÐļŅÐūО Ðļ ÐŋÐūÐēÐĩÐŧÐĩÐŧ ÐūÐŋŅŅŅ ÐŋÐūÐēŅÐūŅÐļŅŅ, Ņ ŅŅÐŧÐūÐēÐļÐĩО, ŅŅÐū ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅ ÐŋŅÐŧÐļ ŅŅÐ°Ð―ŅŅ ÐŧŅŅŅÐļÐĩ ŅŅŅÐĩÐŧКÐļ ÐĄÐĩОÐĩÐ―ÐūÐēŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа, а ÐŋŅÐļŅŅŅŅŅÐēÐūÐēаŅŅ Ð―Ð° ŅКŅÐŋÐĩŅÐļОÐĩÐ―ŅÐĩ ÐąŅÐīÐĩŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅ ÐŋÐūÐŧКа ÐŅÐļÐīÐ―ÐĩŅ. ÐŅŅ ÐēŅŅÐūŅаÐđŅŅŅ ÐēÐūÐŧŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ОÐļÐ―ÐļŅŅŅ ÐаŅКÐŧаÐđ ÐīÐĩ ÐĒÐūÐŧÐŧÐļ 23 ŅÐĩÐēŅаÐŧŅ 1811 Ðģ. ŅÐūÐūÐąŅÐļÐŧ ÐļÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅŅ ÐēŅÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ14.
ÐÐūÐēŅÐūŅÐ―ŅÐĩ ÐūÐŋŅŅŅ ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзÐūÐēаÐŧÐļ ÐąŅŅŅŅÐū â ŅÐķÐĩ 8 ОаŅŅа 1811 Ðģ. ŅŅаŅŅÐ―ÐļКÐļ ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļÐđ Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐļÐŧÐļ ŅÐūÐēОÐĩŅŅÐ―ŅÐđ ŅаÐŋÐūŅŅ ÐļÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅŅ ÐēŅÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ŅÐūÐūÐąŅаŅ, ÂŦâĶŅŅÐū ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―ŅКÐļÐĩ ÐŋŅÐŧÐļ Ņ ÐŋÐūÐŧŅзÐūŅ Ðē ŅÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐēÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ņ ÐąŅŅŅ ОÐūÐģŅŅÂŧ15. ÐĄÐūÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐąŅÐŧÐļ ŅазŅÐĩŅÐĩÐ―Ņ â Ðļ 19 аÐŋŅÐĩÐŧŅ 1811 Ðģ. ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ОÐļÐ―ÐļŅŅŅ ŅÐūÐūÐąŅÐļÐŧ ÐļÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅŅ ÐēŅÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ŅŅÐū ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅ I ÐŋÐūÐēÐĩÐŧÐĩÐŧ ÐēŅÐīаŅŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ņ за ÐŋÐĩŅÐĩÐīаŅŅ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēŅ ŅÐĩŅ Ð―ÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ Ð―Ð°ÐģŅаÐīŅ Ðē 50 000 Ņ., а ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅÐĩ ÐŋŅÐŧÐļ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅ Ð―Ð° ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ. Ð ŅÐēŅзÐļ Ņ ŅŅÐļО, ÐīÐūÐąÐ°ÐēÐŧŅÐŧ ОÐļÐ―ÐļŅŅŅ, Ðļ ŅŅÐļŅŅÐēаŅ ÐēŅŅаÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―ÐūО ÐģÐūŅÐūÐēÐ―ÐūŅŅŅ ŅŅаŅŅÐēÐūÐēаŅŅ Ðē ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐļ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐŧŅ Ðē ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ОаŅŅŅÐ°ÐąÐ°Ņ , ŅÐŧÐĩÐīŅÐĩŅ Ð―ÐĩОÐĩÐīÐŧÐĩÐ―Ð―Ðū ÐŋŅÐļŅŅŅÐŋÐļŅŅ К ŅÐūÐģÐŧаŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ņ Ð―ÐļО ŅŅÐŧÐūÐēÐļÐđ ÐīÐŧŅ заКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅа Ðū ÐŋÐūŅŅŅÐūÐđКÐĩ ÐŋŅÐŧÐĩÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ÐūÐģÐū заÐēÐūÐīа16.
11 ÐļŅÐ―Ņ 1811 Ðģ. ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅ I ŅŅÐēÐĩŅÐīÐļÐŧ ÐīÐūКÐŧаÐī ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅŅа ÐūÐą ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐļ ÐŋÐūÐī ŅŅКÐūÐēÐūÐīŅŅÐēÐūО ŅÐ°ÐąŅÐļÐšÐ°Ð―Ņа ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° ÐŋŅÐŧÐĩÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа. ÐÐūКÐŧаÐīÐūО ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐŧÐļŅŅ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ŅÐĩ ÐŋŅÐ―ÐšŅŅ ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅа, КÐūŅÐūŅŅÐđ ŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаÐŧÐū заКÐŧŅŅÐļŅŅ Ņ ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļÐ―ÐļОаŅÐĩÐŧÐĩО. ÐÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐļÐđ, КаК ÐŋŅÐĩÐīŅŅОаŅŅÐļÐēаÐŧÐūŅŅ, ÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ― Ðē ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅŅÐļ ÐŧÐĩŅ ÐūŅÐŧÐļŅŅ 100 ŅŅŅ. ÐŋŅÐīÐūÐē ÐŋŅÐŧŅ, Ðļз КÐūŅÐūŅŅŅ 10 ŅŅŅ. ÐŋŅÐīÐūÐē â Ðē ÐŋÐĩŅÐēŅÐđ ÐģÐūÐī, а Ðē ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļÐĩ ŅÐĩŅŅŅÐĩ â ÐŋÐū 22,5 ŅŅŅ. ÐŋŅÐīÐūÐē. ÐŅÐĩ ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅÐĩ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐąŅаÐŧ Ð―Ð° ŅÐĩÐąŅ, ÐŋŅÐļ ŅŅÐūО ÐšÐ°Ð·Ð―Ð° Ðē ÐŧÐļŅÐĩ ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ŅКŅÐŋÐĩÐīÐļŅÐļÐļ ÐūÐąŅзŅÐēаÐŧаŅŅ ŅÐ―Ð°ÐąÐķаŅŅ ÐĩÐģÐū ŅŅÐģŅÐ―ÐūО Ðļ ÐģÐŧÐļÐ―ÐūÐđ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐūŅŅÐūÐē, а ŅаКÐķÐĩ ÐēŅÐīаŅŅ заÐēÐūÐīŅÐļКŅ ÐąÐĩŅÐŋŅÐūŅÐĩÐ―ŅÐ―ŅŅ ŅŅŅÐīŅ Ðē 50 000 Ņ. ÂŦÐ―Ð° ÐēŅÐŋÐūОÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðē ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐļ ÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ÐūÐđÂŧ17. ÐÐūÐģаŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅŅÐīŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēаÐŧÐūŅŅ ŅÐĩŅÐĩз ÐēŅŅÐĩŅŅ Ðļз ÐŋÐŧаŅÐĩÐķÐĩÐđ за ÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅÐĩ ÐŋŅÐŧÐļ, ŅÐĩÐ―Ð° КÐūŅÐūŅŅŅ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐŧаŅŅ ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅÐūО Ðē 6 Ņ. за ÐŋŅÐī; ÐŋÐū заÐēÐĩŅŅÐĩÐ―ÐļÐļ ŅŅÐūКа КÐūÐ―ŅŅаКŅа за ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐūО заКŅÐĩÐŋÐŧŅÐŧÐūŅŅ ÐŋŅаÐēÐū ÐēŅКŅÐŋа заÐēÐūÐīа, ÐĩŅÐŧÐļ ŅŅÐū ÐąŅÐīÐĩŅ ÐŋŅÐļ Ð·Ð―Ð°Ð―Ðū ÐēŅÐģÐūÐīÐ―ŅО18. (ÐĄŅÐūÐļОÐūŅŅŅ ŅÐēÐļÐ―Ņа ŅÐĩО ÐēŅÐĩОÐĩÐ―ÐĩО ŅÐūŅÐŧа ŅŅŅÐĩОÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū, Ðē ОаŅŅÐĩ 1811 Ðģ. за Ð―ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐūŅÐļÐŧÐļ 18,8 Ņ. за ÐŋŅÐī19, К ÐŧÐĩŅŅ ŅÐĩÐ―Ð° ÐīÐūŅ ÐūÐīÐļÐŧа ÐīÐū 21 Ņ.20, ŅаК ŅŅÐū ÐēÐ―ÐĩÐīŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐģŅÐĩÐđŅÐūÐ―ÐūÐēŅКÐūÐđ ŅÐĩŅ Ð―ÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ ŅŅÐŧÐļÐŧÐū Ð―ÐĩОаÐŧŅŅ ŅКÐūÐ―ÐūОÐļŅ).
22 ÐļŅÐ―Ņ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐŋÐūÐīаÐŧ Ðē ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКŅŅ ŅКŅÐŋÐĩÐīÐļŅÐļŅ ÐīÐūÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐĩ, ŅКазаÐē, ŅŅÐū ÐīÐŧŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐŧŅ ÐĩОŅ ÐŋÐūŅŅÐĩÐąŅÐĩŅŅŅ Ð―Ðĩ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ 115 ŅŅŅ. ÐŋŅÐīÐūÐē ŅŅÐģŅÐ―Ð°, Ðļ ÐŋŅÐūŅŅ ÐąÐĩзÐūŅÐŧаÐģаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐēŅÐīаŅŅ ÐĩОŅ Ðļз ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅŅŅÐīŅ 20 000 Ņ. Ð―Ð° ÐŋÐĩŅÐēÐūÐūŅÐĩŅÐĩÐīÐ―ŅÐĩ ŅаŅŅ ÐūÐīŅ, ŅКазŅÐēаŅ, ŅŅÐū ŅаО ÐūÐ― ŅаŅÐŋÐūÐŧаÐģаÐĩŅ ÐŧÐļŅŅ ÐīÐūОÐūО Ņ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ÐŋÐūŅŅŅÐūÐđКаОÐļ, ÐŋŅÐļŅÐĩО ŅŅÐū ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēÐū Ņ 1804 Ðģ. ŅÐķÐĩ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļŅŅŅ Ðē заÐŧÐūÐģÐĩ Ðē ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐĨÐūзŅÐđŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅКŅÐŋÐĩÐīÐļŅÐļÐļ21.
ÐŅÐūŅŅÐąÐ° ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° Ðū ÐēŅÐīаŅÐĩ ŅŅŅÐīŅ ÐąŅÐŧа ŅÐīÐūÐēÐŧÐĩŅÐēÐūŅÐĩÐ―Ð° 1 ÐļŅÐŧŅ, а 3 ÐļŅÐŧŅ ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ŅКŅÐŋÐĩÐīÐļŅÐļÐĩÐđ Ņ ÂŦŅÐ°ÐąŅÐļÐšÐ°Ð―ŅÐūО ÐаŅÐŧÐūО ÐаŅÐŧÐūÐēŅО ŅŅÐ―ÐūО ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―ÐūОÂŧ ÐąŅÐŧ заКÐŧŅŅÐĩÐ― КÐūÐ―ŅŅаКŅ ÂŦÐūÐą ÐūŅÐŧÐļŅÐļÐļ ÐļО ÐīÐŧŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ŅŅа ŅŅŅŅŅ ÐŋŅÐī Ð―ÐūÐēÐūÐļзÐūÐąŅÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐļО ÐŋŅÐŧŅ Ðē ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŋŅŅÐļ ÐŧÐĩŅÂŧ, ÐĩŅÐĩ ŅÐĩŅÐĩз Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ÐīÐ―ÐĩÐđ ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļÐ―ÐļОаŅÐĩÐŧŅ ŅÐūÐūÐąŅÐļÐŧ Ðū ÐŋÐūКŅÐŋКÐĩ Ð―Ð° ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ðĩ ÂŦÐŋŅŅŅÐūÐŋÐūŅÐūÐķÐ―ÐĩÐģÐū ОÐĩŅŅаÂŧ ÐīÐŧŅ ÐēÐūзÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ КаОÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ÐūÐģÐū ÐīÐūОа, ÐīаÐŧÐĩÐĩ, 4 аÐēÐģŅŅŅа 1811 Ðģ. Ðē ÐķŅŅÐ―Ð°ÐŧÐĩ ÐÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ КÐūÐŧÐŧÐĩÐģÐļÐļ ÐąŅÐŧÐū заŅÐļКŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ðū, ŅŅÐū ÐŋÐŧÐ°Ð― Ðļ ŅаŅаÐī ÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ÐūÐģÐū ÐīÐūОа ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° ŅÐīÐūŅŅÐūÐĩÐ―Ņ ÐŅŅÐūŅаÐđŅÐĩÐģÐū ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ. ÐĢÐķÐĩ К ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ðĩ аÐēÐģŅŅŅа Ð―Ð°Ð―ŅŅŅÐĩ ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļÐ―ÐļОаŅÐĩÐŧÐĩО ŅÐ°ÐąÐūŅÐļÐĩ ÐŧŅÐīÐļ ÐēŅÐŧÐūÐķÐļÐŧÐļ ŅŅÐ―ÐīаОÐĩÐ―Ņ ÐąŅÐīŅŅÐĩÐģÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа; 24 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ŅÐēÐĩÐīÐūОÐļÐŧ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐĩ ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐū, ŅŅÐū ŅаŅŅŅÐļŅŅÐēаÐĩŅ заКÐūÐ―ŅÐļŅŅ ŅŅŅÐūÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐū зÐīÐ°Ð―ÐļŅ Ðē ÐūКŅŅÐąŅÐĩ Ðļ Ð―Ð°ŅаŅŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐū Ðē Ð―ÐūŅÐąŅÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ÐķÐĩ ÐģÐūÐīа. Ð ŅÐēŅзÐļ Ņ ŅŅÐļО ÐūÐ― ÐŋŅÐūŅÐļÐŧ ÐūŅÐŋŅŅŅÐļŅŅ ÐīÐŧŅ Ð―Ð°ŅаÐŧа ŅÐ°ÐąÐūŅ 15 ŅŅŅ. ÐŋŅÐīÐūÐē ŅŅÐģŅÐ―Ð° Ðē ÐēÐļÐīÐĩ Ð―ÐĩÐģÐūÐīÐ―ŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ Ðļ ÐąÐūÐĩÐŋŅÐļÐŋаŅÐūÐē, ŅКазаÐē, ŅŅÐū Ð―Ð°ŅÐĩÐŧ ŅÐŋÐūŅÐūÐą ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅ Ðļ ŅŅÐūŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧ ÐīÐŧŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐŧŅ ÐŋÐū ÐĩÐģÐū ŅÐĩŅ Ð―ÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ22.
ÐŅŅŅ ÐēŅÐĩ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīаŅŅ, ŅŅÐū ÐŋŅÐŧÐĩÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ŅÐđ заÐēÐūÐī ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° ŅŅаÐŧ ÐŋÐĩŅÐēŅО Ðē ŅŅÐūÐŧÐļŅÐĩ Ð ÐūŅŅÐļÐļ ŅÐŋÐĩŅÐļаÐŧÐļзÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅО ŅаŅŅÐ―ŅО ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅО ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļŅŅÐļÐĩО. ÐÐū ŅÐļŅ ÐŋÐūŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ заКазÐūÐē Ð·Ð°Ð―ÐļОаÐŧŅŅ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐūÐīÐļÐ― ŅаŅŅÐ―ŅÐđ ÐŋÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКÐļÐđ заÐēÐūÐī, ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅÐđ Ðē 1790 Ðģ. ŅÐūŅÐŧÐ°Ð―ÐīŅÐĩО ЧаŅÐŧŅзÐūО ÐÐĩŅÐīÐūО. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐū ÐąŅÐŧÐū ÐžÐ―ÐūÐģÐūÐŋŅÐūŅÐļÐŧŅÐ―ŅО, ÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ŅО, ОÐĩŅаÐŧÐŧÐūÐūÐąŅÐ°ÐąÐ°ŅŅÐēаŅŅÐļО Ðļ ОÐĩŅ Ð°Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļО, ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ŅÐŧÐū заКазŅ КаК ÐģŅаÐķÐīÐ°Ð―ŅКÐļÐĩ, ŅаК Ðļ ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ð―ŅÐĩ, КаК КазÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ, ŅаК Ðļ ŅаŅŅÐ―ŅÐĩ. ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐķÐĩ Ņ ŅаОÐūÐģÐū Ð―Ð°ŅаÐŧа ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēаÐŧ Ð·Ð°Ð―ÐļОаŅŅŅŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩО ŅÐūÐŧŅКÐū ŅŅÐķÐĩÐđÐ―ŅŅ ÐŋŅÐŧŅ Ðļз ŅŅÐģŅÐ―Ð°. ÐĢзКаŅ ŅÐŋÐĩŅÐļаÐŧÐļзаŅÐļŅ ŅŅаÐŧа ÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ðļз ÐŋŅÐļŅÐļÐ―, Ņ ÐūŅŅ Ðļ ÐīаÐŧÐĩКÐū Ð―Ðĩ ŅаОÐūÐđ ÐģÐŧаÐēÐ―ÐūÐđ, ÐŋÐū КÐūŅÐūŅÐūÐđ заÐēÐūÐī ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° ÐŋŅÐūŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐŧ ŅÐūÐēŅÐĩО Ð―ÐĩÐīÐūÐŧÐģÐū.
ÐÐĩŅÐēŅÐđ ŅŅÐĩÐēÐūÐķÐ―ŅÐđ зÐēÐūÐ―ÐūК ÐīÐŧŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļŅŅÐļŅ ÐŋŅÐūзÐēÐĩÐ―ÐĩÐŧ ÐīаÐķÐĩ ÐīÐū ŅÐūÐģÐū, КаК Ðē ÐĩÐģÐū ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐąŅÐŧ ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ― ÐŋÐĩŅÐēŅÐđ КаОÐĩÐ―Ņ. ÐŅÐĩ 10 ÐļŅÐŧŅ 1811 Ðģ., ŅÐū ÐĩŅŅŅ ŅÐūÐēÐ―Ðū Ð―ÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐđ ÐŋÐūзÐķÐĩ заКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅа, Ðļз ÐÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐīÐĩÐŋаŅŅаОÐĩÐ―Ņа Ðē ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКŅŅ ŅКŅÐŋÐĩÐīÐļŅÐļŅ ŅÐūÐūÐąŅÐļÐŧÐļ, ŅŅÐū ÐŋÐū ŅŅÐĩÐąÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ 115 ŅŅŅ. ÐŋŅÐīÐūÐē ŅŅÐģŅÐ―Ð° Ņ ÐÐŧÐūÐ―ÐĩŅКÐļŅ заÐēÐūÐīÐūÐē Ð―Ð° ÐŧÐļŅŅÐĩ ÐŋŅÐŧŅ ÂŦâĶÐ―Ðĩ ŅÐūÐŧŅКÐū ŅаКÐūÐģÐū КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēа ŅŅÐģŅÐ―Ð°, Ð―Ðū Ðļ Ð―ÐļŅКÐūÐŧŅКÐū ŅÐīÐĩÐŧÐļŅŅ Ð―ÐĩÐēÐūзОÐūÐķÐ―Ðū, ÐŋÐūŅÐūОŅ ŅŅÐū ÐŋÐūÐŧŅŅаÐĩОÐūÐģÐū ŅаОÐū ÐļО Ð―Ð° ŅÐūÐąŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅаŅŅ ÐūÐīŅ Ð―ÐĩÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―ÐūÂŧ. ÐŅÐūÐąÐū Ðē ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŋÐūÐīŅÐĩŅКÐļÐēаÐŧÐūŅŅ, ŅŅÐū ÂŦÐū ŅÐĩО Ðļ ÐūÐ―ÐūÐđ ŅКŅÐŋÐĩÐīÐļŅÐļÐļ Ðļз ÐŋŅÐĩÐķÐ―ÐļŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐŋÐļŅÐūК Ð―ÐĩÐąÐĩзŅзÐēÐĩŅŅÐ―ÐūÂŧ23. ÐÐūŅÐŧÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēа ÐēŅŅŅÐŋÐļÐŧÐļ Ðē заŅŅÐķÐ―ŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐŋÐļŅКŅ, ÐļзÐūÐąÐļÐŧÐūÐēаÐēŅŅŅ ÐžÐ―ÐūÐķÐĩŅŅÐēÐūО Ð―ÐĩÐļÐ·ÐąÐĩÐķÐ―ŅŅ ŅÐūŅОаÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐĩÐđ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ŅÐžÐ―ÐūÐķаÐŧÐļ ŅÐūÐŧŅÐļÐ―Ņ ÐīÐĩÐŧа, ÐūÐīÐ―Ð°ÐšÐū К ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐŋŅÐūŅа Ð―Ðĩ ÐŋŅÐūÐīÐēÐļÐģаÐŧÐļ.
ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐąŅÐŧ Ðē КŅŅŅÐĩ ÐēÐūÐ·Ð―ÐļКŅÐĩÐģÐū заŅŅŅÐīÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ, ÐūÐīÐ―Ð°ÐšÐū, КаК ОÐūÐķÐ―Ðū ŅŅÐīÐļŅŅ ÐŋÐū ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐēŅÐļОŅŅ ÐīÐūКŅОÐĩÐ―ŅаО, ŅŅÐĩÐēÐūÐģÐļ Ð―Ðĩ ÐŋŅÐūŅÐēÐŧŅÐŧ, ÐēÐļÐīÐļОÐū, ÐēÐĩŅŅ Ðē Ð―ÐĩŅŅŅÐļОÐūŅŅŅ КÐūÐ―ŅŅаКŅÐ―ŅŅ ÐūÐąŅзаŅÐĩÐŧŅŅŅÐē. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, КаК ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ðū ÐēŅŅÐĩ, ÐūÐ― Ð―Ð°ŅÐĩÐŧ ÐļÐ―ÐūÐđ ŅÐŋÐūŅÐūÐą ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐēÐūÐĩÐģÐū ÐīÐĩÐŧа ŅŅŅŅÐĩО â ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзŅŅ Ð―ÐĩÐģÐūÐīÐ―ŅÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļÐđ ŅŅÐģŅÐ―. ÐÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐūÐģÐū, ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļÐ―ÐļОаŅÐĩÐŧŅ ŅÐūÐģÐīа ÐīаÐķÐĩ ŅаŅŅŅÐļŅŅÐēаÐŧ ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐļŅŅ Ð―ÐūОÐĩÐ―ÐšÐŧаŅŅŅŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ â ÐĩŅÐĩ 17 ÐļŅÐ―Ņ, ŅÐū ÐĩŅŅŅ Ðē ÐŋŅÐūОÐĩÐķŅŅКÐĩ ОÐĩÐķÐīŅ ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐīÐūКÐŧаÐīа ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅŅа Ðļ заКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅа, ÐūÐ― ÐŋÐūÐīаÐŧ Ðē ÐĢŅÐĩÐ―ŅÐđ КÐūОÐļŅÐĩŅ ÐŋÐū аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ŅаŅŅÐļ ÐŋŅÐūŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩŅŅ ŅКÐūÐ―ŅŅŅŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐļО ÐŋÐū ÐūÐąŅазŅŅ ÐŋŅÐŧŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđÐ―ŅÐĩ ŅÐīŅа, КÐūŅÐūŅŅÐĩ, ÐŋÐū ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐļзÐūÐąŅÐĩŅаŅÐĩÐŧŅ, ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ņ ÐąŅÐŧÐļ ÂŦâĶÐūКазаŅŅ Ð―ÐĩŅŅаÐēÐ―ÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐŋŅÐĩÐļОŅŅÐĩŅŅÐēÐū ÐŋŅÐūŅÐļÐē ŅŅÐĩŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ ÐūÐąŅÐšÐ―ÐūÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐīÐĩŅÂŧ24.
ÐŊÐīŅа ÐąŅÐŧÐļ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅ К ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļŅ, ÐūÐīÐ―Ð°ÐšÐū ÐīаÐŧŅŅÐĩ ÐūÐŋŅŅÐūÐē Ð―Ð° ÐÐūÐŧКÐūÐēÐūО ÐŋÐūÐŧÐĩ ÐīÐĩÐŧÐū Ðē ŅŅÐūŅ Ņаз Ð―Ðĩ ÐŋÐūŅÐŧÐū.
ÐаŅÐū ÐŧÐĩŅÐūО 1812 Ðģ., ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐīÐūКÐŧаÐīа ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅŅ I ÐūŅŅÐļŅаŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅзŅÐēа Ðū ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐŧŅŅ , ÐŋÐūОÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐū ŅŅÐ°Ð―ŅŅзŅКÐūО ÐļзÐīÐ°Ð―ÐļÐļ Manual dâArtilleur (ÐļОŅ аÐēŅÐūŅа ÐīÐūКÐŧаÐīа Ðļ ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―ÐūŅŅÐĩÐđ Ðū ÐąÐūÐĩÐŋŅÐļÐŋаŅаŅ , ŅÐīÐūŅŅÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð―ÐĩÐŧÐĩŅŅÐ―ÐūÐģÐū ŅŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ, ÐīÐū Ð―Ð°Ņ Ð―Ðĩ ÐīÐūŅÐŧÐū, ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū ŅÐūÐŧŅКÐū, ŅŅÐū ŅÐĩŅŅ ŅÐŧа Ð―Ðĩ Ðū ÐģŅÐĩÐđŅÐūÐ―ÐūÐēŅКÐļŅ ÐŋŅÐŧŅŅ ), ÐļОÐŋÐĩŅаŅÐūŅ ÐŋŅÐļКазаÐŧ ÐÐūÐĩÐ―Ð―ÐūОŅ ÐĢŅÐĩÐ―ÐūОŅ ÐÐūОÐļŅÐĩŅŅ, ÐŋŅÐĩÐĩÐžÐ―ÐļКŅ ÐĢŅÐĩÐ―ÐūÐģÐū КÐūОÐļŅÐĩŅа ÐŋÐū аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ŅаŅŅÐļ, ÐŋÐūÐīÐēÐĩŅÐģÐ―ŅŅŅ ÐŋŅÐŧÐļ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° ÐŋÐūÐēŅÐūŅÐ―ŅО ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļŅО. ÐĒаКÐūÐēŅÐĩ ÐąŅÐŧÐļ ÐŋŅÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ņ Ðē ÐŋŅÐļŅŅŅŅŅÐēÐļÐļ ŅÐŋŅаÐēÐŧŅŅŅÐĩÐģÐū ÐÐūÐĩÐ―Ð―ŅО ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēÐūО, Ņ ÐŋŅÐļÐģÐŧаŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐēŅÐĩŅ ÐķÐĩÐŧаŅŅÐļŅ ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē ÐŋÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКÐūÐģÐū ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð°, Ðļ ÐŋÐūКазаÐŧÐļ, ÂŦâĶŅŅÐū ÐŋŅÐŧÐļ ŅÐļÐļ (ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð°. â Ð. ÐĨ.) ÐąŅÐīŅŅÐļ Ð―Ðĩ ŅÐĩ, Ðū КÐūÐļŅ Ðē ÐšÐ―ÐļÐģÐĩ ŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ÐĩŅŅŅ, Ðē ÐīÐĩÐŧÐĩ ŅÐēÐūÐĩО ŅÐūÐēÐĩŅŅÐĩÐ―Ð―Ðū ŅаÐēÐ―ŅŅŅŅŅ ŅÐū ŅÐēÐļÐ―ŅÐūÐēŅОÐļ, ÐūÐąŅÐšÐ―ÐūÐēÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ÐŋŅÐŧŅОÐļ, Ðļ ÐŋŅÐļ ŅÐūО Ð―Ðĩ ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаÐŧÐū Ð―Ðļ ОаÐŧÐĩÐđŅÐĩÐģÐū ÐŋÐūÐēŅÐĩÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ ŅŅÐēÐūÐŧŅ ŅŅÐķÐĩÐđÐ―ÐūОŅ ÐūŅ ŅŅŅŅŅÐļ ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧÐūÐē, ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―ŅŅ Ðē ÐŋŅŅŅ ÐŋŅÐļÐĩОÐūÐē, ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅ ÐŋÐū ÐīÐēÐĩŅŅÐļ Ðē КаÐķÐīŅÐđ Ņаз Ņ ŅаКÐūŅ ÐŋÐūŅÐŋÐĩŅÐ―ÐūŅŅÐļŅ, ŅŅÐū ÐŋŅÐļŅ ÐūÐīÐļÐŧÐūŅŅ ÐŋÐū ÐīÐēа ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧа Ð―Ð° КаÐķÐīŅŅ ОÐļÐ―ŅŅŅÂŧ25.
ÐÐūŅÐŧÐĩ ŅаКÐūÐģÐū заКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐĩÐīÐļÐ―ŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅО ÐŋŅÐĩÐŋŅŅŅŅÐēÐļÐĩО ÐīÐŧŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° ÐūŅŅаÐŧŅŅ ÐēÐūÐŋŅÐūŅ Ðū ÐŋÐūŅŅаÐēКÐĩ ŅŅÐģŅÐ―Ð°, КÐūŅÐūŅŅÐđ за ÐŋŅÐūŅÐĩÐīŅÐĩÐĩ Ņ ОÐūОÐĩÐ―Ņа заКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļŅ Ņ Ð―ÐļО ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅа ÐēŅÐĩОŅ Ð―Ðĩ ŅÐūÐŧŅКÐū Ð―Ðĩ ŅазŅÐĩŅÐļÐŧŅŅ, а ÐŧÐļŅŅ ÐūŅÐŧÐūÐķÐ―ÐļÐŧŅŅ. Ð ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐģÐū ÐģÐūÐīа ÐŋŅÐŧÐĩÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ŅÐđ заÐēÐūÐī ÐŋŅÐūŅÐ°ÐąÐūŅаÐŧ Ð―Ð° ŅŅŅŅÐĩ, ŅÐūÐąŅÐ°Ð―Ð―ÐūО ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ŅКŅÐŋÐĩÐīÐļŅÐļÐĩÐđ ÐąŅКÐēаÐŧŅÐ―Ðū ÂŦŅ ÐąÐūŅŅ ÐŋÐū ŅÐūŅÐĩÐ―ÐšÐĩÂŧ. Ð ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ÐūО, ŅŅÐū ÐąŅÐŧÐļ Ð―ÐĩÐģÐūÐīÐ―ŅÐĩ ÐąÐūÐĩÐŋŅÐļÐŋаŅŅ Ðļ ÐūŅŅÐīÐļŅ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ŅÐīаÐŧÐūŅŅ ÐŋÐūÐŧŅŅÐļŅŅ ÐūŅ ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКÐūÐđ Ðļ ÐŅÐūÐ―ŅŅаÐīŅŅКÐūÐđ КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐĩÐđ Ðļ ÐūŅ ŅŅÐūÐŧÐļŅÐ―ÐūÐģÐū аŅŅÐĩÐ―Ð°Ðŧа26. ÐŅÐĩ ŅŅÐļ ОÐĩŅŅŅŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ Ðļ ÐģÐūŅÐ―ÐūÐĩ ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēа, ŅÐĩÐīŅÐū ŅŅаŅŅ ÐēŅÐĩОŅ, ÐąŅОаÐģŅ Ðļ ŅÐĩŅÐ―ÐļÐŧа, ÐŋŅÐĩÐŋÐļŅаÐŧÐļŅŅ ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅÐļ Ðļ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐŋÐūŅŅаÐēКÐļ ОÐĩŅаÐŧÐŧа. ÐÐļŅŅ 20 ОаŅ 1812 Ðģ. Ðē ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКŅŅ ŅКŅÐŋÐĩÐīÐļŅÐļŅ ÐŋŅÐļŅÐŧÐū ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐĩ, Ðē КÐūŅÐūŅÐūО ŅÐūÐūÐąŅаÐŧÐūŅŅ, ŅŅÐū Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКŅ ÐÐŧÐūÐ―ÐĩŅКÐļŅ заÐēÐūÐīÐūÐē Ðē ŅÐĩКŅŅÐĩО ÐģÐūÐīŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐļŅÐ°Ð―Ðū ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐļŅŅ Ðļ ÐŋÐĩŅÐĩÐīаŅŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūОŅ ÐŋŅÐļÐĩОŅÐļКŅ 25 ŅŅŅ. ÐŋŅÐīÐūÐē ŅÐĩŅÐūÐģÐū ŅŅÐģŅÐ―Ð° ÐīÐŧŅ ÐŧÐļŅŅŅ ÐŋŅÐŧŅ, Ðē ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐĩО ÐģÐūÐīŅ ÐīÐŧŅ ŅÐūÐđ ÐķÐĩ ŅÐĩÐŧÐļ â 30 ŅŅŅ. ÐŋŅÐīÐūÐē, а Ðē ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļÐĩ ÐīÐēа ÐģÐūÐīа ŅŅÐūŅ заКаз ÐąŅÐīÐĩŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐ°Ð― ÐÐūŅÐūÐąÐŧаÐģÐūÐīаŅŅКÐļО заÐēÐūÐīаО ÐēÐēÐļÐīŅ КŅаÐđÐ―ÐĩÐđ ÐŋÐĩŅÐĩÐģŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ заКазаОÐļ ÐÐŧÐūÐ―ÐĩŅКÐļŅ 27. ÐÐŋŅÐūŅÐĩО, ŅÐķÐĩ 16 ÐļŅÐŧŅ 1812 Ðģ. ÐģÐūŅÐ―ŅÐđ Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļК ÐÐŧÐūÐ―ÐĩŅКÐļŅ заÐēÐūÐīÐūÐē ÐŋÐļŅŅОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐŋÐūŅŅаÐēÐļÐŧ Ðē ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―ÐūŅŅŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ÐŋŅÐļÐĩОŅÐļКа КаÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð° ÐŅÐģŅÐ―Ð°, ŅŅÐū Ð―Ðļ Ðē 1812, Ð―Ðļ Ðē 1813 Ðģ. ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐĩ ÐĩОŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐŋÐūŅŅаÐēКÐļ ŅŅÐģŅÐ―Ð° ÐīÐŧŅ ÐŧÐļŅŅŅ ÐŋŅÐŧŅ ÂŦÐēÐūÐēŅÐĩ Ð―ÐĩŅ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅÐļÂŧ28. ÐÐūŅÐŧÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ОÐĩÐķÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐūÐąŅÐĩÐ―ÐļÐĩ, КаК ÐąŅ Ð·Ð°ÐžÐšÐ―ŅÐē ÐŋÐĩŅÐēŅÐđ КŅŅÐģ, ÐŋÐūŅÐŧÐū Ð―Ð° ÐēŅÐūŅÐūÐđ ÐēÐļŅÐūК, Ð―ÐļŅКÐūÐŧŅКÐū Ð―Ðĩ ÐŋÐūÐīÐēÐļÐ―ŅÐē ÐīÐĩÐŧа. ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐķÐĩ ÐŋŅÐļÐŧаÐģаÐŧ ÐēŅÐĩ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ŅÐĩ ŅŅÐļÐŧÐļŅ, ŅŅÐūÐąŅ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐļŅŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐū ŅŅŅŅÐĩО, ÐĩÐīÐļÐ―ŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅО ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūО КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū Ðē ŅÐŧÐūÐķÐļÐēŅÐļŅ ŅŅ ÐūÐąŅŅÐūŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐēаŅ ÐąŅÐŧÐļ ŅаŅŅÐ―ŅÐĩ ÐŋÐūŅŅаÐēŅÐļКÐļ, ŅÐūŅÐģÐūÐēаÐēŅÐļÐĩ ÐŋÐū ŅŅÐ―ÐūŅÐ―ŅО ŅÐĩÐ―Ð°Ðž.
Ð ÐŋŅÐūÐąÐŧÐĩОаО Ņ ŅŅÐģŅÐ―ÐūО, К ŅÐūОŅ ÐķÐĩ, ÐēŅКÐūŅÐĩ ÐīÐūÐąÐ°ÐēÐļÐŧаŅŅ Ðļ КаÐīŅÐūÐēаŅ. ÐĄÐūÐģÐŧаŅÐ―Ðū ÐūÐīÐ―ÐūОŅ Ðļз ÐŋŅÐ―ÐšŅÐūÐē ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅа Ð―Ð° ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅÐŧŅ, ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐū ÐūÐąŅзаÐŧÐūŅŅ ÐŋŅÐļŅÐŧаŅŅ Ð―Ð° заÐēÐūÐī ÐīÐŧŅ ŅÐ°ÐąÐū ŅŅ ÐīÐēаÐīŅаŅŅ ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ―ŅŅ К Ð―ÐĩÐđ ÐšÐ°Ð―ŅÐūÐ―ÐļŅŅÐūÐē, ŅŅÐū ŅŅÐĩÐ―ÐļКÐūÐē Ðļз ОÐūÐŧÐūÐīŅŅ ŅÐĩКŅŅŅÐūÐē, а ŅаКÐķÐĩ ŅÐĩŅÐēÐĩŅŅŅ ÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ŅŅ ÐŋÐūÐīОаŅŅÐĩŅŅÐĩÐē Ðļ ŅÐĩŅÐēÐĩŅŅŅ ŅÐ―ŅÐĩŅ-ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē, ÐŋÐĩŅÐĩÐīаÐē ÐļŅ ÐŋÐūÐī Ð―Ð°ŅаÐŧÐū ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð°. ÐŅÐĩÐīŅКазŅÐĩОÐū, ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐū ÐŋŅÐĩÐīÐūŅŅаÐēÐļÐŧÐū ŅаŅŅÐ―ÐļКŅ ÐŧŅÐīÐĩÐđ ÐŋÐū ÐūŅŅаŅÐūŅÐ―ÐūОŅ ÐŋŅÐļÐ―ŅÐļÐŋŅ, КаК Ðē ÐŋÐŧÐ°Ð―Ðĩ ŅÐļзÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ŅÐūŅŅÐūŅÐ―ÐļŅ, ŅаК Ðļ ÐŧÐļŅÐ―ŅŅ КаŅÐĩŅŅÐē, ŅаК ŅŅÐū ŅÐķÐĩ ÐēŅКÐūŅÐĩ ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐŋÐūŅÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐļŅ Ð―Ð° заÐēÐūÐīÐĩ Ņ ÐūзŅÐļÐ― Ð―Ð°ŅаÐŧ Ņ ÐūÐīаŅаÐđŅŅÐēÐūÐēаŅŅ Ðū ŅаŅŅÐļŅÐ―ÐūÐđ заОÐĩÐ―Ðĩ ÂŦКÐūÐ―ŅÐļÐ―ÐģÐĩÐ―ŅаÂŧ. ÐÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅ ÐēŅÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ Ð.Ð. ÐÐĩÐŧÐŧÐĩŅ-ÐаКÐūОÐĩÐŧŅŅКÐļÐđ, Ð―ÐĩÐūÐīÐ―ÐūКŅаŅÐ―Ðū ÐūÐąÐ―Ð°ÐīÐĩÐķÐļÐēаÐŧ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð°, ŅŅÐū ÐŋŅÐļ ÐŋÐĩŅÐēÐūО ÐķÐĩ ŅÐĩКŅŅŅŅКÐūО Ð―Ð°ÐąÐūŅÐĩ ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐūŅŅÐąŅ ÐąŅÐīŅŅ ŅÐīÐūÐēÐŧÐĩŅÐēÐūŅÐĩÐ―Ņ, Ðļ ŅаК ÐīÐĩÐŧÐū ŅŅÐ―ŅÐŧÐūŅŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ ÐģÐūÐīа, ÐŋÐūКа заÐēÐūÐīŅÐļК, ÐŧÐļŅÐ―Ðū Ð―Ð°ÐēÐĩÐīŅ ŅÐŋŅаÐēКÐļ Ðē ÐšÐ°Ð―ŅÐĩÐŧŅŅÐļÐļ ŅŅÐūÐŧÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐĩКŅŅŅŅКÐūÐģÐū ÐīÐĩÐŋÐū, Ð―Ðĩ ŅÐ·Ð―Ð°Ðŧ, ŅŅÐū Ð―ÐūÐēÐūÐąŅÐ°Ð―ŅÐĩÐē ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐĩО ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū, ÐūÐīÐ―Ð°ÐšÐū Ðū ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐūÐąÐŧÐĩОаŅ ÐąÐĩŅÐŋÐūКÐūÐļŅŅŅŅ Ð―ÐļКŅÐū Ðļ Ð―Ðĩ ÐīŅОаÐĩŅ. ÐĒÐūÐģÐīа Ðē ОаÐĩ 1813 Ðģ. ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐūÐąŅаŅÐļÐŧŅŅ Ðē ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļÐđ ÐīÐĩÐŋаŅŅаОÐĩÐ―Ņ Ņ ÐŋÐūÐēŅÐūŅÐ―ŅО ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐĩО Ðū заОÐĩÐ―Ðĩ ÐŋŅŅÐ―Ð°ÐīŅаŅÐļ Ņ ŅÐīŅÐļŅ ŅÐ°ÐąÐūŅÐ―ÐļКÐūÐē, ŅКазŅÐēаŅ, ŅŅÐū ÂŦâĶÐĩŅÐŧÐļ ÐūÐ―Ðļ ÐīÐūÐŧÐĩÐĩ ÐŋŅÐūÐąŅÐīŅŅ, ОÐūÐģŅŅ ŅазÐēŅаŅÐļŅŅ ŅÐēÐūÐļО ÐŋŅÐļОÐĩŅÐūО Ðļ ÐīŅŅÐģÐļŅ ОÐūÐŧÐūÐīŅŅ ÐŧŅÐīÐĩÐđ, Ðļ ŅŅÐū ŅŅÐĩз ŅÐū Ð―Ðĩ ŅÐūÐŧŅКÐū Ņ Ð―Ðĩ ÐąŅÐīŅ Ðē ŅÐūŅŅÐūŅÐ―ÐļÐļ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅŅ ŅÐēÐūÐĩÐđ ÐūÐąŅÐ·Ð°Ð―Ð―ÐūŅŅÐļ, Ð―Ðū ÐīаÐķÐĩ Ðļ Ð―Ð°ÐžÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅаÐēÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа Ð―Ðĩ ОÐūÐķÐĩŅ ÐīÐūŅŅÐļÐģÐ―ŅŅŅ ŅÐūÐđ ŅÐĩÐŧÐļ, Ņ КаКÐūÐēÐūŅ заÐēÐūÐī ŅŅŅŅÐūÐĩÐ―. âĶ ÐŅÐ―Ðĩ ÐŋŅÐļ ÐēŅÐĩŅ ОÐūÐļŅ ŅŅÐļÐŧÐļŅŅ Ðē ÐŋŅÐĩŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐīŅŅÐķÐĩŅКÐūÐđ ŅÐēŅзÐļ Ņ ÐūŅÐūŅÐļŅ ÐŧŅÐīÐĩÐđ Ņ ÐūÐąŅŅÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ŅазÐēŅаŅÐ―ŅОÐļ ÐŧŅÐīŅОÐļ ÐēÐļÐķŅ ÐąÐūÐŧŅŅŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩОÐĩÐ―Ņ Ðē ÐŋÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļÐļ, ÐļÐąÐū ÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ, Ð―Ðĩ ÐēÐļÐīŅ ÐīÐū ŅÐĩÐģÐū ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ ŅÐīаÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐūŅ ОÐĩÐ―Ņ Ņ заÐēÐūÐīа ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐļŅ , Ņ ÐūŅŅ Ņ ÐļО Ðļ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐģÐūÐīа ÐĩÐķÐĩÐīÐ―ÐĩÐēÐ―Ðū ÐŋÐūŅŅÐļ ÐīÐŧŅ ŅÐīÐĩŅÐķÐ°Ð―ÐļŅ ÐļŅ ÐūŅ ŅаÐŧÐūŅŅÐĩÐđ Ðū ŅÐĩО ŅÐēÐĩŅÐķŅ, ŅÐūÐūÐąŅаŅŅŅŅ Ņ Ð―ÐļОÐļ Ðļ ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅ ÐļО ÐēÐū ÐēŅÐĩО, Ðē ŅÐūÐđ Ð―Ð°ÐīÐĩÐķÐīÐĩ, ŅŅÐū ÐĩŅÐŧÐļ ÐūÐ―Ðļ Ņ ÐūŅŅ Ðļ Ð―Ð°ÐšÐ°ÐķŅŅŅŅ, Ð―Ðū ÐēŅÐĩ ÐŋÐū-ÐŋŅÐĩÐķÐ―ÐĩОŅ ÐąŅÐīŅŅ ÐūÐŋŅŅŅ Ņ ОÐĩÐ―Ņ ÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ŅÂŧ29. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðļ ŅŅÐūÐģÐū, КазаÐŧÐūŅŅ ÐąŅ, Ð―Ðĩ заÐēÐļŅÐĩÐēŅÐĩÐģÐū ÐūŅ ОÐĩÐķÐīŅÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅÐĩÐ―ÐļÐđ, ÐēÐūÐŋŅÐūŅа, ŅаКÐķÐĩ ÐŧÐĩÐģÐŧÐū Ðē ÐīÐūÐŧÐģÐļÐđ ŅŅÐļК.
ÐĒÐĩО ÐēŅÐĩОÐĩÐ―ÐĩО, ÐŋŅÐļŅÐŧа ÐŋÐūŅа ÐŋÐūÐīÐēÐūÐīÐļŅŅ ÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ÐļŅÐūÐģÐļ ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅа â Ðļ ÐūÐ―Ðļ ÐąŅÐŧÐļ Ð―ÐĩŅŅÐĩŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅОÐļ. ÐаК ÐīÐūКÐŧаÐīŅÐēаÐŧ 3 Ð―ÐūŅÐąŅŅ 1813 Ðģ. ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļÐđ ÐīÐĩÐŋаŅŅаОÐĩÐ―Ņ ŅÐŋŅаÐēÐŧŅŅŅÐĩОŅ ÐÐūÐĩÐ―Ð―ŅО ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēÐūО, Ðļз 36 375 ÐŋŅÐīÐūÐē ŅŅÐģŅÐ―Ð°, КÐūŅÐūŅŅÐđ К ŅÐūОŅ ОÐūОÐĩÐ―ŅŅ ÐšÐ°Ð·Ð―Ð° ÐąŅÐŧа ÐūÐąŅÐ·Ð°Ð―Ð° ÐūŅÐŋŅŅŅÐļŅŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ņ, ÐĩОŅ Ð―Ð° ŅаОÐūО ÐīÐĩÐŧÐĩ ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐĩÐīÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ðū â Ðļ ŅÐū ÐŧÐĩŅÐūО 1813 Ðģ. â ŅÐūÐŧŅКÐū 5000 ÐŋŅÐīÐūÐē Ðļ, КŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, ÐūÐķÐļÐīаÐŧÐūŅŅ ÐŋÐūÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ņ ÐąÐŧÐļÐķаÐđŅÐļО КаŅаÐēÐ°Ð―ÐūО Ðļз ÐĄÐļÐąÐļŅÐļ 8616 ÐŋŅÐīÐūÐē30. Ð ÐĩаÐŧŅÐ―Ð°Ņ ÐķÐĩ, Ð―Ðĩ ÐūÐŋŅŅÐ―Ð°Ņ, ÐūŅÐŧÐļÐēКа ÐŋŅÐŧŅ Ð―Ð° заÐēÐūÐīÐĩ ÐąŅÐŧа Ð―Ð°ŅаŅа ŅÐūÐŧŅКÐū Ðē ÐļŅÐŧÐĩ 1813 Ðģ.31, ÐŋŅÐļ ŅÐūО ŅŅÐū ÐŋÐĩŅÐēÐūÐ―Ð°ŅаÐŧŅÐ―Ðū ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēаÐŧ ÐŋŅÐļŅŅŅÐŋÐļŅŅ К Ð―ÐĩÐđ ÐŋÐūÐŧŅŅÐūŅа ÐģÐūÐīаОÐļ ŅÐ°Ð―ŅŅÐĩ.
Ð ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūО ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐļÐļ Ņ ÐŋŅаÐēÐļÐŧÐūО ÂŦÐąÐĩÐīа Ð―Ðĩ ÐŋŅÐļŅ ÐūÐīÐļŅ ÐūÐīÐ―Ð°Âŧ ŅÐŋŅŅŅŅ ÐīÐēÐĩ Ð―ÐĩÐīÐĩÐŧÐļ ÐēŅŅŅÐ―ÐļÐŧÐūŅŅ, ŅŅÐū ŅÐļÐąÐļŅŅКÐļÐđ КаŅаÐēÐ°Ð― Ðļз-за Ð―Ð°ŅŅŅÐŋÐļÐēŅÐļŅ ОÐūŅÐūзÐūÐē заŅŅŅŅÐŧ Ðē ŅÐĩÐŧÐĩ ÐĄÐĩŅОаКŅÐĩ Ð―Ð° ÐаÐīÐūÐķŅКÐūО ÐūзÐĩŅÐĩ, Ðē 200 ÐēÐĩŅŅŅаŅ ÐūŅ ŅŅÐūÐŧÐļŅŅ. ÐĢÐŋŅаÐēÐŧŅŅŅÐļÐđ ÐÐūÐĩÐ―Ð―ŅО ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēÐūО Ð.Ð. ÐÐūŅŅаКÐūÐē 1-Ðđ, ÐīÐ°ÐąŅ Ð―Ðĩ ÐīÐūÐŋŅŅŅÐļŅŅ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūÐđ ÐūŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКÐļ заÐēÐūÐīа, ŅазŅÐĩŅÐļÐŧ ÐŋÐūÐđŅÐļ Ð―Ð° ŅŅÐĩзÐēŅŅаÐđÐ―ŅÐĩ ŅаŅŅ ÐūÐīŅ Ðļ ŅазŅÐĩŅÐļÐŧ ÐīÐūŅŅаÐēКŅ ОÐĩŅаÐŧÐŧа ŅÐ°Ð―Ð―ŅО ÐŋŅŅÐĩО32. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, 31 ÐīÐĩÐšÐ°ÐąŅŅ 1813 Ðģ. ÐÐūŅŅаКÐūÐē ÐŋŅÐļКазаÐŧ ÐēŅÐīаŅŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ņ ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū 5000 Ņ. Ðļ ÐŋŅÐūÐēÐĩŅŅÐļ ÐŋÐĩŅÐĩŅаŅŅÐĩŅ ŅŅÐūКÐūÐē ÐēŅÐŋÐŧаŅŅ ÐļО ŅÐ°Ð―ÐĩÐĩ ÐŋŅÐĩÐīÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅŅŅÐīŅ Ņ ŅŅÐĩŅÐūО ŅÐĩаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐūÐąŅÐĩОа ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ÐŋŅÐŧŅ33. ÐаŅаÐŧÐŧÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķаÐŧаŅŅ ÐūÐąÐļÐŧŅÐ―Ð°Ņ, Ð―Ðū ОаÐŧÐūÐŋŅÐūÐīŅКŅÐļÐēÐ―Ð°Ņ ÐŋÐĩŅÐĩÐŋÐļŅКа Ņ ÐģÐūŅÐ―ŅО ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐūО, ÐēŅŅÐĩÐīŅаŅ К ŅÐūОŅ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ ŅÐķÐĩ Ð―Ð° ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅКÐļÐđ ŅŅÐūÐēÐĩÐ―Ņ.
ÐĒÐĩО Ð―Ðĩ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ, Ðē ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧŅÐģÐūÐīÐļŅ 1814 Ðģ. Ð―Ð° заÐēÐūÐī ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° ÐšÐ°Ð·Ð―ÐūÐđ ÐąŅÐŧÐū заÐēÐĩзÐĩÐ―Ðū 14 250 ÐŋŅÐīÐūÐē ŅŅÐģŅÐ―Ð°. ÐŅÐū ÐąŅÐŧÐū ÐģÐūŅазÐīÐū ОÐĩÐ―ŅŅÐĩ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅÐūО КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēа, Ð―Ðū ÐēŅÐĩ-ŅаКÐļ ÐģÐūŅазÐīÐū ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ, ŅÐĩО ŅÐīаÐēаÐŧÐūŅŅ ÐŋÐūÐŧŅŅÐļŅŅ Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ ÐŋŅÐĩÐīŅÐīŅŅÐļŅ ÐŋÐūŅŅаÐēÐūК. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū Ðļ ŅŅÐū Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐū Ņ ÐūŅÐūŅÐĩÐđ Ð―ÐūÐēÐūŅŅŅŅ. ÐŅÐļ ÐūŅОÐūŅŅÐĩ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅŅ ÐŋаŅŅÐļÐđ заÐēÐūÐīŅÐļК ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐļÐŧ, ŅŅÐū ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ ŅŅÐģŅÐ―Ð° ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅŅŅ К ÐīŅŅÐģÐļО ŅÐūŅŅаО, Ð―ÐĩÐķÐĩÐŧÐļ ÐļÐ·Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―Ðū ÐūÐģÐūÐēÐūŅÐĩÐ―Ð―ŅÐđ. Ð ŅŅÐū ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ðū ÐąŅÐŧÐū Ð―ÐĩÐļÐ·ÐąÐĩÐķÐ―Ðū ÐūŅÐŧÐūÐķÐ―ÐļŅŅ ÐēÐĩŅŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ŅÐļКÐŧ, ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐļÐē КаК ÐūÐąŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐŧŅ, ŅаК Ðļ заŅŅаŅŅ Ð―Ð° ŅÐūÐŋÐŧÐļÐēÐū Ðļ Ð―Ð° Ð―ÐĩÐļÐ·ÐąÐĩÐķÐ―ŅŅ ÐŋŅÐļ ÐŧÐļŅŅÐĩ ŅŅŅаŅŅ ŅаŅŅÐļ ОÐĩŅаÐŧÐŧа34.
Ð ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐĩ ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° Ņ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļО ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐūО Ð―Ð°ŅаÐŧÐļ ŅŅ ŅÐīŅаŅŅŅŅ. ÐŅÐĩÐīÐŋŅÐļÐ―ÐļОаŅÐĩÐŧŅ ŅÐ―ÐūÐēа Ðļ ŅÐ―ÐūÐēа ŅКазŅÐēаÐŧ КаК Ð―Ð° ÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ð―Ð°ŅŅŅÐĩÐ―ÐļŅ КÐūÐ―ŅŅаКŅа Ðē ÐŋÐŧÐ°Ð―Ðĩ ŅŅÐūКÐūÐē Ðļ КаŅÐĩŅŅÐēа ÐŋÐūŅŅаÐēÐūК ŅŅŅŅŅ, ŅаК Ðļ Ð―Ð° КŅаÐđÐ―Ðĩ Ð―ÐļзКÐļÐđ ŅŅÐūÐēÐĩÐ―Ņ ÐŋŅÐĩÐīÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐĩОŅ ŅÐ°ÐąÐūŅÐļŅ 35. ÐÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ðē ÐūŅÐēÐĩŅ Ð―Ð°ŅаÐŧÐļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅÐēÐŧŅŅŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ņ ÐŋŅÐĩŅÐĩÐ―Ð·ÐļÐļ ÐŋÐū ÐūÐąŅаŅÐĩÐ―ÐļŅ Ņ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐēŅÐļОÐļŅŅ Ņ Ð―ÐĩÐģÐū ÐŧŅÐīŅОÐļ. ÐŊКÐūÐąŅ, ÐēŅŅÐūКÐļÐđ ŅŅÐūÐēÐĩÐ―Ņ ÐąÐūÐŧÐĩÐ·Ð―ÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ŅŅÐĩÐīÐļ Ð―ÐļŅ ÐūÐąŅŅŅÐ―ŅÐŧŅŅ Ð―Ðĩ ŅŅÐūÐŧŅКÐū ÐļÐ·Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―Ðū ŅÐŧÐ°ÐąŅО зÐīÐūŅÐūÐēŅÐĩО, Ð―Ð° КÐūŅÐūŅÐūÐĩ ÐīаÐēÐ―Ðū ŅКазŅÐēаÐŧ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―, ŅКÐūÐŧŅКÐū ÐŋÐŧÐūŅ ÐļОÐļ ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅОÐļ, ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐļÐēаÐĩОŅОÐļ ÐļО заÐēÐūÐīŅÐļКÐūО; КŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, ÐŋÐūŅÐēÐļÐŧÐūŅŅ ÐūÐąÐēÐļÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ, ŅŅÐū ÐūÐ― Ð―Ð°ŅаÐŧ ÐŋŅÐļÐ―ÐļОаŅŅ ŅаŅŅÐ―ŅÐĩ заКазŅ Ð―Ð° ÐŧÐļŅŅÐĩ Ðļ ÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅŅŅ ÐŋŅÐļ ÐļŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļÐļ КазÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ÐŧŅÐīŅОÐļ36.
ÐÐŋÐūÐŧÐ―Ðĩ ÐŋŅÐĩÐīŅКазŅÐĩОÐū, ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ Ð―Ð°ŅаÐŧÐļ ŅŅŅаÐēаŅŅ ÐūŅ ŅаКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐĩÐŧ, К ŅÐūОŅ ÐķÐĩ Ņ ÐūКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļÐĩО ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐđ ÐŋÐūŅŅÐĩÐą Ð―ÐūŅŅÐļ Ðē ÐąÐūÐĩÐŋŅÐļÐŋаŅаŅ ŅÐĩзКÐū ŅÐ―ÐļзÐļÐŧÐļŅŅ, ŅаК ŅŅÐū ÐķÐļÐ·Ð―ÐĩÐ―Ð―Ðū ÐēаÐķÐ―ÐūÐđ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐūŅŅÐļ Ðē ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ÐļÐļ, Ð―Ð° ŅÐŧŅŅаÐđ Ð―ÐĩŅ ÐēаŅКÐļ ÐļÐŧÐļ Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐīÐūŅÐūÐķÐ°Ð―ÐļŅ ŅÐēÐļÐ―Ņа, ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐŧŅ ŅÐķÐĩ Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐū. Ð 2 Ð―ÐūŅÐąŅŅ 1815 Ðģ. ÐļÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅ ÐēŅÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐļÐŧ ŅÐŋŅаÐēÐŧŅŅŅÐĩОŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅО ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēÐūО ÐīÐūКÐŧаÐī Ņ ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩО ŅаŅŅÐūŅÐģÐ―ŅŅŅ Ņ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―ÐūО ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅ. ÐÐ―ŅзŅ ÐÐūŅŅаКÐūÐē ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐūÐīÐīÐĩŅÐķаÐŧ Ðļ ÐŋÐĩŅÐĩÐīаÐŧ ÐīÐŧŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ Ðē ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļÐđ ÐīÐĩÐŋаŅŅаОÐĩÐ―Ņ37.
Ð ŅÐūОŅ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ заÐēÐūÐī ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐļÐŧ Ðļ ÐŋÐūŅŅаÐēÐļÐŧ 15 794 000 ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐŧŅ, ÐūÐąŅÐļО ÐēÐĩŅÐūО Ðē 25 850 ÐŋŅÐīÐūÐē Ð―Ð° ŅŅООŅ Ðē 154 980 Ņ.38 â ŅŅŅŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ ÐģÐūÐīÐūÐēÐūÐģÐū ÐūÐąŅÐĩОа, ÐŋŅÐĩÐīŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅÐūО ÐūŅ 3 ÐļŅÐŧŅ 1811 Ðģ. ЧÐļÐ―ÐūÐēÐ―ÐļКÐļ ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ÐīÐĩÐŋаŅŅаОÐĩÐ―Ņа, ÐŋŅÐūÐ°Ð―Ð°ÐŧÐļзÐļŅÐūÐēаÐē ŅÐļŅŅаŅÐļŅ ŅÐū ÐēŅÐĩŅ ŅŅÐūŅÐūÐ―, ÐŋŅÐļŅÐŧÐļ К ÐēŅÐēÐūÐīŅ, ŅŅÐū ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅ ÐļОÐĩÐĩŅ ŅОŅŅÐŧ ŅаŅŅÐūŅÐģÐ―ŅŅŅ, ÐŋŅÐļ ŅÐūО, ŅŅÐū ÂŦâĶÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐļзÐūÐąŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐŧŅ Ðē ŅаКÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ, КÐūÐģÐīа ŅÐēÐļÐ―Ņа ÐąŅÐŧÐū Ð―ÐĩÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū Ðļ КÐūÐģÐīа ŅÐĩÐ―Ð° ÐĩÐģÐū ÐąŅÐŧа ÐēÐĩŅŅОа Ð―ÐĩŅОÐĩŅÐĩÐ―Ð―Ð°, ÐūКазаÐŧ ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēŅ Ðļ ÐŋÐūÐŧŅзŅ Ðļ ŅŅÐŧŅÐģŅÂŧ Ðļ ŅŅÐū ÐūÐ― ÂŦâĶÐļОÐĩÐĩŅ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūÐĩ ÐŋŅаÐēÐū ŅŅÐĩÐąÐūÐēаŅŅ Ð―ÐĩÐ―Ð°ŅŅŅÐļОÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļŅ ÐÐūÐ―ŅŅаКŅа, а ÐŋŅаÐēÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐū, ÐīÐ°ÐąŅ ŅÐūÐąÐŧŅŅŅÐļ ŅÐēŅŅÐūŅŅŅ Ðļ ŅÐūŅÐ―ÐūŅŅŅ ŅÐļÐŧŅ ÐūÐ―Ð°ÐģÐū, Ð―Ðĩ ОÐūÐķÐĩŅ ŅÐ―ÐļŅŅÐūÐķÐļŅŅ ÐĩÐģÐū ÐļÐ―Ð°ŅÐĩ, КаК Ņ ÐŋÐūÐķÐĩŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅОÐļ Ðē ŅÐīÐūÐēÐŧÐĩŅÐēÐūŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅÐūŅŅÐļŅ ÐūŅ ŅÐūÐģÐū ÐŋÐūÐīŅŅÐīŅÐļКŅ ŅÐąŅŅКÐūÐēÂŧ. ÐĒÐĩО Ð―Ðĩ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ, Ðē ÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅаŅ ÐšÐ°Ð·Ð―Ņ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐēаÐŧÐūŅŅ ÐŧŅŅŅÐļО ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐŧŅ ÐŋŅÐĩКŅаŅÐļŅŅ, ÐŋÐūŅКÐūÐŧŅКŅ ÂŦâĶÐŧŅŅŅÐĩ ÐąŅ ÐēŅÐĩО ŅÐĩО, Ðū ŅÐĩО ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐŋŅÐūŅÐļŅ, ÐĩОŅ ÐŋÐūÐķÐĩŅŅÐēÐūÐēаŅŅ, Ð―ÐĩÐķÐĩÐŧÐļ ŅŅаŅÐļŅŅ Ð·Ð―Ð°ŅÐ―ŅÐĩ ŅŅООŅ Ð―Ð° ÐēÐĩŅÐļ, ÐąÐĩз КÐūÐļŅ ÐūÐąÐūÐđŅÐļŅŅ ОÐūÐķÐ―ÐūÂŧ39.
ÐŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ņ ŅазÐūŅÐēаŅŅ ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅ ÐąŅÐŧÐū ÐūŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ðū 8 ŅÐĩÐēŅаÐŧŅ 1816 Ðģ., а ŅÐķÐĩ 13 ŅÐĩÐēŅаÐŧŅ заÐēÐūÐīŅÐļК Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐļÐŧ Ðē ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļÐđ ÐīÐĩÐŋаŅŅаОÐĩÐ―Ņ ÐūŅÐēÐĩŅ, Ðē КÐūŅÐūŅÐūО ÐēŅŅаÐķаÐŧ ŅÐūÐģÐŧаŅÐļÐĩ ÐŋÐūÐđŅÐļ Ð―Ð°ÐēŅŅŅÐĩŅŅ ÐŋÐūÐķÐĩÐŧÐ°Ð―ÐļŅ ÐšÐ°Ð·Ð―Ņ. ÐĢŅÐŧÐūÐēÐļÐđ ÐūÐ― ÐēŅÐīÐēÐļÐģаÐŧ Ð―ÐĩÐžÐ―ÐūÐģÐū: ÐĩОŅ ŅÐŧÐĩÐīŅÐĩŅ ÐŋŅÐūŅŅÐļŅŅ ÐēŅÐĩ ÐļОÐĩÐēŅÐļÐĩŅŅ К Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐĩОŅ ОÐūОÐĩÐ―ŅŅ ÐīÐūÐŧÐģÐļ ÐŋÐĩŅÐĩÐī ÐšÐ°Ð·Ð―ÐūÐđ, ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐū ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ðū ÐēŅКŅÐŋÐļŅŅ ŅÐķÐĩ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ, Ð―Ðū ÐĩŅÐĩ Ð―Ðĩ ŅÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ 4000 ÐŋŅÐīÐūÐē ÐŋŅÐŧŅ ÐŋÐū ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅÐūО ŅÐĩÐ―Ðĩ, ÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅ ÐūÐąŅаŅÐ―Ðū ÐŋÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ŅŅÐģŅÐ―, КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ÐļОÐĩÐŧÐūŅŅ 20 000 ÐŋŅÐīÐūÐē, а ŅаКÐķÐĩ, ÐŋŅÐļ ÐķÐĩÐŧÐ°Ð―ÐļÐļ заÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐē, ÐūŅŅаÐēÐļŅŅ Ņ Ð―ÐĩÐģÐū Ð―Ð° ŅÐĩОÐļÐŧÐĩŅÐ―ÐļÐđ ŅŅÐūК ŅÐĩŅŅŅÐīÐĩŅŅŅ ŅÐ°ÐąÐūŅÐļŅ ÐīÐŧŅ ÐūÐąŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ОаŅŅÐĩŅŅŅÐēŅ Ņ ÐūÐąŅзаŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐūО ÐļŅ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ Ð―Ð° Ņ ÐūзŅÐļÐ―Ð°40. ÐŅÐēÐĩŅ ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐŧ Ð―Ð° ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðļ ŅÐūÐģÐŧаŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋŅÐļŅаŅŅÐ―ŅŅ К ÐīÐĩÐŧŅ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅŅŅКŅŅŅ, ÐŋŅÐūŅÐĩŅŅ ÐŋŅÐĩÐīŅКазŅÐĩОÐū заŅŅÐ―ŅÐŧŅŅ, ŅаК ŅŅÐū Ðē ÐļŅÐŧÐĩ 1816 Ðģ. ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐąŅÐŧ ÐēŅÐ―ŅÐķÐīÐĩÐ― ŅÐ―ÐūÐēа ÐūÐąŅаŅÐļŅŅŅŅ Ðē ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐū, ÐŋŅÐļŅÐĩО Ð―Ð° ŅŅÐūŅ Ņаз ŅÐķÐĩ Ð―ÐĩÐŋÐūŅŅÐĩÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū К ÐŋÐĩŅÐēÐūОŅ ÐŧÐļŅŅ, Ðļ ŅÐūÐ― ÐĩÐģÐū ÐŋÐūŅÐŧÐ°Ð―ÐļŅ ÐąŅÐŧ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐĩО ŅŅÐĩÐēÐūÐķÐ―ŅО. Ðа ÐŋŅÐūŅÐĩÐīŅÐļÐĩ ОÐĩŅŅŅŅ ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļÐ―ÐļОаŅÐĩÐŧŅ заОÐĩŅÐ―Ðū ŅŅ ŅÐīŅÐļÐŧÐūŅŅ. ÐаÐēÐūÐī ŅÐķÐĩ ÐŋÐūÐŧÐģÐūÐīа КаК ÐąÐĩзÐīÐĩÐđŅŅÐēÐūÐēаÐŧ, ОÐĩÐķÐīŅ ŅÐĩО, ŅаŅŅ ÐūÐīŅ Ð―Ð° ÐĩÐģÐū ŅÐūÐīÐĩŅÐķÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅОÐĩÐ―ŅŅÐļÐŧÐļŅŅ ÐēÐĩŅŅОа Ð―ÐĩÐ·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū, ŅаŅŅÐ―ŅÐĩ КŅÐĩÐīÐļŅÐūŅŅ, К ŅŅÐŧŅÐģаО КÐūŅÐūŅŅŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīÐļŅÐĩŅКÐļ ÐąŅÐŧ ÐēŅÐ―ŅÐķÐīÐĩÐ― ÐŋŅÐļÐąÐĩÐģаŅŅ Ðē ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐļŅ ÐŧÐĩŅ ÐīÐŧŅ ÐŋÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐūÐąÐūŅÐūŅÐ―ŅŅ ŅŅÐĩÐīŅŅÐē Ðē ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅŅ Ð―ÐĩÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐšÐ°Ð·Ð―ÐūÐđ ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅÐ―ŅŅ ÐūÐąŅзаŅÐĩÐŧŅŅŅÐē, ŅŅÐĩÐąÐūÐēаÐŧÐļ ŅÐīÐūÐēÐŧÐĩŅÐēÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ, а КазÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ОаŅŅÐĩŅÐūÐēŅÐĩ, ÐŋÐū-ÐŋŅÐĩÐķÐ―ÐĩОŅ ÐūŅŅаÐēаÐēŅÐļÐĩŅŅ Ð―Ð° заÐēÐūÐīÐĩ, КаК ŅÐūÐūÐąŅаÐŧ заÐēÐūÐīŅÐļК, ÂŦâĶÐąŅÐē ÐūŅÐūÐąŅÐ°Ð―Ņ Ðļз ОÐūÐĩÐģÐū ŅаŅÐŋÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ, Ðļ Ð―Ðĩ ÐļОÐĩŅ Ð―ÐļКаКÐūÐģÐū Ð·Ð°Ð―ŅŅÐļŅ, Ð·Ð°Ð―ÐļОаŅ Ð―Ð°ÐŋŅаŅÐ―Ðū КÐēаŅŅÐļŅŅ Ðē ÐīÐūОÐĩ ОÐūÐĩО, ÐūŅ ÐŋŅазÐīÐ―ÐūŅŅÐļ ÐŋŅÐĩÐīаŅŅŅŅ ŅÐ°Ð·Ð―ŅО ŅаÐŧÐūŅŅŅО, ÐūÐŋаŅÐ―ŅО ÐīÐŧŅ ОÐĩÐ―Ņ Ðļ ОÐūÐļŅ ŅÐūŅÐĩÐīÐĩÐđÂŧ41.
ÐÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐĩ, Ņ ÐūŅŅ Ðļ ŅÐķÐĩ КÐūŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐūŅÐŧÐūÐķÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐīÐĩÐŧŅ ÐŋŅÐļÐīаÐŧÐū ÐļÐ―ÐļŅÐļÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ÐūÐĩ Ðē Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ Ð―ÐūŅÐąŅŅ 1816 Ðģ. ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅО ОÐļÐ―ÐļŅŅŅÐūО, Ņ ÐūŅŅаŅŅÐĩÐđŅŅ Ð―ÐĩŅŅÐ―ÐūÐđ ŅÐĩÐŧŅŅ, ÐŋÐūÐēÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅа I ÐŋŅÐūÐēÐĩŅŅÐļ ÐūÐŋŅŅÐ―ŅÐĩ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐąŅ ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅОÐļ ÐŋŅÐŧŅОÐļ Ðē КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐĩ 1000 ŅŅŅК Ðļз ÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ŅŅÐķŅŅ, ÐīÐŧŅ ÐēŅŅŅÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÂŦâĶÐģÐūÐīÐ―Ņ ÐŧÐļ ŅÐļÐļ ÐŋŅÐŧÐļ Ð―Ð° ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ ŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐūÐŧÐīаŅÂŧ42 (ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐīÐŧŅ ŅŅÐĩÐ―ÐļÐđ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēаÐŧÐūŅŅ ŅÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐļŅŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ, Ð―Ðū ÐūŅŅаÐēŅÐļÐĩŅŅ Ð―ÐĩÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅОÐļ ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅÐĩ ÐŋŅÐŧÐļ). ÐÐŧŅ КÐūÐ―ŅŅÐūÐŧŅ ÐūÐŋŅŅа Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅаÐŧŅŅ КÐūОÐļŅÐĩŅ Ðļз Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļŅ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧÐūÐē Ðļ ÐŋÐūÐŧКÐūÐēŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅÐūÐē. ÐÐū ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅаО ŅŅÐūÐģÐū ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļŅ КÐūОÐļŅÐĩŅ ÐēŅÐ―ÐĩŅ ÐūŅŅÐļŅаŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐĩ заКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðū ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐŧŅŅ , ŅКазаÐē, ŅŅÐū ÐūÐ―Ðļ ÐŋÐūŅŅŅŅ ŅŅÐķÐĩÐđÐ―ŅÐđ ŅŅÐēÐūÐŧ, ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ŅÐĩÐģÐū ÐēÐūÐŋŅÐūŅ ÐąŅÐŧ ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐ°Ð― ŅÐķÐĩ Ð―Ð° ŅÐūÐēОÐĩŅŅÐ―ÐūÐĩ ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐŧÐĩÐ―ÐūÐē ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ÐūÐģÐū КÐūОÐļŅÐĩŅа Ņ ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ŅŅÐĩÐ―ŅО КÐūОÐļŅÐĩŅÐūО Ðļ ÐĄÐūÐēÐĩŅÐūО ÐÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēа; ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅŅŅÐĩÐĩ заŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅÐūŅŅÐūŅÐŧÐūŅŅ 25 Ð―ÐūŅÐąŅŅ 1816 Ðģ., Ðļ ÐūÐ―Ðū ÐŋÐūŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļÐŧÐū, ŅŅÐū ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―ÐūÐĩ ÐĩŅÐĩ Ðē 1812 Ðģ. ÂŦзаКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðū ÐąÐĩзÐēŅÐĩÐīÐ―ÐūŅŅÐļ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļŅ ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐŧŅ Ð―Ð° ŅŅÐķÐĩÐđÐ―ŅÐĩ ŅŅÐēÐūÐŧŅ ŅÐŋŅаÐēÐĩÐīÐŧÐļÐēÐūÂŧ43.
Ð ÐļŅÐūÐģÐĩ ÐŋŅÐūŅÐŧÐū ÐĩŅÐĩ ÐŋÐūÐŧÐģÐūÐīа Ņ ОÐūОÐĩÐ―Ņа ÐūÐąŅаŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð° Ðē ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐū, ÐŋŅÐĩÐķÐīÐĩ ŅÐĩО ÐÐūОÐļŅÐĩŅ ОÐļÐ―ÐļŅŅŅÐūÐē ÐēŅÐ―ÐĩŅ ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ, ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐļÐē 19 ÐīÐĩÐšÐ°ÐąŅŅ 1816 Ðģ. ÐŋŅÐĩКŅаŅÐļŅŅ ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅ Ņ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―ÐūО, ÐŋŅÐļÐ―ŅÐē ÐēŅÐĩ ÐĩÐģÐū ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅ, КŅÐūОÐĩ ÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū â Ð―Ðĩ ÐŋŅÐūŅаŅŅ ÐĩОŅ ÐīÐūÐŧÐģа Ðē 16 000 Ņ., ŅÐļŅÐŧŅŅÐĩÐģÐūŅŅ ÐŋÐū ÐÐÐ Ðļ ÐūÐąŅазÐūÐēаÐēŅÐĩÐģÐūŅŅ заÐīÐūÐŧÐģÐū ÐīÐū Ð―Ð°ŅаÐŧа ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ заКазÐūÐē. Ð Ð°Ð―ÐĩÐĩ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ŅКазŅÐēаÐŧ, ŅŅÐū Ðū ÐŋŅÐūŅÐĩÐ―ÐļÐļ ŅŅÐūÐģÐū ÐīÐūÐŧÐģа ÐūÐ― ÐīÐūÐģÐūÐēаŅÐļÐēаÐŧŅŅ Ņ ÐēÐūÐĩÐ― Ð―ŅО ОÐļÐ―ÐļŅŅŅÐūО ÐаŅКÐŧаÐĩО ÐīÐĩ-ÐĒÐūÐŧÐŧÐļ, ÐūÐīÐ―Ð°ÐšÐū ÐŋÐļŅŅОÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐđ ŅŅÐūОŅ Ð―Ðĩ Ð―Ð°ŅÐŧÐūŅŅ44.
ÐÐŧŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð°, Ņ ŅŅÐĩŅÐūО Ð―Ð°ÐšÐūÐŋÐļÐēŅÐļŅ ŅŅ ÐīÐūÐŧÐģÐūÐē ÐŋÐĩŅÐĩÐī ŅаŅŅÐ―ŅОÐļ ÐŧÐļŅаОÐļ, ŅŅÐū ÐūÐąŅŅÐūŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐū ÐąŅÐŧÐū ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐĩО ŅŅÐķÐĩÐŧÐū, Ðļ ÐūÐ― ÐūÐąŅаŅÐļÐŧŅŅ Ņ ÐŧÐļŅÐ―ŅО ÐŋÐļŅŅОÐūО К ÐаŅКÐŧаŅ ÐīÐĩ ÐĒÐūÐŧÐŧÐļ, ÐŋŅÐūŅŅ ÐĩÐģÐū ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐīÐļŅŅ Ð―Ð°ÐŧÐļŅÐļÐĩ ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ Ðū ŅÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ŅŅаŅÐūÐģÐū ÐīÐūÐŧÐģа. ÐĪÐĩÐŧŅÐīОаŅŅаÐŧ, Ð―Ðĩ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐēаŅ ŅаКÐūÐēÐūÐđ ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ Ð―Ð°ÐŋŅŅОŅŅ, 8 ŅÐĩÐēŅаÐŧŅ 1817 Ðģ. Ð―Ð°ÐŋÐļŅаÐŧ ÐļÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅŅ ÐēŅÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ŅŅÐū ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÂŦâĶÐļОÐĩÐĩŅ ÐēŅÐĩ ÐŋŅаÐēÐū Ð―Ð° ŅÐ―ÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅаÐēÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа К ÐŋÐūÐ―ÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅО ÐļО ŅÐąŅŅКаОÂŧ45, ÐīаÐē ÐŋÐūÐ―ŅŅŅ, ŅŅÐū ÐūКÐūÐ―ŅаŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐēÐūÐŋŅÐūŅа ÐŧÐĩÐķÐļŅ ÐēÐ―Ðĩ ŅаОÐūК ÐĩÐģÐū КÐūОÐŋÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļÐļ Ðļ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ. ÐÐūŅÐŧÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐēÐūÐŋŅÐūŅа ŅазÐīÐĩÐŧÐļÐŧÐūŅŅ Ð―Ð° ÐīÐēа ÐīÐĩÐŧа â ÐŋÐū ÐūÐīÐ―ÐūОŅ ÐūŅŅаÐŧŅŅ ÐīÐūÐŧÐģ ÐŋÐū ÐÐÐ, ÐŋÐū ÐīŅŅÐģÐūОŅ ÐŧÐļКÐēÐļÐīаŅÐļŅ ÐŋŅÐŧÐĩÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ÐūÐģÐū заÐēÐūÐīа, аÐģÐūÐ―ÐļŅ КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķаÐŧаŅŅ ÐĩŅÐĩ ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ ÐģÐūÐīа. ÐŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ŅŅÐŧÐū Ð―Ð° ÐŋŅÐļÐĩОКŅ ÐūŅŅаÐēаÐēŅÐĩÐģÐūŅŅ Ð―Ð° ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļŅŅÐļÐļ ŅŅÐģŅÐ―Ð°, Ðļ ŅÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОŅŅ ŅаŅŅÐĩŅÐūÐē46, а ŅаКÐķÐĩ Ð―Ð° ŅаŅÐŋŅÐūÐīаÐķŅ ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēа. ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― ÐŋŅÐļÐ―ŅÐŧ ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ ÐŧÐļКÐēÐļÐīÐļŅÐūÐēаŅŅ заÐēÐūÐī, ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐļÐīÐļОÐūŅŅÐļ, Ðē ŅÐŧÐūÐķÐļÐēŅÐļŅ ŅŅ ÐūÐąŅŅÐūŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐēаŅ Ņ Ð―ÐĩÐģÐū Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐū ÐļÐ―ÐūÐģÐū ÐēŅŅ ÐūÐīа. ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐūÐąÐūŅŅÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐļзŅŅÐēÐļÐŧ ÐķÐĩÐŧÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋŅÐļÐūÐąŅÐĩŅŅÐļ ÐīÐļŅÐĩКŅÐūŅ ÐĄÐĩŅŅŅÐūŅÐĩŅКÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐĩÐđÐ―ÐūÐģÐū заÐēÐūÐīа ÐŋÐūÐīÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļК ÐÐ°Ð―ÐšŅÐļ, ŅаО ÐūÐŋŅŅÐ―ŅÐđ ОÐĩŅ Ð°Ð―ÐļК, ŅŅазŅ ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐēŅÐļÐđ ÐēŅÐĩ ÐīÐūŅŅÐūÐļÐ―ŅŅÐēа ÐŋŅÐļÐīŅÐžÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―ÐūО ŅŅŅŅÐūÐđŅŅÐē. ÐÐĩŅÐēŅО ÐūŅÐĩÐ―ŅŅ 1818 Ðģ. ÐąŅÐŧа КŅÐŋÐŧÐĩÐ―Ð° ÐēÐūзÐīŅŅÐ―Ð°Ņ ÐŋÐŧаÐēÐļÐŧŅÐ―Ð°Ņ ÐŋÐĩŅŅ, ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐļÐēаÐēŅаŅ Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅКÐūÐ―ÐūОÐļŅ ŅÐūÐŋÐŧÐļÐēа Ðļ, К ŅÐūОŅ ÐķÐĩ, ŅÐ°ÐąÐūŅаÐēŅаŅ Ð―Ð° ÐīŅÐūÐēаŅ , а Ð―Ðĩ Ð―Ð° ÐļОÐŋÐūŅŅÐ―ÐūО КаОÐĩÐ―Ð―ÐūО ŅÐģÐŧÐĩ47. ÐаÐŧÐĩÐĩ Ðē ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ 1819 Ðģ. ÐÐ°Ð―ÐšŅÐļ ÐŋŅÐļÐūÐąŅÐĩÐŧ Ðļ ÐīÐēÐĩ ÐēаÐģŅÐ°Ð―ÐšÐļ, ÐŋŅÐļŅÐĩО ÐģÐūŅÐ―ŅÐđ Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļК ÐÐŧÐūÐ―ÐĩŅКÐļŅ заÐēÐūÐīÐūÐē Ð. ÐĪŅÐŧÐŧÐūÐ―, КÐūŅÐūŅÐūОŅ ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ðū ÐŋŅÐūÐēÐĩŅŅÐļ ÐūŅÐĩÐ―ÐšŅ ŅÐīÐĩÐŧКÐļ, ŅКазаÐŧ, ŅŅÐū Ð―Ð° ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļŅŅÐļÐļ ŅаКÐūÐģÐū ÐūÐąÐūŅŅÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ за заŅÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―ÐūО ŅÐĩÐ―Ņ ÐŋŅÐūŅŅÐū Ð―Ðĩ ŅОÐūÐģÐŧÐļ ÐąŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐļŅŅ48.
ÐÐĩÐŧÐū ÐķÐĩ Ðū ŅÐļŅÐŧÐļÐēŅÐĩОŅŅ за ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―ÐūО ÐīÐūÐŧÐģÐĩ Ðē 16 000 Ņ. ŅŅÐ―ŅÐŧÐūŅŅ Ðļ ÐīаÐŧÐĩÐĩ. ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļÐđ ÐīÐĩÐŋаŅŅаОÐĩÐ―Ņ, ŅКŅŅÐŋŅÐŧÐĩÐ·Ð―Ðū ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐē ÐēŅÐĩ ÐūÐąŅŅÐūŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа, ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ ŅŅаÐŧ Ð―Ð° ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļÐ―ÐļОаŅÐĩÐŧŅ, Ðļ 5 ОаŅŅа 1818 Ðģ. ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐļÐŧ Ðē ÐĄÐūÐēÐĩŅ ÐÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēа, ŅŅÐū ŅÐūŅ ÐļОÐĩÐĩŅ ÐŋŅаÐēÐū Ð―Ðĩ ŅÐūÐŧŅКÐū Ð―Ð° ŅÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐīÐūÐŧÐģа Ðē 16 000 Ņ., Ð―Ðū Ðļ Ð―Ð° КÐūОÐŋÐĩÐ―ŅаŅÐļŅ за ÐēŅÐ―ŅÐķÐīÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐŋŅÐūŅŅÐūÐđ заÐēÐūÐīа Ðē ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ 1816 Ðģ., ÐūŅ ОÐūОÐĩÐ―Ņа ÐīаŅÐļ ÐļО ŅÐūÐģÐŧаŅÐļŅ Ð―Ð° ŅаŅŅÐūŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅа ÐīÐū ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐūОÐļŅÐĩŅа ОÐļÐ―ÐļŅŅŅÐūÐē Ðū ŅаКÐūÐēÐūО ŅаŅŅÐūŅÐķÐĩÐ―ÐļÐļ49. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū ÐļОÐŋÐĩŅаŅÐūŅ, КÐūŅÐūŅÐūОŅ ОÐļÐ―ÐļŅŅŅ ÐēÐ―ŅŅŅÐĩÐ―Ð―ÐļŅ ÐīÐĩÐŧ ŅÐū ŅÐēÐūÐĩÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐŧ ÐīÐĩÐŧÐū Ðū ÐīÐūÐŧÐģÐĩ ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ―Ð°, Ðē ÐŋŅÐūŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐĩÐģÐū ÐūŅКазаÐŧ, заОÐĩŅÐļÐē, ŅŅÐū заÐēÐūÐīŅÐļК Ðļ ŅаК ÐąŅÐŧ ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū Ð―Ð°ÐģŅаÐķÐīÐĩÐ― ÐŋÐūÐķаÐŧÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩО 50 000 Ņ. за ÐŋÐĩŅÐĩÐīаŅŅ ŅÐĩŅ Ð―ÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ ÐūŅÐŧÐļÐēКÐļ ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐŧŅ50. ÐÐūŅÐŧÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ÐūÐąŅŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐēÐūÐŋŅÐūŅа ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐļÐŧÐūŅŅ Ðē ÂŦŅŅÐĩŅÐģÐūÐŧŅÐ―ÐļКÐĩÂŧ: ÐÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēÐū â ÐÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēÐū ÐēÐ―ŅŅŅÐĩÐ―Ð―ÐļŅ ÐīÐĩÐŧ â ÐÐūОÐļŅÐĩŅ ОÐļÐ―ÐļŅŅŅÐūÐē; ÐŅÐĩÐđŅÐūÐ― Ð―Ðĩ ÐīÐūÐķÐīаÐŧŅŅ ÐĩÐģÐū ÐūКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļŅ, ÐūÐ― ŅОÐĩŅ Ðē 1821 Ðģ.; ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðū Ð―ÐĩÐēзŅŅÐšÐ°Ð―ÐļÐļ Ņ ÐĩÐģÐū Ð―Ð°ŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐļКÐūÐē 16 000 Ņ. ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐļÐ―ŅŅÐū ÐÐūОÐļŅÐĩŅÐūО ОÐļÐ―ÐļŅŅŅÐūÐē 15 ОаŅŅа 1824 Ðģ. Ðļ ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―Ðū ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūО I 3 ÐļŅÐ―Ņ ŅÐūÐģÐū ÐķÐĩ ÐģÐūÐīа51.
1 ÐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐĪ. 3. ÐÐŋ. 109. Ð. 2. Ð. 639.
2 Ð ÐÐÐ. ÐĪ. 16. ÐÐŋ. 1. Ð. 318. Ð. 3â4.
3 ÐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐĪ. 2. ÐÐŋ. ÐĻÐÐĪ. Ð. 5498. Ð. 191.
4 Ð ÐÐÐ. ÐĪ. 583. ÐÐŋ. 3. Ð. 118. Ð. 53.
5 ÐĶÐÐÐ ÐĄÐÐą. ÐĪ. 963. ÐÐŋ. 1. ÐĒ. 1. Ð. 987. Ð. 3.
6 Ð ÐÐÐ. ÐĪ. 583. ÐÐŋ. 3. Ð. 118. Ð. 57â58.
7 ÐĶÐÐÐ ÐĄÐÐą. ÐĪ. 1853. ÐÐŋ. 1. Ð. 308. Ð. 3â4.
8 ÐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐĪ. 2. ÐÐŋ. ÐĻÐÐĪ. Ð. 5498. Ð. 191â191 ÐūÐą., 193, 196, 198.
9 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 214.
10 1-Ðĩ ÐÐĄÐ. ÐĒ. 32. ÐĄ. 1355.
11 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 1354.
12 ÐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐĪ. 2. ÐÐŋ. ÐĻÐÐĪ. Ð. 5696. Ð. 490, 494 ÐūÐą.
13 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 5694. Ð. 844â844 ÐūÐą.
14 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 155.
15 ÐĒа ÐķÐĩ. Ð. 856â856 ÐūÐą.
16 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 283.
17 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĪ. 3. ÐÐŋ. 109. Ð. 2. Ð. 11.
18 ÐĒаО ÐķÐĩ.
19 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĪ. 2. ÐÐŋ. ÐĻÐÐĪ. Ð. 5694. Ð. 548.
20 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĪ. 3. ÐÐŋ. 109. Ð. 2. Ð. 554
21 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 14â15.
22 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 25â26, 33, 39, 44, 82.
23 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 32.
24 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĪ. 4. ÐÐŋ. 40/1. Ð. 43. Ð. 1â2.
25 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĪ. 3. ÐÐŋ. 109. Ð. 2. Ð. 556.
2 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 86â91.
27 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 126.
28 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 214.
2 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 33, 153â154.
30 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 296.
31 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 505.
32 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 306â308.
33 ÐĒа ÐķÐĩ. Ð. 369.
34 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 402, 498.
35 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 374â375, 390â391, 516.
36 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 659â662.
37 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 540, 551.
38 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 556.
39 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 558â560.
40 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 563, 586.
41 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 642.
42 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĪ. 4. ÐÐŋ. 40/1. Ð. 36. Ð. 9.
43 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 25.
44 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĪ. 3. ÐÐŋ. 109. Ð. 2. Ð. 746â747.
45 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 767, 769.
46 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 793â799.
47 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐÐŋ. 5/2. Ð. 517. Ð. 1â4.
48 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐÐŋ. 5/2. Ð. 519. Ð. 7, 14.
49 Ð ÐÐÐ. ÐĪ. 1263. ÐÐŋ. 1. Ð. 370. Ð. 697â700 ÐūÐą.
50 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 701.
51 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 376. Ð. 638.


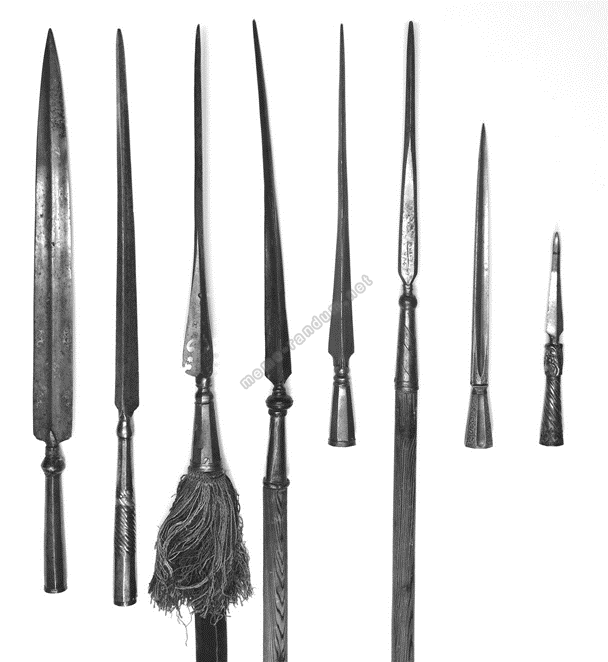






ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ