С.А. Кочуков (Саратов) РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877–1878 гг. В КОРРЕСПОНДЕНЦИЯХ КНЯЗЯ Л.В. ШАХОВСКОГО
Управление культуры Минобороны России Российская Академия ракетных и артиллерийских наук Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
Часть IIIСанкт-Петербург
©ВИМАИВиВС, 2016
©Коллектив авторов, 2015
© СПбГУПТД, 2016
Возникновение в середине 70-х гг. XIX в. очередного конфликта на Балканском полуострове заставило российскую печать несколько по-иному относиться к этому событию, чем к Крымской кампании. Если известия с театров Крымской войны приходили в центральную Россию с большим опозданием и, как правило, «из рук» иностранцев, то перед началом новой войны с Турцией русское общество вполне обоснованно требовало больше информации. С другой стороны, правящая элита Россия старалась влиять на общественное мнение страны через «средства массовой информации» – прессу.
В отечественной и мировой историографии события на Балканском полуострове изучены достаточно подробно, однако нет ни одной полномасштабной работы, где бы рассматривалась деятельность корреспондентов в войне 1877–1878 гг. Дореволюционные исследования были представлены лишь работой В.А. Апушкина1, про которого говорили, что «Апушкин – лучшее, что есть среди военных…»2. В советское время проблема деятельности корреспондентов на фронтах кампании 1877–1878 гг. ограничилась небольшой обзорной статьей О.А. Яковлева3 и двумя диссертационными исследованиями4. Эти работы отличаются тем, что в них рассматриваются одни и те же корреспонденты: В.И. Немирович-Данченко, Н.В. Максимов и В.В. Крестовский. Тем не менее, круг «газетчиков» на театре военных действий был достаточно широк и каждый по-своему видел «ужасы войны» и также по-своему старался представить «природу» очередного Балканского кризиса. Проблема появления корпуса военных корреспондентов в России автором данной статьи была деталь но рассмотрена в ряде исследований5.
Некоторые представители прессы в армии в 1877–1878 гг. в исследовательской литературе не рассматривались. К их числу можно с уверенностью отнести корреспондента газеты «Московские ведомости» князя Л.В. Шаховского.
Действительно, ни в работах В.А. Апушкина6, ни в известной статье О.А. Яковлева7 об этом «газетчике» нет ни слова. Он упоминается лишь в монографии В.А. Золотарева, который считает, что в корреспонденциях Шаховского нет ни серьезного анализа боевых действий, ни сколько-нибудь примечательных наблюдений8. При беглом взгляде на эти материалы может сложиться такое впечатление, но известно, что наблюдения князя пользовались в России большой популярностью. Кроме того, сам корреспондент отнюдь не считал свои труды идеальными. Уже в предисловии к первому изданию своей книги он отмечал: «Предлагаемое сочинение есть сбор корреспонденций, написанных мною с театра войны в «Московские ведомости». Пусть читатель не ищет в них ни полноты, ни точности, ни последовательного изложения военных событий, которых я был очевидцем. Это – просто ряд впечатлений, записанных мною во время моего пребывания в отрядах генерала Гурко, во время его первого похода за Балканы, его деятельности под Плевной и второго похода за Балканы»9.
До начала Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. кн. Шаховской служил в Министерстве иностранных дел. По свидетельству современников, его относили в разряд либералов10. Однако, его взгляды кардинально изменились после того, как он «женился по страстной любви»11 на старшей дочери М.Н. Каткова. Тесная близость с семьей Каткова оказала на кн. Шаховского серьезное влияние. Авторитет Каткова в печатной среде был чрезвычайно велик. Издатель «Московских ведомостей» проявлял значительный интерес к новому противостоянию России с Османской империей. События на Балканском полуострове полностью «поглотили» Каткова. Его взгляды, представленные на страницах «Московских ведомостей», по свидетельству современников, «…владели умами и сердцами многих. Никто лучше него не выражал то, что чувствовали мы все, а потребность в отрезвлении после ряда фальшивых нот – была очень велика»12. М.Н. Катков увлекся балканскими проблемами настолько, что пытался основательно разобраться во всей хитросплетениях международной обстановки в Европе.
К вопросу освобождения балканских народов от власти Турции Катков впервые обратился в начале 70-х гг. XIX в., когда теория панславизма переживала второе рождение. Он подверг жесткой критике деятельность Славянского благотворительного комитета, и в частности его лидера И.С. Аксакова. М.Н. Катков считал, что Славянские комитеты помогали балканским славянам лишь теоретически, а необходима помощь сугубо военная, силовая. Русская помощь братьям славянам, по мнению Каткова, не имела организации, аксаковские комитеты не принимались в расчет, так как их деятельность ограничивалась лишь сбором средств, а русские добровольцы в Сербии и Болгарии слишком малочисленны, чтобы изменить сложившееся там положение. Такая ситуация, на взгляд редактора «Московских ведомостей», была следствием отсутствия ясной позиции русского правительства: «…правительство наше, оставаясь верным своим международным обязательствам, не принимало никакого участия в направлении добровольного движения русских людей на личные жертвы. Оно только не препятствовало ему, потому что никто же не мог ожидать, чтобы русское правительство, единое со своим народом, шло против лучших и святейших его стремлений»13.
Безусловно, близкое знакомство с Катковым ко многому обязывало. Вероятнее всего это и явилось одной из причин появления кн. Шаховского на Дунайском фронте в 1877 г. Мемуарист и корреспондент Г.А. Де-Воллан в своих воспоминаниях отмечал, что такой человек как Шаховской подходил как нельзя лучше на роль проводника идей Каткова: «… сам Лев Владимирович не был ни оратором, ни писателем, а только иногда восторженным глашатаем какой-нибудь истины, но во всяком случае, это был в высшей степени порядочный и хороший человек»14.
Л.В. Шаховской пополнил ряды корпуса военных корреспондентов сравнительно поздно. Если в Генеральный штаб стали поступать прошения со стороны «печатной братии» об их присутствии в армии еще с весны 1876 г., то Шаховской оказался непосредственно в войсках с середины лета 1877 г. Первая его корреспонденция датируется 13 июля 1877 г., а последняя – 16 января 1878 г. Таким образом, Лев Владимирович пропустил лишь само начало боевых действий и переправу через Дунай.
Штаб Действующей армии всеми силами старался взять под контроль действия русских корреспондентов. Последние могли распространять непроверенную информацию и тем самым вводить в заблуждение русское общество («если и не будут (корреспонден ты. – С.К.) допущены в армию, все же найдут возможность сле дить за ней издали и сообщать о ней слухи, вместо достоверных сведений»)15. В самом руководстве русской армии были убеждены, что пресса выполняет серьезную миссию. В частности, полковник М.А. Газенкампф, который являлся автором правил поведения военных корреспондентов в русской армии, считал: «Общественное мнение в настоящее время – такая сила, с которой нельзя не считаться, газетные же корреспонденты влиятельнейших органов печати суть могущественные двигатели и даже создатели этого мнения, лучше стараться расположить корреспондентов в свою пользу, не ставя им таких требований, которым не согласятся подчиниться именно самые влиятельные и талантливые»16.
По сравнению с другими военными корреспондентами Шаховской был в заведомо более выигрышном положении. Это объясняется тем, что он непосредственно находился в действующих частях, на передовой, а не при Главном штабе Действующей армии. Безусловно, у него до 1877 г. не было опыта работы в действующих частях непосредственно на театре боевых действий. Но подобного опыта не было ни у кого из русских корреспондентов.
Не менее важным оказался вопрос о профессионализме будущих «летописцев» войны с Турцией. Главное, чего не хватало русским корреспондентам – это школы военного корреспондента как такового. Описательная сторона дела доминировала над анализом действий. Ряд газетчиков описывали лишь сугубо батальные сцены, за которыми не видно было людей, да и самого положения армий на Балканах или Кавказе. В результате, интерес к таким материалам был не высок. Особенно этим отличались заметки в «Летучем военным листке»17, где публиковались материалы и приказы из рассекреченных документов Действующей армии. Кроме того, на русских корреспондентов, и на Шаховского в том числе, оказало определенное влияние несколько искаженное понимание общественным мнением самой войны. С одной стороны, эйфория в желании помочь братьям по вере и начать «Божьей милостью войну за идею»18, а с другой, – слухи об ужасах войны, которые отпугивали газетчиков.
Другим крупным недостатком являлась малая мобильность военных корреспондентов. Вместо того, чтобы искать интересные факты или события и торопиться поделиться ими с читателем своих газет и журналов, отечественный корреспондент ждал, пока ему преподнесут какие-либо сведения, «а потому он воодушевляется, когда попадает на что-нибудь крупное и рисует блестящую картину, затем он погружается снова в обыденную жизнь, жалуется, что ничего не происходит и молчит по целым неделям19». Это объясняется отчасти тем, что представители иностранной прессы находились непосредственно на передовой, тогда как русским корреспондентам приходилось довольствоваться второй линией войск или пребыванием в тылу. Шаховской, безусловно, понимал все эти недостатки и старался непосредственно оставаться в войсках.
Больше всего внимания Шаховской уделял положению русских войск на Шипке. Действительно, описание батальных сцен превалировало в его корреспонденциях. Но обвинять корреспондента в стремлении описывать лишь подвиги русских войск, как это делал исследователь Золотарев, нельзя20. В данном случае необходимо понимать, что перед Шаховским стоял обычный официальный заказ – проводить и популяризировать официальную линию русского правительства на Балканском полуострове. Кроме того, необходимо учитывать и интересы русских читателей, которым, безусловно, было наиболее интересно описание всевозможных торжественных сцен и подвигов.
Тем не менее, Шаховской старался затронуть и другие моменты. Например, глава «На Шипке» сразу начинается с характеристики турецкой армии. Причем главная составляющая этого описания – жестокость османских солдат. Заметка выполнена достаточно профессионально. По всей видимости, она была рассчитана не только на гражданскую публику в России, но и на солдат русской армии: ее назначение состояло в поднятии боевого духа. Шаховской отмечал: «Свежо еще поле сражения, еще дышит оно всеми ужасами битвы; еще не прибранные тела убитых турецких солдат валяются там и сям в беспорядке, по дороге и в кустах. Но вот на одной из площадок горы открывается зрелище, от которого больно становится внутри. Турки, прежде чем покинули высоты Шипки, успели захватить в плен несколько раненых русских солдат и офицеров и зверски, дико изувечили их. В одном месте кучкой сложено 18 отрезанных голов русских воинов, и между ними голова одного полковника, начальника отряда пластунов… В другом месте лежат два-три десятка голых трупов русских же солдат и офицеров, над которыми турки совершили всевозможные жестокости… Один из этих мучеников-солдат лежит на спине с отрубленной головой, с застывшей поднятой вверх рукой и с пальцами, сложенными для крестного знамения…»21. Та кие известия с мест боев, причем описанные чрезвычайно красочно, сильные по степени эмоционального воздействия, насыщенные образными восприятиями врага, по мнению Шаховского, должны были возбудить в русских воинах желание биться с турками до конца. Кроме того, это был своеобразный ответ на заявления турок, что русские солдаты ведут бесчестную войну. Министр иностранных дел Турции прямо заявил: «Мне тяжело сообщать вам о новых подвигах возмутительного варварства, совершенных казаками на Дунае. Два селения, находящиеся в 5 часах езды от Рущука, были разграблены казаками, которые убили 30 человек мусульманских жителей, не разбирая ни пола, ни возраста. В селении Бин-Пунар они отрезали по пояс юбки у женщин и девушек и изнасиловали в присутствии их родных. Все жители мужского пола взяты в плен. Наконец, в довершение ужаса, эти варвары, потерявшие всякое человеческое чувство, отрубили руки у одной женщины и в насмешку положили ее несчастного ребенка в эти окровавленные изуродованные руки…»22. На подобные заявления не стоило бы обращать внимания, если бы не позиция Запада. Уже в самом начале войны иностранные средства массовой информации старались изображать Турцию как объект агрессии, а на Россию переложить всю вину за развязывание боевых действий. Например, в газете «Неделя», со ссылкой на иностранные источники, была помещена заметка «О русских жестокостях», где красочно изображались безобразия русских солдат. Там в частности отмечалась: «Вся Европа говорит теперь о русских жестокостях. И градом сыплются на нас тягчайшие обвинения, в Пеште созывается митинг в 8000 чел. протестующих против русского способа ведения войны, английские и французские дипломаты в Шумле свидетельствуют факты жестокости, о них идет речь на каждом заседании английского парламента, палате представляются обстоятельные донесения о том же консулов, опровергающих в то же время рассказы о турецких зверствах. Наконец, появляется известное уже заявление двадцати иностранных корреспондентов, которое первоначально телеграф зачем-то истолковал в смысле благоприятном для России и которое напротив того оказалось торжественным подтверждением жестокостей, обнаруженных на телах убитых и раненых, осмотренных лично самими корреспондентами. И вот уже зреет мысль о своевременности дипломатического протеста против нашего образа действий, и вмешательство в войну начинает иным казаться честным делом, так как оно положит предел поруганию всего человечества»23. Таким образом, Л.В. Шаховской принял участие в развертывании самой настоящей идеологической войны, в которой русской прессе была отведена весьма значительная роль.
Показательной чертой корреспонденций Шаховского является резко отрицательное отношение ко всем иностранным корреспондентам. Причинами этого, по всей видимости, являлись два момента. Первое, Шаховской прекрасно понимал, что представители иностранной прессы более опытны и профессиональны в деле освещения войны. Второе, это боязнь предательства со стороны иностранцев. В восторженных тонах Шаховской описывает ситуацию с высылкой из Действующей армии английского корреспондента Бойля, который писал для газеты «Standard»: «…его официально выслали из Главной квартиры за границу Румынии в сопровождении румынского жандарма, за то, что он, обязавшись честным словом не печатать никаких сведений, касающихся расположения наших войск24, поместил тем не менее в «Standard» (от 24 августа) подробное описание русских позиций под Плевной, с указанием слабых сторон этих сторон. Многие из иностранных корреспондентов возвратились на родину»25.
Вообще Шаховской достаточно часто возвращался к сюжету о шпионах. При захвате русскими частями турецкого госпиталя было обнаружено несколько французских санитаров. Уже этого было достаточно, чтобы в них он сразу же углядел представителей иностранных спецслужб26.
Отличительной чертой всех без исключения корреспонденций Шаховского является большое внимание к фигуре русского солдата. И наоборот, во всех материалах корреспондента фактически нет характеристик военачальников русской армии: главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича старшего, И.В. Гурко, М.Д. Скобелева, М.И. Драгомирова, Ф.Ф. Радецкого. Русский солдат был главным героем Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., по мнению Шаховского.
Идея, что русские солдаты идут на Балканы выполнять святое дело, освобождать братьев по вере от турецкого ига, буквально захватила Шаховского. Уже в процессе войны сформировалась официальная точка зрения, по которой русские солдаты шли выполнять свою историческую миссию «спасать братушек» от турецкого ига. Например, в одном из воспоминаний, посвященных войне, отмечено: «Кто из нас не помнит этого замечательного времени. Нет деревушки, которая не слышала бы о «добровольцах»; нет города, в котором толпы народа не провожали бы их с благословениями и пожелания ми. Помещик, мужик от сохи, отставной солдат, офицер – все потяну лись на войну, где рядом с кровью братьев-сербов лилась уже русская кровь»27. В другом историческом источнике мемуарист указывает: «С какой завистью смотрели мы, бывало, когда из города отправлялись в Сербию добровольцы: мы сами были движимы этими чувствами – помочь нашему брату – болгарину и отомстить туркам за поруганный крест, за поруганную веру Христову; и вот, наконец, дождались: и мы пойдем туда, куда стремились добровольцы!»28. Из приведенных цитат может сложиться мнение, что не только в образованном русском обществе, но и в солдатской среде возобладали настроения помощи братьям-славянам. Что касается корреспонденций Шаховского, то он давал самую возвышенную характеристику русским солдатам. В статье «Переход через Балканы» он отмечал: «Солдаты на высоте 4 тысяч футов, выбив себе траншейки в мерзлой земле, стоят лицом к лицу с суровой зимой, словно в открытом бою принимают на себя разыгравшиеся силы природы. Траншею засыпает снегом; костер из сырого дерева не горит; ноги в поизносившихся сапогах отказываются служить; ружье вываливается из окоченевших рук… Под утро плетутся с гор в Орхание и Этрополь натерпевшиеся воины: у кого руки отмерзли, у кого нога как чужая, другого бьет нестерпимый кашель… Спросите их: “Ну, что, брат, каково тебе?” – “Ничего, ваше благородие! Холодно больно”… Послушайте разговор у костра. Солдат объясняет столпившимся товарищам, почему царь-батюшка мира с супостатом не заключает. Кабы за что другое воевали, а то, брат за религию воюем… Тяжело пришлось русскому человеку на Балканских горах в глухую зимнюю пору; но несет он свой крест без жалоб, понимая всю необходимость, все значение претерпеваемых лишений»29.
Хотя Шаховской и не являлся членом Московского славянского благотворительного комитета, многие идеи И.С. Аксакова ему были близки. Например, он был убежденным сторонником изгнания мусульман с Балканского полуострова и всячески развивал эту мысль в своих корреспонденциях. Он замечал по этому поводу: «Настоящая война замечательна в особенности поголовным исчезновением с лица Болгарии мусульманского населения, которое бежало отовсюду, куда только приближались русские войска. Сознание ли того, что пришел конец господству мусульман на Балканском полуострове, или же чувство виновности в злодеяниях прошлого года и страх мести болгар руководили населением Турции? Но грозная судьба стряслась над Востоком в настоящую минуту, судьба, которой мы были только посторонними зрителями»30.
С другой стороны, нельзя считать, что Шаховской был идиллически настроен по отношению к славянам Балканского полуострова. Если в начале своей корреспондентской деятельности он рассматривал болгар как несчастные жертвы31, то уже в конце кампании 1878 г. вынужден был констатировать: «Мы видим по временам болгар, шныряющих между разломанными телегами. Болгары роются в брошенном турецком имуществе, выбирают себе годные куски; тащат одеяла, посуду, одежды и навьючивают этим добром волов и лошадей… Минутами нас смущает эта картина. Мы подъезжаем к болгарам с угрозой, приказываем бросить награбленные вещи. Но болгарин, всегда застенчивый и пугливый, обнаруживает внезапно энергию, уверенность. «То мое!» – отвечает он твердо…»32.
Но в целом корреспонденту Шаховскому было свойственно приукрашивание событий. Особенно это показательно в описаниях заключительного этапа войны. В частности, парад русских войск в Адрианополе был описан Шаховским чрезвычайно восторженно: «В воздухе стоит целый хор оглушающих звуков ура, барабанный бой и музыка сопровождают великого князя всю дорогу до города. У входа в город воздвигнута триумфальная арка из мирта и лавра; на ее верху окаймленный лавровым венком портрет государя императора. Развеваются хоругви; блестят иконы и кресты, ризы духовенства. Звучит церковное пение»33. Однако многие современники были более скупы на эмоции в описаниях заключительного этапа войны. Совершенно спокойно о мире с Турцией пишет в своих воспоминаниях будущий герой Первой мировой войны А.А. Брусилов: «Мы читали… о быстром продвижении наших войск к Адрианополю, который и был взят без боя, о приближении нашего авангарда к Сан-Стефано. Вообще было ясно, что война кончается»34. Об определенной опустошенности участников войны пишет в своих воспоминаниях князь Мещерский, у него даже чувствуются нотки определенного разочарования в победителях: «…я жаждал рассказов о боевых подвигах; но вскоре понял, что состояние духа, в котором были наши вчерашние герои-богатыри, мешало им увлекаться и жить свежими впечатлениями прошлого: они были именно в состоянии какого-то полусна или оцепенения, без энергии для жизни и даже для рассказов»35.
Как бы то ни было, корреспонденции кн. Л.В. Шаховского были чрезвычайно интересны русскому обществу, в результате чего вышли отдельной книгой двумя изданиями.
1 См.: Апушкин В.А. Война 1877–1878 гг. в корреспонденции и романе // Военный сборник. 1902. № 7–8, 10–12; 1903. № 1–6.
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/Апушкин,_Владимир_Александрович
3 См.: Яковлев О.А. Военные корреспонденты в русской армии во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. // Вестник Ленинградского университета. 1978. Вып. 2. № 8.
4 См.: Болотова Н.В. Московская печать в период русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Автореф. дисс… канд. фил. наук. М., 1999; Яковлев В.А. Русско-турецкая война 1877– 1878 гг. и русское общество. Автореф. дисс… канд. ист. наук. Л., 1980.
5 Кочуков С.А. «За братьев-славян»: Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в восприятии общества, власти и армии Российской империи. Саратов, 2012; Он же. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в освещении периодической печати России. Саратов, 2011;
6 Он же. К вопросу формирования корпуса военных корреспондентов в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия история. Международные отношения. Саратов, 2011. Вып. 2. Ч. 1. С. 64–72;
7 Он же. Г.К. Градовский – военный корреспондент Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. // Проблемы истории российской цивилизации. Сборник научных трудов. Саратов, 2007. Вып. 3. С. 88–95;
8 Он же. Историк Д.И. Иловайский о Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. // Россия и мир: панорама исторического развития. Сборник научных статей, посвященный 70-летию исторического факультета Уральского гос. ун-та. им. А.М. Горького. Екатеринбург, 2008. С. 57–64;
9 Он же. Материалы российских и западно-европейских корреспондентов как источник по истории Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. // Россия и Запад. Источники и методы их изучения. Москва, 2008. С. 71–75;
10 Он же. Участие русских женщин в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. (по материалам Х.Д. Алчевской и А.В. Каировой) // Проблемы истории российской цивилизации. Сборник научных трудов. Саратов, 2010. С. 49–60;
11 Он же. Формирование облика русского военного корреспондента в Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. // Проблемы истории российской цивилизации. Сборник научных трудов. Саратов, 2011. Вып. IV. С. 14–26.
12 См.: Апушкин В.А. Указ. соч.
13 См.: Яковлев О.А. Указ. соч.
14 Золотарев В.А. Противоборство империй. Война 1877–1878 гг. апофеоз восточного кризиса. М., 2005. С. 197.
15 Шаховской Л.В. С театра войны (1877–1878). Два похода за Балканы. М., 1878. С. I.
16 Уманец С.И. Мозаика // Исторический вестник. 1912. Т. 130. № 12. С. 1035.
17 Там же.
18 Мемуары графа С.Д. Шереметева. В 3т . М., 2005. Т. 2. С. 291.
19 Катков М.Н. Собрание сочинений. Русский консерватизм. Государственная публицистика. Деятели России. В 6 т. СПб., 2011. Т. 2. С. 388; Он же. Империя и крамола. М., 2007. С. 207.
20 Де-Воллан Г.А. Очерки прошлого // Русская старина. 1916. Т. 165. № 3. С. 516–517.
21 Апушкин В.А. Указ. соч. С. 199.
22 Газенкампф М.А. Мой дневник 1877–1878 гг. СПб., 1908. С. 6.
23 См.: Летучий военный листок. 1877. № 1–72; 1878. № 73–77.
24 Мещерский В.П. Правда о Сербии. СПб., 1877. С. 3.
25 Новое время. 1877. № 481. С. 1.
26 Золотарев В.А. Указ. соч. С. 197.
27 Шаховской Л.В. Указ. соч. С. 23–24.
28 Правительственный вестник. 1877. № 151. С. 3.
29 Неделя. 1877. № 30. С. 984.
30 Были разработаны специальные рекомендации, адресованные будущим корреспондентам. Они состояли из четырех пунктов: а) не сообщать никаких сведений о расположении и численности войск, а равно никаких предположений относительно предстоящих действий под угрозой высылки из армии; б) доставлять лицу, на которое будет возложена обязанность следить за содержанием корреспонденций, все номера газет, в которых они будут напечатаны; в) о каждой перемене своего местопребывания доносить записками в штаб армии; г) иметь на левом рукаве особый наружный знак, крупную бляху из листовой меди с орлом, номером, надписью «корреспондент» и с печатью полевого комендантского управления армии, а также иметь всегда при себе фотографический портрет, на оборотной стороне которого, за печатью того же комендантского управления, должно было быть удостоверение личности корреспондента (Апушкин В.А. Указ. соч. С. 199–200).
31 Шаховской Л.В. Указ. соч. С. 71.
32 Там же. С. 126.
33 Воспоминания стрелка. СПб., 1886. С. 4.
34 Гуськов С. Походы и действия 70-го пехотного Ряжского полка в войну 1877–1878 гг. (воспоминания вольноопределяющегося). Люблин, 1909. С. 2.
35 Шаховской Л.В. Указ. соч. С. 224–225.
36 Там же. С. 302.
37 См.: Там же. С. 19–21.
38 Там же. С. 306.
39 Там же. С. 310.
40 Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 2004. С. 31.
41 Мещерский В.П. Воспоминания. М., 2001. С. 401. Война с Турцией вырвала многих офицеров из привычного состоянии, в результате чего многие не сумели приспособиться к новым жизненным реалиям: «Как вчера помню (слова В.П. Мещерского. – С.К.) сильное впечатление, которое на меня произвела картина одного из многих действий этой атмосферы на молодого офицера, еще недавно давшего своему имени ореол героизма. Я принялся его искать в Сан-Стефано между офицерами, чтобы его увидеть, ему поклониться, его послушать. И вот нахожу его жилище, стучусь в дверь, денщик отворяет, впускает меня в комнату, и я застаю моего героя у окна с видом на море, с глазами, устремленными в даль, и с неизбежною содовою водой с коньяком под руками на столике» (Мещерский В.П. Воспоминания… С. 401).


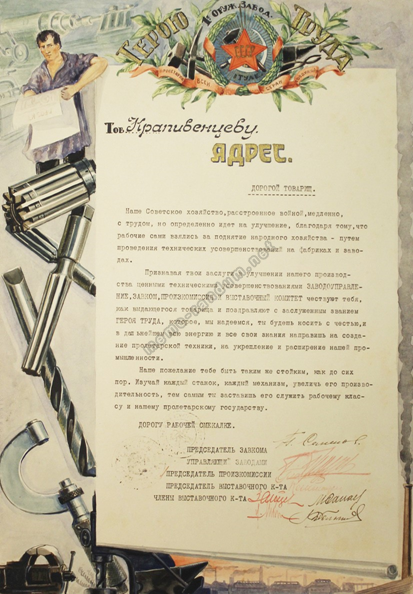


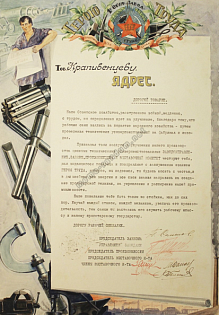



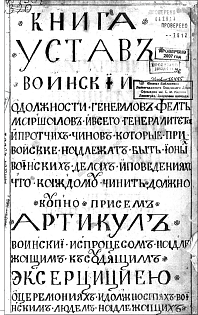
Комментарии