╨Û.╨Ê. ╨Ü╨╛╤ç╤â╨║╨╛╨▓╨░ (╨´╨░╤Ç╨░╤é╨╛╨▓) ╨¦╨ú╨´╨´╨Ü╨¤╨Ô ╨¨╨¢╨Û╨ó ╨Ù╨É ╨ƒ╨Ï╨¦╨Ï╨¢╨Û╨£╨Ï ╨Ë╨Ê╨ú╨¸ ╨¾╨ƒ╨Û╨¸ ╨Ê ╨£╨Ï╨£╨ú╨É╨¦╨Ù╨Û╨£ ╨Ù╨É╨´╨¢╨Ï╨Ë╨¤╨¤ ╨Ù.╨É. ╨Ü╨É╨¯╨É╨¢╨Û╨Ê╨É
╨ú╨┐╤Ç╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤â╨╗╤î╤é╤â╤Ç╤ï ╨£╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤Ç╨╛╨╜╤ï ╨¦╨╛╤ü╤ü╨╕╨╕ ╨¦╨╛╤ü╤ü╨╕╨╣╤ü╨║╨░╤§ ╨É╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤§ ╤Ç╨░╨║╨╡╤é╨╜╤ï╤à ╨╕ ╨░╤Ç╤é╨╕╨╗╨╗╨╡╤Ç╨╕╨╣╤ü╨║╨╕╤à ╨╜╨░╤â╨║ ╨Ê╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤ü╤é╨╛╤Ç╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕╨╣ ╨╝╤â╨╖╨╡╨╣ ╨░╤Ç╤é╨╕╨╗╨╗╨╡╤Ç╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤Ç╨╜╤ï╤à ╨▓╨╛╨╣╤ü╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ü╨║ ╤ü╨▓╤§╨╖╨╕
╨¯╨░╤ü╤é╤î III╨´╨░╨╜╨║╤é-╨ƒ╨╡╤é╨╡╤Ç╨▒╤â╤Ç╨│
┬⌐╨Ê╨¤╨£╨É╨¤╨Ê╨╕╨Ê╨´, 2016
©Коллектив авторов, 2015
┬⌐ ╨´╨ƒ╨▒╨ô╨ú╨ƒ╨ó╨Ë, 2016
╨ƒ╨╡╤Ç╨╕╨╛╨┤ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤é╨╛╨▓╨║╨╕ ╨╕ ╨┐╤Ç╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤§ ╨Ê╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╤à ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝ 1860-╤à ╨│╨│. ╨▒╤ï╨╗ ╤ç╤Ç╨╡╨╖╨▓╤ï╤ç╨░╨╣╨╜╨╛ ╨╜╨░╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨║╨░╨║ ╤ü╨╛╤¶╨╕╨░╨╗╤î╨╜╨╛-╨┐╨╛╨╗╨╕╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕╨╝╨╕ ╤ü╨╛╨▒╤ï╤é╨╕╤§╨╝╨╕ ╨╕ ╤§╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤§╨╝╨╕, ╤é╨░╨║ ╨╕ ╤ü╤é╤Ç╨╡╨╝╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╝╨╕ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤§╨╝╨╕ ╨▓ ╤ü╨╛╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨░. ╨¾╤é╨╛╨╝╤â ╨┐╤Ç╨╛╤¶╨╡╤ü╤ü╤â ╤â╨╢╨╡ ╤ü╨╛╨▓╤Ç╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╕ ╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╕ ╤Ç╨░╨╖╨╜╤ï╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤§, ╤ü╤Ç╨╡╨┤╨╕ ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╤ï╤à ┬½╤â╨╝╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨░╤§ ╤Ç╨╡╨▓╨╛╨╗╤À╤¶╨╕╤§┬╗, ┬½╨┐╨╡╤Ç╨╡╤à╨╛╨┤╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤Ç╨╡╨╝╤§┬╗, ┬½╤‗╨┐╨╛╤à╨░ ╨╛╨▒╨╗╨╕╤ç╨╡╨╜╨╕╤§┬╗, ┬½╨╛╤é╤é╨╡╨┐╨╡╨╗╤î┬╗, ╨╕ ╨╛╤ç╨╡╨╜╤î ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╨╡ ╨┐╤Ç╨╕╨╖╨╜╨░╨▓╨░╨╗╨╕ ╤Â╨░╨║╤é ╨╜╨░╤ü╤é╨╛╤§╤ë╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╡╤Ç╨╡╨▓╨╛╤Ç╨╛╤é╨░ ╨▓ ╤ü╨╛╤¶╨╕╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╡╨╣╤ü╤é╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╛╨╝ ╨╝╨╕╤Ç╨╛╨▓╨╛╨╖╨╖╤Ç╨╡╨╜╨╕╨╕, ╤ü╤é╤Ç╨╡╨╝╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ç╨░╤é╨╕╨╝╨╛╨│╨╛. ╨Ù╨╡ ╤ü╨╗╤â╤ç╨░╨╣╨╜╨╛ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╖ ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ç╨╕╤é╨░╨╡╨╝╨╛╨╣ ╨▓ ╨╕╨╜╤é╨╡╨╗╨╗╨╡╨║╤é╤â╨░╨╗╤î╨╜╤ï╤à ╨║╤Ç╤â╨│╨░╤à ╨║╨╜╨╕╨│ ╤ü╤é╨░╨╗╨╛ ╤ü╨╛╤ç╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨É╨╗╨╡╨║╤ü╨╕╤ü╨░ ╨ó╨╛╨║╨▓╨╕╨╗╤§ ┬½╨´╤é╨░╤Ç╤ï╨╣ ╨┐╨╛╤Ç╤§╨┤╨╛╨║ ╨╕ ╤Ç╨╡╨▓╨╛╨╗╤À╤¶╨╕╤§┬╗ (1856), ╨┐╨╛╤ü╨▓╤§╤ë╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤ï╤§╤ü╨╜╨╡╨╜╨╕╤À ╨╕╤ü╤é╨╛╤Ç╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕╤à ╨┐╤Ç╨╡╨┤╨┐╨╛╤ü╤ï╨╗╨╛╨║ ╨Ê╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╣ ╨¨╤Ç╨░╨╜╤¶╤â╨╖╤ü╨║╨╛╨╣ ╤Ç╨╡╨▓╨╛╨╗╤À╤¶╨╕╨╕. ╨ƒ╨╡╤Ç╨▓╨╛╨╡, ╨╜╨░ ╤ç╤é╨╛ ╨╛╨▒╤Ç╨░╤ë╨░╨╗╨╕ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Ç╤â╤ü╤ü╨║╨╕╨╡ ╤ç╨╕╤é╨░╤é╨╡╨╗╨╕ ╤Â╤Ç╨░╨╜╤¶╤â╨╖╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨░╨▓╤é╨╛╤Ç╨░, ╤‗╤é╨╛ ╤à╨░╤Ç╨░╨║╤é╨╡╤Ç╨╕╤ü╤é╨╕╨║╨╕ ┬½╤ü╤é╨░╤Ç╨╛╨│╨╛ ╤Ç╨╡╨╢╨╕╨╝╨░┬╗, ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╤ï╨╣ ╨╛╤é╨║╤Ç╨╛╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╤Ç╨╕╤Ç╨░╨▓╨╜╨╕╨▓╨░╨╗╤ü╤§ ╨║ ┬½╨╜╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╤ü╨║╨╛╨╝╤â ╤Ç╨╡╨╢╨╕╨╝╤â┬╗1. ╨ƒ╤Ç╨╛╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╤ê╨░╨╡╨╝╤ï╨╣ ╤Ç╨░╨╖╤Ç╤ï╨▓ ╨┐╤Ç╨╡╨╡╨╝╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤â ╨┤╨▓╤â╨╝╤§ ╤‗╨┐╨╛╤à╨░╨╝╨╕, ╨┤╨▓╤â╨╝╤§ ╤¶╨░╤Ç╤ü╤é╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤§╨╝╨╕ (╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╤§ I ╨╕ ╨É╨╗╨╡╨║╤ü╨░╨╜╨┤╤Ç╨░ II) ╨╕ ╤ü╨▓╨╛╨╡╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╜╤ï╨╣ ╨╜╨╕╨│╨╕╨╗╨╕╨╖╨╝ ╨┐╨╛ ╨╛╤é╨╜╨╛╤ê╨╡╨╜╨╕╤À ╨║ ╨┐╤Ç╨╛╤ê╨╗╨╛╨╝╤â ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╨▓╨╡╤ü╤î╨╝╨░ ╨╡╤ü╤é╨╡╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╨╝╨╕ ╨▓ ╨┐╨╡╤Ç╨╕╨╛╨┤ ╨┐╨╡╤Ç╨╡╤à╨╛╨┤╨░ ╨║ ╨╝╨░╤ü╤ê╤é╨░╨▒╨╜╨╛╨╝╤â ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨╕╤Ç╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤À ╤ü╤é╤Ç╨░╨╜╤ï. ┬½╨Û╨▒╨╗╨╕╤ç╨╡╨╜╨╕╨╡┬╗ ╨┐╤Ç╨╡╨╢╨╜╨╡╨╣ ╤ü╨╕╤ü╤é╨╡╨╝╤ï ╤ü╤é╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨╗╨╛╤ü╤î ╨╛╤Ç╤â╨┤╨╕╨╡╨╝ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨░╤é╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╤à ╤ü╨╕╨╗ ╨╕ ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝╤ï╨╝ ╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨╝, ╤ü╨╕╨╝╨▓╨╛╨╗╨╛╨╝, ╤ü╨╗╤â╨╢╨╕╨▓╤ê╨╕╨╝ ╨╕╤à ╨║╨╛╨╜╤ü╨╛╨╗╨╕╨┤╨░╤¶╨╕╨╕.
╨£╨╡╨╢╨┤╤â ╤é╨╡╨╝, ╤é╨░╨║╨╛╨╣ ╤Ç╨░╨║╤â╤Ç╤ü ╨╜╨╡ ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╤ü╨╛╨╛╤é╨▓╨╡╤é╤ü╤é╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╕╤ü╤é╨╕╨╜╨╡, ╨╕ ╤ü╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╤§ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╕╨╜╤ü╤é╨▓╨╛ ╨╕╤ü╤é╨╛╤Ç╨╕╨║╨╛╨▓, ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╤À╤ë╨╕╤à╤ü╤§ ╨╜╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╤ü╨║╨╛╨╣ ╤‗╨┐╨╛╤à╨╛╨╣, ╤ü╤ç╨╕╤é╨░╨╡╤é, ╤ç╤é╨╛ ╤¶╨░╤Ç╤ü╤é╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╤§ I ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨▓╤Ç╨╡╨╝╨╡╨╜╨╡╨╝, ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤é╨╛╨▓╨╕╨▓╤ê╨╕╨╝ ╤‗╨┐╨╛╤à╤â ╨Ê╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╤à ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝2. ╨Ê╨┐╤Ç╨╛╤ç╨╡╨╝, ╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╤ï╨╡ ╤ü╨╛╨▓╤Ç╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╕, ╨║╨░╨║ ╨┐╤Ç╨░╨▓╨╕╨╗╨╛, ╨┐╤Ç╨╕╨┤╨╡╤Ç╨╢╨╕╨▓╨░╨▓╤ê╨╕╨╡╤ü╤§ ╤â╨╝╨╡╤Ç╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨║╨╛╨╜╤ü╨╡╤Ç╨▓╨░╤é╨╕╨▓╨╜╤ï╤à ╨▓╨╛╨╖╨╖╤Ç╨╡╨╜╨╕╨╣, ╨┐╤ï╤é╨░╨╗╨╕╤ü╤î ╨┐╨╛-╤ü╨▓╨╛╨╡╨╝╤â ┬½╨▓╨╛╤ü╤ü╤é╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤é╤î ╨▒╨░╨╗╨░╨╜╤ü┬╗ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╤î╨╖╤â ┬½╨┐╤Ç╨╡╨╢╨╜╨╡╨╣ ╤ü╨╕╤ü╤é╨╡╨╝╤ï┬╗. ╨Ü ╨╕╤à ╤ç╨╕╤ü╨╗╤â ╨╛╤é╨╜╨╛╤ü╨╕╨╗╤ü╤§ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨╕ ╨│╨╛╤ü╤â╨┤╨░╤Ç╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨┤╨╡╤§╤é╨╡╨╗╤î ╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╣ ╨É╨╗╨╡╨║╤ü╨░╨╜╨┤╤Ç╨╛╨▓╨╕╤ç ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ (1818ΓÇô1891). ╨Ê ╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╜╨╛╨╝ ╨╜╨░╤ü╨╗╨╡╨┤╨╕╨╕ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╛╨▒╨╜╨░╤Ç╤â╨╢╨╕╤é╤î ╨╗╤À╨▒╨╛╨┐╤ï╤é╨╜╤ï╨╡ ╤ü╤â╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤§ ╨╜╨░ ╤é╨╡╨╝╤â ╤ü╨╛╨┐╨╛╤ü╤é╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤§ ╨┤╨╛╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨┐╨╛╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨¦╨╛╤ü╤ü╨╕╨╕. ╨ƒ╤Ç╨╡╨┤╨╝╨╡╤é╨╛╨╝ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ü╤é╨░╤é╤î╨╕ ╤§╨▓╨╗╤§╨╡╤é╤ü╤§ ╨░╨╜╨░╨╗╨╕╨╖ ╤é╨╛╨╣ ╤ç╨░╤ü╤é╨╕ ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╣ ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░, ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╨░╤§ ╨╛╤é╨╜╨╛╤ü╨╕╤é╤ü╤§ ╨║ ╨┐╨╡╤Ç╨╕╨╛╨┤╤â ╨╡╨│╨╛ ╨╛╨▒╤â╤ç╨╡╨╜╨╕╤§ ╨▓ ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╝ ╨║╨░╨┤╨╡╤é╤ü╨║╨╛╨╝ ╨║╨╛╤Ç╨┐╤â╤ü╨╡ ╨╕ ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╤ï ╨▓╨╛ ╤Â╨╗╨╛╤é╨╡ ╨╕ ╨▓ ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╨╛╨╣ ╨╛╨╜ ╨╕╨╖╨╗╨░╨│╨░╨╡╤é ╤ü╨╛╨▒╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡, ╤ü╤Ç╨░╨▓╨╜╨╕╨▓╨░╤§ ╤à╨░╤Ç╨░╨║╤é╨╡╤Ç╨╕╤ü╤é╨╕╨║╨╕ ╤Ç╤â╤ü╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ ╨╕ ╨┤╨╡╤§╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╤ü╤é╤î ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╕╨╜╨╕╤ü╤é╨╡╤Ç╤ü╤é╨▓╨░ ╨▓ ╨╜╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╤ü╨║╤â╤À ╤‗╨┐╨╛╤à╤â ╨╕ ╨▓ ╨┐╨╡╤Ç╨╕╨╛╨┤ ╨┐╤Ç╨╡╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣.
╨ƒ╨╡╤Ç╨▓╨░╤§ ╨╕ ╨╜╨╡╨╖╨░╨▓╨╡╤Ç╤ê╨╡╨╜╨╜╨░╤§ ╨┐╨╛╨┐╤ï╤é╨║╨░ ╨┐╤â╨▒╨╗╨╕╨║╨░╤¶╨╕╨╕ ╨╛╨▒╤ê╨╕╤Ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤ü╨╗╨╡╨┤╨╕╤§ ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░ ╤ü╨╛╤ü╤é╨╛╤§╨╗╨░╤ü╤î ╨▓ 1916ΓÇô1917 ╨│╨│. ╨╜╨░ ╤ü╤é╤Ç╨░╨╜╨╕╤¶╨░╤à ╨╢╤â╤Ç╨╜╨░╨╗╨░ ┬½╨ô╨╛╨╗╨╛╤ü ╨╝╨╕╨╜╤â╨▓╤ê╨╡╨│╨╛┬╗. ╨ƒ╨╛╨╗╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨░╤â╤ç╨╜╨╛╨╡ ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╡ ┬½╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨╛╨║┬╗ ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░, ╨▓╨║╨╗╤À╤ç╨░╤À╤ë╨╡╨╡ ╨▓╤ü╤é╤â╨┐╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤â╤À, ╨░╤Ç╤à╨╡╨╛╨│╤Ç╨░╤Â╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╤â╤À ╨╕ ╨▒╨╕╨╛╨│╤Ç╨░╤Â╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╤â╤À ╤ü╤é╨░╤é╤î╨╕ ╨╕ ╨║╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤é╨░╤Ç╨╕╨╕, ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤é╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨Ê.╨È. ╨Ê╨╛╨╣╤¶╨╡╤à╨╛╨▓╤ü╨║╨╛╨╣-╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨╛╨╣, ╨Ù.╨Ê. ╨ó╤â╤é╨╛╨╗╨╝╨╕╨╜╤ï╨╝, ╨É.╨Ê. ╨£╨╡╨╗╤î╨╜╨╕╨║╨╛╨▓╤ï╨╝ ╨╕ ╨┤╤Ç., ╨▓╤ï╤ê╨╗╨╛ ╨▓ ╤ü╨▓╨╡╤é ╨▓ 2012 ╨│.3 ╨Ê╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨╜╨░╤â╤ç╨╜╤ï╨╣ ╨╛╨▒╨╛╤Ç╨╛╤é ╨▒╨╛╨│╨░╤é╨╡╨╣╤ê╨╡╨│╨╛ ╨╕╤ü╤é╨╛╤Ç╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ü╤é╨╛╤ç╨╜╨╕╨║╨░ ╨┐╤Ç╨╡╨┤╤ü╤é╨░╨▓╨╗╤§╨╡╤é ╨╖╨╜╨░╤ç╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╣ ╨╕╨╜╤é╨╡╤Ç╨╡╤ü ╨┤╨╗╤§ ╨╕╤ü╤é╨╛╤Ç╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░╤â╨║╨╕, ╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨║╨░ ╨╡╤ë╨╡ ╨╜╨░╤à╨╛╨┤╨╕╤é╤ü╤§ ╨▓ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ╤ü╤é╨░╨┤╨╕╨╕. ╨Ê╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╕╤ü╤ü╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤é╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨▓ ╨╛╤ü╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╝ ╨┐╤Ç╨╕╨▓╨╗╨╡╨║╨░╨╡╤é ╨┤╨╡╤§╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╤ü╤é╤î ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░ ╨▓ ╤é╨░╨╝╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤ü╤é╨▓╨╡ ╨╕ ╨▓ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨░╤Ç╤à╨░╨╜╨│╨╡╨╗╤î╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╤â╨▒╨╡╤Ç╨╜╨░╤é╨╛╤Ç╨░4. ╨´╤é╤Ç╨░╨╜╨╕╤¶╤ï, ╨┐╨╛╤ü╨▓╤§╤ë╨╡╨╜╨╜╤ï╨╡ ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╨╡ ╨▓╨╛ ╤Â╨╗╨╛╤é╨╡, ╨╡╤ë╨╡ ╨╜╨╡ ╤ü╤é╨░╨╗╨╕ ╨┐╤Ç╨╡╨┤╨╝╨╡╤é╨╛╨╝ ╤ü╨┐╨╡╤¶╨╕╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ü╤ü╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤é╨╡╨╗╤î╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤é╨╡╤Ç╨╡╤ü╨░.
╨Ü╨░╨║ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ü╤é╨╜╨╛, ╨┐╤Ç╨╡╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤§ ╨╜╨╡ ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨╖╨░╤é╤Ç╨╛╨╜╤â╨╗╨╕ ╤Â╨╗╨╛╤é ╨╕ ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╡ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤ü╤é╨▓╨╛, ╨╜╨╛ ╨▓ ╨╛╨┐╤Ç╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ü╤é╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕ ╨╕ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗╨╕╤ü╤î ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤ü ╨╜╨╕╤à. ╨¦╨╛╨╗╤î ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤ü╤é╨▓╨░ ╨▓╨╛ ╨│╨╗╨░╨▓╨╡ ╤ü ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╝ ╨║╨╜╤§╨╖╨╡╨╝ ╨Ü╨╛╨╜╤ü╤é╨░╨╜╤é╨╕╨╜╨╛╨╝ ╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ç╨╡╨╝ ╨▓ ╨╕╨╜╨╕╤¶╨╕╨╕╤Ç╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╕ ╨╛╨▒╤ü╤â╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝, ╨▓ ╤Â╨╛╤Ç╨╝╨╕╤Ç╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤§ ╨╕ ╨▓ ╨╛╨▒╤è╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╡╨╝ ┬½╨┐╤Ç╨╛╨│╤Ç╨╡╤ü╤ü╨░┬╗ ╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╤ï╤à ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨░╤é╨╛╤Ç╨╛╨▓ ╤à╨╛╤Ç╨╛╤ê╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ü╤é╨╜╨░5. ╨Ê ╨╕╤ü╤é╨╛╤Ç╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕╤à ╨╕╤ü╤ü╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤§╤à ╨▓╤ï╤§╨▓╨╗╨╡╨╜╤ï ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╡ ╨╕╤é╨╛╨│╨╕ ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╤à ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝ ╨╕ ╨╕╤à ╨▓╨╗╨╕╤§╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨╛╨▒╤ë╨╡╨╡ ╤Ç╨░╨╖╨▓╨╕╤é╨╕╨╡ ╨▓ ╤ü╤é╤Ç╨░╨╜╨╡ ╨┐╤Ç╨╡╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨▓╨░╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Ç╨╛╤¶╨╡╤ü╤ü╨░. ╨ó╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╨╡ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╤ï, ╨║╨░╨║ ╨╕ ╨▓╤ü╨╡ ╨┤╤Ç╤â╨│╨╕╨╡ ╨Ê╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╡ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╤ï, ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╤ü╨▓╨╛╨╕╤à ╨┐╤Ç╨╛╤é╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨▓ ╨┐╨╡╤Ç╨╕╨╛╨┤ ╨╕╤à ╨┐╤Ç╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤§ ╨╕ ╨╖╨░╤ç╨░╤ü╤é╤â╤À ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤Ç╨│╨░╨╗╨╕╤ü╤î ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╤Ç╨╕╤é╨╕╨║╨╡ ╨┐╨╛ ╨┐╤Ç╨╛╤ê╨╡╤ü╤é╨▓╨╕╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╨╛╨│╨╛ ╨▓╤Ç╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕. ╨Ü╨╛╨╜╤ü╨╡╤Ç╨▓╨░╤é╨╕╨▓╨╜╤ï╨╡ ╨╛╨┐╨┐╨╛╨╜╨╡╨╜╤é╤ï ╨╗╨╕╨▒╨╡╤Ç╨░╨╗╤î╨╜╤ï╤à ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨░╤é╨╛╤Ç╨╛╨▓ ╨┤╨░╨╗╨╡╨║╨╛ ╨╜╨╡ ╨▓╤ü╨╡╨│╨┤╨░ ╨╛╤é╤ü╤é╨░╨╕╨▓╨░╨╗╨╕ ╨║╨╛╤Ç╤ï╤ü╤é╨╜╤ï╨╡ ╨╕╨╜╤é╨╡╤Ç╨╡╤ü╤ï, ╨░ ╤Ç╨░╨╖╨▓╨╕╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╛╨┐╤Ç╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╤â╤À ╨╗╨╛╨│╨╕╨║╤â ╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╤ü╨╛╨▒╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨▓╨╕╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╛╨╣ ╤Ç╨╡╨░╨╗╤î╨╜╨╛╤ü╤é╨╕, ╨╕ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╤â╤é╨▓╨╡╤Ç╨╢╨┤╨░╤é╤î, ╤ç╤é╨╛ ╤ü╤Â╨╛╤Ç╨╝╨╕╤Ç╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╜╨╡╤â╤ç╤é╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨▓ ╤ü╨▓╨╛╨╡ ╨▓╤Ç╨╡╨╝╤§ ╤Ç╨╡╨╖╨╡╤Ç╨▓ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╤ï╤ü╨╗╨╕ ╨╕ ╤â╨┐╤Ç╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤ç╨╡╤ü╨║╨╛╨╣ ╨┐╤Ç╨░╨║╤é╨╕╨║╨╕. ╨Ê╨╛ ╨▓╤ü╤§╨║╨╛╨╝ ╤ü╨╗╤â╤ç╨░╨╡, ╤ü╨╛╨▓╤Ç╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤ï╨╡ ╨╕╤ü╤ü╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤é╨╡╨╗╨╕, ╨│╨╛╨▓╨╛╤Ç╤§ ╨╛ ╤Ç╨░╨╖╨╗╨╕╤ç╨╜╤ï╤à ╨┐╤Ç╨╛╨╡╨║╤é╨░╤à ╨╕ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤§╤à, ╨╕╤ü╤à╨╛╨┤╨╕╨▓╤ê╨╕╤à ╨╕╨╖ ╨║╨╛╨╜╤ü╨╡╤Ç╨▓╨░╤é╨╕╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤ü╤Ç╨╡╨┤╤ï, ╤ü╨║╨╗╨╛╨╜╨╜╤ï ╨┐╤Ç╨╕╨╖╨╜╨░╨▓╨░╤é╤î ╨╕╤à ╤ü╨▓╨╛╨╡╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╜╤ï╨╝ ┬½╨╖╨░╨▒╨╡╨│╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓╨┐╨╡╤Ç╨╡╨┤┬╗, ╨▓ ┬½╤‗╨┐╨╛╤à╤â ╨║╨╛╨╜╤é╤Ç╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝┬╗, ╤é╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╨╡ ╨╕╨┤╨╡╨╕ ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╤â╤ü╨╗╤ï╤ê╨░╨╜╤ï ╨▓ ╨┐╨╡╤Ç╨╕╨╛╨┤ ┬½╨║╨╛╤Ç╤Ç╨╡╨║╤é╨╕╤Ç╨╛╨▓╨║╨╕ ╨┐╤Ç╨░╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╤â╤Ç╤ü╨░┬╗, ╤é╨╛ ╨╡╤ü╤é╤î ╨▓ 1880-╨╡ ╨│╨│6.
╨¤╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨║ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗╤â 1880-╤à ╨│╨│. ╨╛╤é╨╜╨╛╤ü╨╕╤é╤ü╤§ ╨╕ ╤ü╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╡ ┬½╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨╛╨║┬╗ ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░. ╨ó╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨╝, ╨┐╤Ç╨╕ ╨╕╤ü╨┐╨╛╨╗╤î╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤ü╨╗╨╡╨┤╨╕╤§ ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░ ╨▓ ╨║╨░╤ç╨╡╤ü╤é╨▓╨╡ ╨╕╤ü╤é╨╛╤ç╨╜╨╕╨║╨░, ╤à╨░╤Ç╨░╨║╤é╨╡╤Ç╨╕╨╖╤â╤À╤ë╨╡╨│╨╛ ╤ü╨╛╤ü╤é╨╛╤§╨╜╨╕╨╡ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ ╨▓ ┬½╨╜╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╤ü╨║╤â╤À ╤‗╨┐╨╛╤à╤â┬╗ ╨╕ ╨▓ ╤‗╨┐╨╛╤à╤â ╨Ê╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╤à ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝, ╤ü╨╗╨╡╨┤╤â╨╡╤é ╨┐╤Ç╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╤é╤î ╨▓ ╤ü╨╛╨╛╨▒╤Ç╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╤Ç╨╡╨╝╤§ ╨╕ ╨╛╨▒╤ü╤é╨╛╤§╤é╨╡╨╗╤î╤ü╤é╨▓╨░ ╤ü╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤§ ╨╕╤ü╤é╨╛╤ç╨╜╨╕╨║╨░. ╨¤╤ü╤é╨╛╤Ç╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨░╤§ ╤¶╨╡╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╤î ╨│╨╗╨░╨▓ ┬½╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨╛╨║┬╗, ╨╛╤é╨╜╨╛╤ü╤§╤ë╨╕╤à╤ü╤§ ╨║ ╨┐╨╡╤Ç╨╕╨╛╨┤╤â ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╤ï ╨▓╨╛ ╤Â╨╗╨╛╤é╨╡, ╤ü╨╛╤ü╤é╨╛╨╕╤é ╨╜╨╡ ╤ü╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨▓ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨╕╤à ╨╕╤ü╨┐╨╛╨╗╤î╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤§ ╨┤╨╗╤§ ╤Ç╨╡╨║╨╛╨╜╤ü╤é╤Ç╤â╨║╤¶╨╕╨╕ ╨╛╨▒╤è╨╡╨║╤é╨╕╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤Ç╨╡╨░╨╗╤î╨╜╨╛╤ü╤é╨╕, ╤ü╨║╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨▓ ╨╕╤ü╤ü╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╤ü╨░╨╝╨╛╨╣ ╨┐╤Ç╨╕╤Ç╨╛╨┤╤ï ╤ü╤â╨▒╤è╨╡╨║╤é╨╕╨▓╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╤é╨╡╨║╤ü╤é╨░, ╤Ç╨░╤ü╨║╤Ç╤ï╨▓╨░╤À╤ë╨╡╨╣ ╨╛╤ü╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨░╨▓╤é╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╡╤Ç╨╡╨╛╤ü╨╝╤ï╤ü╨╗╨╡╨╜╨╕╤§ ╤Â╨╡╨╜╨╛╨╝╨╡╨╜╨░ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝. ╨ƒ╨╛╤ü╤é╨╛╤§╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤ü╤Ç╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ┬½╤ü╤é╨░╤Ç╨╛╨╣┬╗ ╨╕ ┬½╨╜╨╛╨▓╨╛╨╣┬╗ ╤‗╨┐╨╛╤à ╨▓ ╨┐╨╛╨▓╤ü╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╛╤ü╤é╨╕, ╨╛╤Ç╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤¶╨╕╨╕, ╤â╨┐╤Ç╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ (╨╕ ╨┤╨░╨╗╨╡╨║╨╛ ╨╜╨╡ ╨▓╤ü╨╡╨│╨┤╨░ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╤î╨╖╤â ┬½╨╜╨╛╨▓╨╛╨╣┬╗) ╤ü╤Â╨╛╤Ç╨╝╨╕╤Ç╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╛╤ü╨╡╨▓╤â╤À ╨╗╨╕╨╜╨╕╤À ╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╤é╨╡╨║╤ü╤é╨░ ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░.
╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╤ü╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨║╨░╤Ç╤î╨╡╤Ç╤â ╨╛╤é ╨║╨░╨┐╨╕╤é╨░╨╜-╨╗╨╡╨╣╤é╨╡╨╜╨░╨╜╤é╨░ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ ╨┤╨╛ ╨┤╨╡╨╣╤ü╤é╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ü╤é╨░╤é╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╤ü╨╛╨▓╨╡╤é╨╜╨╕╨║╨░. ╨´╨╗╤â╨╢╨▒╨░ ╨▓╨╛ ╤Â╨╗╨╛╤é╨╡ ╨▒╤ï╨╗╨░ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨╝ ╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╕╨╛╨│╤Ç╨░╤Â╨╕╨╕. ╨Ê 1830 ╨│., ╨▓ ╨▓╨╛╨╖╤Ç╨░╤ü╤é╨╡ ╨┤╨▓╨╡╨╜╨░╨┤╤¶╨░╤é╨╕ ╨╗╨╡╤é ╨╛╨╜ ╨┐╨╛╤ü╤é╤â╨┐╨╕╨╗ ╨▓ ╨£╨╛╤ü╨║╨╛╨▓╤ü╨║╨╕╨╣ ╨║╨░╨┤╨╡╤é╤ü╨║╨╕╨╣ ╨║╨╛╤Ç╨┐╤â╤ü, ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╤ï╨╣ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╤ç╨╕╨╗ ╨▓ 1836 ╨│. ╨╕ ╨▓ ╤ç╨╕╨╜╨╡ ╨╝╨╕╤ç╨╝╨░╨╜╨░ ╨▒╤ï╨╗ ╨┐╤Ç╨╕╨┐╨╕╤ü╨░╨╜ ╨║ ╨╛╨┤╨╕╨╜╨╜╨░╨┤╤¶╨░╤é╨╛╨╝╤â ╤Â╨╗╨╛╤é╤ü╨║╨╛╨╝╤â ╤‗╨║╨╕╨┐╨░╨╢╤â ╨È╨░╨╗╤é╨╕╨╣╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░. ╨Ê 1843 ╨│., ╤â╨╢╨╡ ╨▓ ╤ç╨╕╨╜╨╡ ╨╗╨╡╨╣╤é╨╡╨╜╨░╨╜╤é╨░, ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨▓╤ï╨┐╨╛╨╗╨╜╤§╨╗ ╤ü╨┐╨╡╤¶╨╕╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨╡ ╨┐╨╛╤Ç╤â╤ç╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤é ╨Ï.╨Ê. ╨ƒ╤â╤é╤§╤é╨╕╨╜╨░ ╨┐╨╛ ╨╛╤Ç╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤¶╨╕╨╕ ╨┐╨╡╤Ç╨╡╨▓╨╛╨╖╨░ ╨╖╨░╨║╤â╨┐╨╗╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨▓ ╨É╨╜╨│╨╗╨╕╨╕ ╨┐╨░╤Ç╨╛╤à╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨╕ ╨╖╨░╤ü╨╗╤â╨╢╨╕╨╗ ╨╛╨┤╨╛╨▒╤Ç╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╖╨░ ╨▓╤ï╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╖╨░╨│╤Ç╨░╨╜╨╕╤ç╨╜╤ï╤à ╨╖╨░╨║╨░╨╖╨╛╨▓ ╨┤╨╗╤§ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░. ╨ù╨░╨▓╨╡╤Ç╤ê╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╤ï ╨▓╨╛ ╤Â╨╗╨╛╤é╨╡ ╨╛╤é╨╜╨╛╤ü╨╕╤é╤ü╤§ ╨║ 1845 ╨│., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╨╜, ╨▓ ╤ç╨╕╨╜╨╡ ╨║╨░╨┐╨╕╤é╨░╨╜-╨╗╨╡╨╣╤é╨╡╨╜╨░╨╜╤é╨░, ╨▓╤ï╤ê╨╡╨╗ ╨▓ ╨╛╤é╤ü╤é╨░╨▓╨║╤â ╨▓ ╤ü╨▓╤§╨╖╨╕ ╤ü ╨╜╨╡╨╛╨▒╤à╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤ü╤é╤î╤À ╤â╨┐╤Ç╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤§ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝7. ╨Ê ╨┤╨░╨╗╤î╨╜╨╡╨╣╤ê╨╡╨╝ ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗ ╤Ç╨░╨╖╨╗╨╕╤ç╨╜╤ï╨╡ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨╜╨░ ╨│╨╛╤ü╤â╨┤╨░╤Ç╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╨╡ ╨╕ ╨▓╤ï╨┐╨╛╨╗╨╜╤§╨╗ ╤Ç╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╜╤â╤À ╨┤╨╡╤§╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╤ü╤é╤î ╨▓ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ü╤Â╨╡╤Ç╨╡: ╨▒╤ï╨╗ ╨┐╤Ç╨╡╨┤╨▓╨╛╨┤╨╕╤é╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨▒╨╡╨╗╨╛╨╖╨╡╤Ç╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤Ç╤§╨╜╤ü╤é╨▓╨░ ╨▓ ╨Ù╨╛╨▓╨│╨╛╤Ç╨╛╨┤╤ü╨║╨╛╨╣ ╨│╤â╨▒╨╡╤Ç╨╜╨╕╨╕ (╤ü 1854 ╨│.), ╨┐╤Ç╨╡╨┤╤ü╨╡╨┤╨░╤é╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨Ù╨╛╨▓╨│╨╛╤Ç╨╛╨┤╤ü╨║╨╛╨╣ ╨│╤â╨▒╨╡╤Ç╨╜╤ü╨║╨╛╨╣ ╨╖╨╡╨╝╤ü╨║╨╛╨╣ ╤â╨┐╤Ç╨░╨▓╤ï (╤ü 1865 ╨│.), ╨░╤Ç╤à╨░╨╜╨│╨╡╨╗╤î╤ü╨║╨╕╨╝ ╨│╤â╨▒╨╡╤Ç╨╜╨░╤é╨╛╤Ç╨╛╨╝ (1869ΓÇô1870) ╨╕ ╨┤╨╕╤Ç╨╡╨║╤é╨╛╤Ç╨╛╨╝ ╨Ë╨╡╨┐╨░╤Ç╤é╨░╨╝╨╡╨╜╤é╨░ ╤é╨░╨╝╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╤ü╨▒╨╛╤Ç╨╛╨▓ ╨£╨╕╨╜╨╕╤ü╤é╨╡╤Ç╤ü╤é╨▓╨░ ╤Â╨╕╨╜╨░╨╜╤ü╨╛╨▓ (1870ΓÇô1882).
╨ù╨╜╨░╤ç╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╨╡ ╨▓╨╗╨╕╤§╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤Â╨╛╤Ç╨╝╨╕╤Ç╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕╤à ╨▓╨╖╨│╨╗╤§╨┤╨╛╨▓ ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕ ╨▒╨╗╨╕╨╖╨║╨╛╨╡ ╨╖╨╜╨░╨║╨╛╨╝╤ü╤é╨▓╨╛ ╤ü ╨╜╨╡╨┐╨╛╤ü╤Ç╨╡╨┤╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Ç╨╡╨░╨╗╤î╨╜╨╛╤ü╤é╤î╤À ╨╕ ╨┐╨╛╨▓╤ü╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╛╤ü╤é╤î╤À ╨│╨╛╤ü╤â╨┤╨░╤Ç╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ ╨▓ ╨┐╤Ç╨╛╨▓╨╕╨╜╤¶╨╕╨╕ ╨╕ ╤ü╨▒╨╗╨╕╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ (╨┐╨╛ ╤Ç╨╡╨║╨╛╨╝╨╡╨╜╨┤╨░╤¶╨╕╨╕ ╨Ê.╨ƒ. ╨£╨╡╤ë╨╡╤Ç╤ü╨║╨╛╨│╨╛) ╤ü ╤Â╨╛╤Ç╨╝╨╕╤Ç╨╛╨▓╨░╨▓╤ê╨╕╨╝╤ü╤§ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤¶╨╡ 1860-╤à ╨│╨│. ╨╛╨║╤Ç╤â╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░╤ü╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨║╨░ ╨┐╤Ç╨╡╤ü╤é╨╛╨╗╨░, ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤§╨╖╤§ ╨É╨╗╨╡╨║╤ü╨░╨╜╨┤╤Ç╨░ ╨É╨╗╨╡╨║╤ü╨░╨╜╨┤╤Ç╨╛╨▓╨╕╤ç╨░. ╨Ù╨░ ╨▓╨╡╤ç╨╡╤Ç╨░╤à ╤â ╨É╨╗╨╡╨║╤ü╨░╨╜╨┤╤Ç╨░ ╨É╨╗╨╡╨║╤ü╨░╨╜╨┤╤Ç╨╛╨▓╨╕╤ç╨░, ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╤ï╨╡ ╤â╤ü╤é╤Ç╨░╨╕╨▓╨░╨╗ ╨Ê.╨ƒ. ╨£╨╡╤ë╨╡╤Ç╤ü╨║╨╕╨╣, ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤ü╤é╤î ╨▓╤ü╤é╤Ç╨╡╤ç╨░╤é╤î╤ü╤§ ╤ü ╨Ü.╨ƒ. ╨ƒ╨╛╨▒╨╡╨┤╨╛╨╜╨╛╤ü╤¶╨╡╨▓╤ï╨╝, ╨Ë.╨É. ╨Û╨▒╨╛╨╗╨╡╨╜╤ü╨║╨╕╨╝, ╨Ê.╨É. ╨¯╨╡╤Ç╨║╨░╤ü╤ü╨║╨╕╨╝, ╨£.╨Ù. ╨Ü╨░╤é╨║╨╛╨▓╤ï╨╝, ╨¤.╨´. ╨É╨║╤ü╨░╨║╨╛╨▓╤ï╨╝ ╨╕ ╨┤╤Ç8. ╨Ê ╨┐╨╕╤ü╤î╨╝╨╡ ╨║ ╨╜╨░╤ü╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨║╤â ╨┐╤Ç╨╡╤ü╤é╨╛╨╗╨░ ╨╛╤é 12 ╨░╨┐╤Ç╨╡╨╗╤§ 1868 ╨│. ╨Ê.╨ƒ. ╨£╨╡╤ë╨╡╤Ç╤ü╨║╨╕╨╣ ╨┤╨░╨╗ ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╤â ╤ü╨╗╨╡╨┤╤â╤À╤ë╤â╤À ╤à╨░╤Ç╨░╨║╤é╨╡╤Ç╨╕╤ü╤é╨╕╨║╤â: ┬½╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ΓÇô ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨╕╤à ╨╜╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤à ╨╜╨╡╨┐╨╡╤é╨╡╤Ç╨▒╤â╤Ç╨│╤ü╨║╨╕╤à ╤Ç╤â╤ü╤ü╨║╨╕╤à! ╨Ï╨│╨╛ ╨┐╤Ç╨╛╤¶╨╡╤ü╤ü ╨╝╤ï╤ü╨╗╨╡╨╣ ╤ü╨╛╨▓╨╡╤Ç╤ê╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╕╨╜╨░╤ç╨╡ ╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╤â╨╡╤é╤ü╤§, ╤ç╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨│╨╕╨║╨░ ╨É.╨Ë. ╨Î╤â╨╝╨░╤à╨╡╤Ç╨░, ╨£.╨¸. ╨¦╨╡╨╣╤é╨╡╤Ç╨╜╨░, ╨ƒ.╨É. ╨Î╤â╨▓╨░╨╗╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╤é╨╛╨╝╤â ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤ï╤à ╨│╨╛╤ü╤â╨┤╨░╤Ç╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨╗╤À╨┤╨╡╨╣. ╨¢╨╛╨│╨╕╨║╨░ ╨╛╤é╨╜╨╛╤ü╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛ ╤Ç╤â╤ü╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨║╨╛╨│╨╛-╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨▓╨╛╨┐╤Ç╨╛╤ü╨░ ╤â ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░ ╤ü╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗╨░╤ü╤î ╨▓ ╤é╨╡╤ç╨╡╨╜╨╕╨╡ 10 ╨╕ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨╗╨╡╤é ╨┤╨╛╨▒╤Ç╨╛╤ü╨╛╨▓╨╡╤ü╤é╨╜╨╛╨│╨╛ ╤é╤Ç╤â╨┤╨░ ╨╛╨╖╨╜╨░╨║╨╛╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╤§ ╤ü ╨╜╨░╤Ç╨╛╨┤╨╜╤ï╨╝╨╕ ╨╜╤â╨╢╨┤╨░╨╝╨╕, ╨╗╨╛╨│╨╕╨║╨░ ╨╢╨╡ ╨Î╤â╨▓╨░╨╗╨╛╨▓╨░, ╨¦╨╡╨╣╤é╨╡╤Ç╨╜╨░, ╨É.╨Ï. ╨ó╨╕╨╝╨░╤ê╨╡╨▓╨░ ╨╕ ╨Ü┬░ ╤ü╨╛╨╖╨╕╨┤╨░╨╡╤é ╨│╨╛╤é╨╛╨▓╤ï╨╡ ╨┐╤Ç╨╡╨┤╤ü╤é╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤§ ╨╛ ╨¦╨╛╤ü╤ü╨╕╨╕ ╨╜╨╡ ╨┤╨╡╤ü╤§╤é╨║╨╕ ╨╗╨╡╤é, ╨░ ╨▓ 10 ╨╝╨╕╨╜╤â╤é, ╨▓ ╤é╤â ╨╝╨╕╨╜╤â╤é╤â, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╕╨╝ ╨┐╤Ç╨╡╨┤╨╗╨░╨│╨░╤À╤é ╨╝╨╡╤ü╤é╨╛ ╨╕ ╨╛╨╜╨╕ ╨╛╤é╨▓╨╡╤ç╨░╤À╤é ┬½╨Ë╨░┬╗Γdz┬╗9. ╨Ê 1868 ╨│. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨▓╨╛╤ê╨╡╨╗ ╨▓ ╨║╨╛╨╝╨╕╤ü╤ü╨╕╤À ╨┐╨╛╨┤ ╨┐╤Ç╨╡╨┤╤ü╨╡╨┤╨░╤é╨╡╨╗╤î╤ü╤é╨▓╨╛╨╝ ╤¶╨╡╤ü╨░╤Ç╨╡╨▓╨╕╤ç╨░ ╨É╨╗╨╡╨║╤ü╨░╨╜╨┤╤Ç╨░ ╨É╨╗╨╡╨║╤ü╨░╨╜╨┤╤Ç╨╛╨▓╨╕╤ç╨░ ╨┤╨╗╤§ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤§ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤ë╨╕ ╨│╨╛╨╗╨╛╨┤╨░╤À╤ë╨╡╨╝╤â ╨╜╨░╤ü╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤À ╤ü╨╡╨▓╨╡╤Ç╨╜╤ï╤à ╨│╤â╨▒╨╡╤Ç╨╜╨╕╨╣, ╨┐╨╛╤ü╤é╤Ç╨░╨┤╨░╨▓╤ê╨╕╤à ╨╛╤é ╨╜╨╡╤â╤Ç╨╛╨╢╨░╤§, ╨░ ╨▓ 1869 ╨│. ╨┐╤Ç╨╕╨╜╤§╨╗ ╤â╤ç╨░╤ü╤é╨╕╨╡ ╨▓ ╤ü╨╛╨┐╤Ç╨╛╨▓╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤â╤é╨╡╤ê╨╡╤ü╤é╨▓╨╕╤§ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤§╨╖╤§ ╨┐╨╛ ╨¦╨╛╤ü╤ü╨╕╨╕. ╨ó╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨╝, ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤¶╨╡ 1860-╤à ╨│╨│. ╨╛╨╜ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╤ü╤§ ╨▓╨╛╨▓╨╗╨╡╤ç╨╡╨╜╨╜╤ï╨╝ ╨▓ ╨╛╤ü╨╛╨▒╤â╤À ╨┐╨╛╨╗╨╕╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╤â╤À ╤ü╤Ç╨╡╨┤╤â ╤Â╨╛╤Ç╨╝╨╕╤Ç╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤§ ╤â╨╝╨╡╤Ç╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨║╨╛╨╜╤ü╨╡╤Ç╨▓╨░╤é╨╕╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╡╤Ç╨╡╨╛╤ü╨╝╤ï╤ü╨╗╨╡╨╜╨╕╤§ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨░╤é╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╤â╤Ç╤ü╨░ ┬½╨╗╨╕╨▒╨╡╤Ç╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ╨▒╤À╤Ç╨╛╨║╤Ç╨░╤é╨╕╨╕┬╗. ╨Ê ╤‗╤é╨╛╨╣ ╤ü╤Ç╨╡╨┤╨╡ ╨▒╤ï╨╗╨░ ╨░╨║╤é╤â╨░╨╗╨╕╨╖╨╕╤Ç╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨╝╤ï╤ü╨╗╤î ╨╛ ╨╜╨╡╨╕╨╖╨▒╨╡╨╢╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨╕ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤à╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤ü╤é╨╕ ╨║╨╛╤Ç╤Ç╨╡╨║╤é╨╕╤Ç╨╛╨▓╨║╨╕ ╨┐╤Ç╨╡╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣, ┬½╤ü╨╛╤ç╨╕╨╜╨╡╨╜╨╜╤ï╤à┬╗ ╨▓ ╨╗╨╕╨▒╨╡╤Ç╨░╨╗╤î╨╜╨╛ ╨╜╨░╤ü╤é╤Ç╨╛╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨┐╨╡╤é╨╡╤Ç╨▒╤â╤Ç╨│╤ü╨║╨╕╤à ╨▒╤À╤Ç╨╛╨║╤Ç╨░╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕╤à ╤ü╤Â╨╡╤Ç╨░╤à, ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╤â╤À ╨╜╤â╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨┐╤Ç╨╛╨▓╨╡╤ü╤é╨╕, ╨╕╤ü╤à╨╛╨┤╤§ ╨╕╨╖ ╨║╨╛╨╜╨║╤Ç╨╡╤é╨╜╤ï╤à ╨┐╨╛╤é╤Ç╨╡╨▒╨╜╨╛╤ü╤é╨╡╨╣ ╨╕ ╨┐╤Ç╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝ ╨│╨╛╤ü╤â╨┤╨░╤Ç╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╤ü╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╛╤ü╤é╨╕; ╤é╨╛ ╨╡╤ü╤é╤î ╨▓ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤ü╨╗╤â╤ç╨░╨╡ ╨╛╨▒╤Ç╨╡╤é╨░╨╗ ╨╖╨╜╨░╤ç╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤ü╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤é╨╡╨╖╨╕╤ü ╨║╨╛╨╜╤ü╨╡╤Ç╨▓╨░╤é╨╕╨╖╨╝╨░ ╨╛ ╨┐╤Ç╨╡╨▓╨╛╤ü╤à╨╛╨┤╤ü╤é╨▓╨╡ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ ╨╜╨░╨┤ ╤é╨╡╨╛╤Ç╨╕╨╡╨╣. ╨Ê ╤é╨╡╤ç╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤ü╨╗╨╡╨┤╤â╤À╤ë╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╡╤ü╤§╤é╨╕╨╗╨╡╤é╨╕╤§ ╤é╨░╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┤╤à╨╛╨┤ ╨▓ ╨╡╤ë╨╡ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╡╨╣ ╤ü╤é╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕ ╤ü╤é╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨╗╤ü╤§ ╨╛╤ü╨╜╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨╕╤Ç╨╛╨▓╨╛╨╖╨╖╤Ç╨╡╨╜╨╕╤§ ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░, ╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╨╜ ╨╛╨┐╤Ç╨╡╨┤╨╡╨╗╤§╨╗ ╤à╨░╤Ç╨░╨║╤é╨╡╤Ç ╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╜╤ï╤à ╤é╨╡╨║╤ü╤é╨╛╨▓, ╨╜╨░╨┐╨╕╤ü╨░╨╜╨╜╤ï╤à ╨▓ 1883ΓÇô1888 ╨│╨│.
╨Ë╨╡╨╣╤ü╤é╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛, ╨▓ ╨│╨╗╨░╨▓╨░╤à, ╨┐╨╛╤ü╨▓╤§╤ë╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╤â╤ç╨╡╨▒╨╡ ╨▓ ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╝ ╨║╨░╨┤╨╡╤é╤ü╨║╨╛╨╝ ╨║╨╛╤Ç╨┐╤â╤ü╨╡ ╨╕ ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╨╡ ╨▓╨╛ ╤Â╨╗╨╛╤é╨╡, ╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╕╤ü╤é ╨┐╨╛╤ü╤é╨╛╤§╨╜╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤ç╨╡╤Ç╨║╨╕╨▓╨░╨╡╤é ╨┐╤Ç╨░╨│╨╝╨░╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕╨╡ ╤ü╤é╨╛╤Ç╨╛╨╜╤ï ╨╛╨┐╨╕╤ü╤ï╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨╣ ╨┤╨╡╨╣╤ü╤é╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╤ü╤é╨╕, ╨┐╤Ç╨╛╤ê╨╡╨┤╤ê╨╕╨╡ ╨┐╤Ç╨╛╨▓╨╡╤Ç╨║╤â ╨▓╤Ç╨╡╨╝╨╡╨╜╨╡╨╝, ╨╛╤ü╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤ï╨╡ ╨╜╨░ ╨╕╤ü╤é╨╛╤Ç╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕╤à ╤é╤Ç╨░╨┤╨╕╤¶╨╕╤§╤à, ╨╕ ╨╛╤ç╨╡╨╜╤î ╤ç╨░╤ü╤é╨╛ ╤ü╨╡╤é╤â╨╡╤é ╨╜╨░ ╨┐╨╛╤ü╨┐╨╡╤ê╨╜╨╛╤ü╤é╤î ╨╕ ╨╜╨╡╨╛╨▒╨╛╤ü╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╤î ╨╛╤é╨║╨░╨╖╨░ ╨╛╤é ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤à ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤à ╨▓ ╤à╨╛╨┤╨╡ ╤Ç╨░╨╖╨╗╨╕╤ç╨╜╤ï╤à ╨┐╤Ç╨╡╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣.
╨ô╨╛╨▓╨╛╤Ç╤§ ╨╛╨▒ ╨╛╨▒╤â╤ç╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓ ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╝ ╨║╨╛╤Ç╨┐╤â╤ü╨╡, ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨╜╨╡╤ü╨║╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╤Ç╨░╨╖ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤Ç╨░╤ë╨░╨╡╤é╤ü╤§ ╨║ ╤é╨╛╨╣ ╨╝╤ï╤ü╨╗╨╕, ╤ç╤é╨╛ ╨▓╤ü╤§ ╤ü╨╕╤ü╤é╨╡╨╝╨░ ╨┐╤Ç╨╡╨┐╨╛╨┤╨░╨▓╨░╨╜╨╕╤§ ╨╕ ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╕╤é╨░╨╜╨╕╤§ ╨▓ ╤ü╤é╨╡╨╜╨░╤à ╤‗╤é╨╛╨│╨╛ ╤â╤ç╨╡╨▒╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤§ ╨▓ 1830-╨╡ ╨│╨│. ╨▒╤ï╨╗╨░ ╨╜╨░╨┐╤Ç╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨║ ╤Ç╨░╨╖╨▓╨╕╤é╨╕╤À ╤ü╨┐╨╛╤ü╨╛╨▒╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ü╨┐╨╡╤¶╨╕╨░╨╗╨╕╤ü╤é╨░ ╨╕╨╖ ╨╗╤À╨▒╨╛╨│╨╛ ┬½╤ê╨░╨╗╤â╨╜╨░ ╨╕ ╨╗╨╡╨╜╤é╤§╤§┬╗, ╨║ ╨║╨░╨║╨╛╨▓╤ï╨╝ ╨╛╨╜ ╨┐╤Ç╨╕╤ç╨╕╤ü╨╗╤§╨╗ ╨╕ ╤ü╨░╨╝╨╛╨│╨╛ ╤ü╨╡╨▒╤§ ╨▓ ╨╛╤é╤Ç╨╛╤ç╨╡╤ü╤é╨▓╨╡. ╨Ê ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤§╤à ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▓╤ü╤é╤Ç╨╡╤é╨╕╤é╤î ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╤é╨╡╨┐╨╗╤ï╤à ╨╕ ╨┐╤Ç╨╕╨╖╨╜╨░╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╤à ╤ü╨╗╨╛╨▓ ╨▓ ╨░╨┤╤Ç╨╡╤ü ╨┐╨╡╨┤╨░╨│╨╛╨│╨╛╨▓ ╨╕ ╨╛╤Â╨╕╤¶╨╡╤Ç╨╛╨▓ ╨║╨╛╤Ç╨┐╤â╤ü╨░, ╨╕ ╨╛╤ü╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ΓÇô ╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╕╤Ç╨╡╨║╤é╨╛╤Ç╨░ ╨¤.╨¨. ╨Ü╤Ç╤â╨╖╨╡╨╜╤ê╤é╨╡╤Ç╨╜╨░. ╨Û╤é╨╗╨╕╤ç╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ╤ç╨╡╤Ç╤é╨╛╨╣ ┬½╤ü╨╕╤ü╤é╨╡╨╝╤ï ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╕╤é╨░╨╜╨╕╤§ ╨Ü╤Ç╤â╨╖╨╡╨╜╤ê╤é╨╡╤Ç╨╜╨░┬╗ ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╗ ╨▓╤ï╤Ç╨░╨▒╨╛╤é╨║╤â ╨▓ ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╕╤é╨░╨╜╨╜╨╕╨║╨░╤à ╤ü╨┐╨╛╤ü╨╛╨▒╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ┬½╤ü╨║╨╛╤Ç╨╛ ╨┐╤Ç╨╕╤ü╨╝╨░╤é╤Ç╨╕╨▓╨░╤é╤î╤ü╤§ ╨║ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╝╤â ╨┤╨╡╨╗╤â ╨╕ ╤â╨╝╨╡╤é╤î ╨┐╤Ç╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛ ╨┐╤Ç╨╕╨╝╨╡╨╜╤§╤é╤î ╨║ ╨╜╨╡╨╝╤â ╤ü╨▓╨╛╨╕ ╤ü╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤§┬╗10. ╨¾╤é╨╛╨╝╤â ╤ü╨┐╨╛╤ü╨╛╨▒╤ü╤é╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╕ ╤ü╨╛╤ü╤é╨░╨▓ ╨┐╤Ç╨╡╨┐╨╛╨┤╨░╨▓╨░╨╡╨╝╤ï╤à ╨┤╨╕╤ü╤¶╨╕╨┐╨╗╨╕╨╜, ╤ü╤Ç╨╡╨┤╨╕ ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╤ï╤à ╨┐╤Ç╨╡╨╛╨▒╨╗╨░╨┤╨░╨╗╨╕ ╨╝╨░╤é╨╡╨╝╨░╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕╨╡ ╨╕ ╤ü╨┐╨╡╤¶╨╕╨░╨╗╤î╨╜╤ï╨╡ ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╨╡ ╨╜╨░╤â╨║╨╕, ╨╕ ╨┐╨╛╨▓╤ï╤ê╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║ ╨┐╤Ç╨░╨║╤é╨╕╨║╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░. ╨Ü╨░╨┤╨╡╤é╤ï ╤â╨╝╨╡╨╗╨╕ ╤â╨▒╨╕╤Ç╨░╤é╤î ╨┐╨░╤Ç╤â╤ü╨░, ╨▒╤Ç╨░╤é╤î ╤Ç╨╕╤Â╤ï, ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╨│╤Ç╨╡╨▒╤¶╨░╨╝╨╕ ╨╜╨░ ╤ê╨╗╤À╨┐╨║╨░╤à, ╨╕╤ü╨┐╨╛╨╗╨╜╤§╨╗╨╕ ╨▓╤ü╨╡ ╨╝╨░╤é╤Ç╨╛╤ü╤ü╨║╨╕╨╡ ╨╛╨▒╤§╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨╕, ╤é╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨╝, ╨┐╤Ç╨╛╤à╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕ ┬½╨┐╤Ç╨╡╨▓╨╛╤ü╤à╨╛╨┤╨╜╤â╤À ╨┐╤Ç╨░╨║╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╤â╤À ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤é╨╛╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤â╤À ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╤â╤À ╤ê╨║╨╛╨╗╤â┬╗. ┬½╨Ü╨░╨╢╨┤╨╛╨╡ ╨╗╨╡╤é╨╛ ╨│╨░╤Ç╨┤╨╡╨╝╨░╤Ç╨╕╨╜╤ï ╨┐╨╛╤ü╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╤à ╨┤╨▓╤â╤à ╨║╨╗╨░╤ü╤ü╨╛╨▓ ╨┐╨╛╤ü╤ï╨╗╨░╨╗╨╕╤ü╤î ╨▓ ╨Ü╤Ç╨╛╨╜╤ê╤é╨░╨┤╤é ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤â╤À ╤‗╤ü╨║╨░╨┤╤Ç╤â ╨╕ ╤Ç╨░╤ü╨┐╨╕╤ü╤ï╨▓╨░╨╗╨╕╤ü╤î ╨┐╨╛ ╨║╨╛╤Ç╨░╨▒╨╗╤§╨╝ ╨┤╨╗╤§ ╨┐╨╗╨░╨▓╨░╨╜╨╕╤§ ╨▓ ╤é╨╡╤ç╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╤ü╨╡╨╣ ╨╜╨░╨▓╨╕╨│╨░╤¶╨╕╨╕Γdz ╨» ╨┐╨╛╨╝╨╜╤À, ╨║╨░╨║╨░╤§ ╨▒╤ï╨╗╨░ ╨╛╨▒╤ë╨░╤§ ╤Ç╨░╨┤╨╛╤ü╤é╤î, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╤ü╤â╨┤╨░ ╤‗╤é╨╕ ╨╜╨░╤ç╨╕╨╜╨░╨╗╨╕ ╨▓╨╡╤ü╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╛╤Ç╤â╨╢╨░╤é╤î╤ü╤§, ╤ü ╨║╨░╨║╨╕╨╝ ╨╕╨╜╤é╨╡╤Ç╨╡╤ü╨╛╨╝ ╤ü╨╗╨╡╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨╖╨░ ╤à╨╛╨┤╨╛╨╝ ╤Ç╨░╨▒╨╛╤é, ╨╕ ╤‗╤é╨╛ ╨▓╨╛╨╖╨▒╤â╨╢╨┤╨░╨╗╨╛ ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╣ ╨┤╤â╤à ╨╕ ╨╖╨╜╨░╨║╨╛╨╝╨╕╨╗╨╛ ╤ü ╨┐╤Ç╨╛╤¶╨╡╤ü╤ü╨╛╨╝ ╨▓╨╛╨╛╤Ç╤â╨╢╨╡╨╜╨╕╤§┬╗11.
╨ƒ╤Ç╨╕╨╝╨╡╤ç╨░╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛, ╤ç╤é╨╛, ╨▓╤ü╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╤§ ╨╛ ╨│╨╛╨┤╨░╤à ╨╛╨▒╤â╤ç╨╡╨╜╨╕╤§ ╨▓ ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╝ ╨║╨░╨┤╨╡╤é╤ü╨║╨╛╨╝ ╨║╨╛╤Ç╨┐╤â╤ü╨╡, ╤ü╤Ç╨╡╨┤╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╤à ╤ü╤é╨╛╤Ç╨╛╨╜ ╨╛╤Ç╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤¶╨╕╨╕ ╤â╤ç╨╡╨▒╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Ç╨╛╤¶╨╡╤ü╤ü╨░ ╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╕╤ü╤é ╨╜╨░╨╖╤ï╨▓╨░╨╡╤é ╤é╨╡, ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╤ï╨╡ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤Ç╨░╤ü╤ü╨╝╨░╤é╤Ç╨╕╨▓╨░╤é╤î ╨║╨░╨║ ╤ç╨░╤ü╤é╨╜╤ï╨╡ ╨┐╤Ç╨╛╤§╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤§ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤â╤ü╤é╤Ç╨╛╨╣╤ü╤é╨▓╨░, ╨╛╤ü╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░ ╤¶╨╡╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╤§╤à ╤ü╤é╨░╨▒╨╕╨╗╤î╨╜╨╛╤ü╤é╨╕, ╤ü╨╛╤¶╨╕╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ╨╖╨░╤ë╨╕╤ë╨╡╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨╕ ╨╛╨┐╨╡╨║╨╕. ╨ƒ╤Ç╨╕╨╜╤§╤é╨╛ ╤ü╤ç╨╕╤é╨░╤é╤î ╨╛╨▒╤Ç╨░╤é╨╜╨╛╨╣ ╤ü╤é╨╛╤Ç╨╛╨╜╨╛╨╣ ╤é╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╤Ç╤§╨┤╨║╨░ ╨┐╨╛╨╜╨╕╨╢╨╡╨╜╨╜╤â╤À ╨╗╨╕╤ç╨╜╤â╤À ╨╛╤é╨▓╨╡╤é╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╤î ╨╖╨░ ╤ü╨▓╨╛╨╡ ╨▒╤â╨┤╤â╤ë╨╡╨╡, ╨╜╨╛ ╨▓ ╨┐╨╡╤Ç╨╕╨╛╨┤ ╨┐╨╡╤Ç╨╡╤à╨╛╨┤╨░ ╨║ ╨╝╨╛╨┤╨╡╨╗╨╕ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨░, ╨╛╤ü╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╜╨║╤â╤Ç╨╡╨╜╤¶╨╕╨╕ ╨║╨░╨┐╨╕╤é╨░╨╗╨╛╨▓, ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤ü╤é╨╡╨╣ ╨╕ ╨╗╨╕╤ç╨╜╤ï╤à ╨╕╨╜╤é╨╡╤Ç╨╡╤ü╨╛╨▓, ╨╜╨╛╤ü╤é╨░╨╗╤î╨│╨╕╤§ ╨┐╨╛ ╤Ç╨╛╨╝╨░╨╜╤é╨╕╨╖╨╕╤Ç╤â╨╡╨╝╤ï╨╝ ╨▓╤Ç╨╡╨╝╨╡╨╜╨░╨╝ ┬½╨▒╨╡╨╖╤Ç╨╕╤ü╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤Ç╨╡╨░╨╗╤î╨╜╨╛╤ü╤é╨╕┬╗ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤é ╨╛╨┐╤Ç╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╣ ╤ü╨╝╤ï╤ü╨╗, ╨▓╨╛╨╖╨▓╤Ç╨░╤ë╨░╤§ ╨║ ╨▓╨╛╨┐╤Ç╨╛╤ü╤â ╨╛ ╤ü╨╛╤¶╨╕╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ╤ü╨┐╤Ç╨░╨▓╨╡╨┤╨╗╨╕╨▓╨╛╤ü╤é╨╕. ╨Ê╨╛ ╨▓╤ü╤§╨║╨╛╨╝ ╤ü╨╗╤â╤ç╨░╨╡, ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡╨╗ ╨┤╨╛╤ü╤é╨╛╨╕╨╜╤ü╤é╨▓╨╛ ┬½╨┐╤Ç╨╡╨╢╨╜╨╡╨│╨╛┬╗ ╨▓╤Ç╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨▓ ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╝ ╨║╨╛╤Ç╨┐╤â╤ü╨╡ ╨▓ ╤é╨╛╨╝, ╤ç╤é╨╛ ╨▓ ╨╜╨╡╨╝ ╤ü╨╛╨▓╨╡╤Ç╤ê╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨╕╤ü╨║╨╗╤À╤ç╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨╖╨░ ╨┐╤Ç╨╛╨▓╨╕╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨╡╤ü╨┐╨╛╤ü╨╛╨▒╨╜╨╛╤ü╤é╤î ╨║ ╤â╤ç╨╡╨╜╨╕╤À, ╨╕ ┬½╨┐╨╛ ╨╝╨╕╨╗╨╛╤ü╤é╨╕ ╤‗╤é╨╛╨│╨╛ ╨│╤â╨╝╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╖╨│╨╗╤§╨┤╨░ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨░╤§ ╤ç╨░╤ü╤é╤î ╨▓╤ï╤Ç╨░╨▒╨░╤é╤ï╨▓╨░╨╗╨░╤ü╤î ╨▓ ╨╗╤À╨┤╨╡╨╣ ╨┐╨╛╤Ç╤§╨┤╨╛╤ç╨╜╤ï╤à ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨╖╨╜╤ï╤à┬╗12.
╨Ê ╤¶╨╡╨╗╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤â╤À ╨╛╤¶╨╡╨╜╨║╤â ╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╕╤ü╤é╨░ ╨┐╨╛╨╗╤â╤ç╨╕╨╗ ╨╕ ╤ü╨╛╤ü╨╗╨╛╨▓╨╜╤ï╨╣ ╨┐╤Ç╨╕╨╜╤¶╨╕╨┐ ╨▓ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤é╨╛╨▓╨║╨╡ ╨║╨░╨┤╤Ç╨╛╨▓ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░. ╨ƒ╤Ç╨╕ ╤‗╤é╨╛╨╝ ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓, ╨╛╤é╨║╨░╨╖╤ï╨▓╨░╤§╤ü╤î ╨╛╤é ╨┐╤Ç╨╛╨│╤Ç╨╡╤ü╤ü╨╕╨▓╨╜╤ï╤à ╨╕╨┤╨╡╨╣ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╨║╨░, ╤Ç╤â╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤ü╤é╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╤ü╤§ ╤ü╨╛╨╛╨▒╤Ç╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤§╨╝╨╕ ╨┐╤Ç╨░╨│╨╝╨░╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╤à╨░╤Ç╨░╨║╤é╨╡╤Ç╨░ ╨╕ ╨╕╤ü╤à╨╛╨┤╨╕╨╗ ╨╕╨╖ ╤¶╨╡╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╨╡╨╣ ╤ü╤é╨░╨▒╨╕╨╗╤î╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨╕ ╨╖╨░╤ë╨╕╤ë╨╡╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨┐╤Ç╨╛╤Â╨╡╤ü╤ü╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤î╨╜╨╛-╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╤Ç╨┐╨╛╤Ç╨░╤¶╨╕╨╕. ╨ƒ╨╛ ╤‗╤é╨╛╨╝╤â ╨┐╨╛╨▓╨╛╨┤╤â ╨╛╨╜ ╨╖╨░╨╝╨╡╤ç╨░╨╗: ┬½╨Ê ╨┐╤Ç╨╡╨╢╨╜╨╕╨╡ ╨▓╤Ç╨╡╨╝╨╡╨╜╨░ ╨╝╨╛╤Ç╤§╨║╨╕ ╤é╨╡╤Ç╨┐╨╡╨╗╨╕╨▓╨╛ ╨┐╨╡╤Ç╨╡╨╜╨╛╤ü╨╕╨╗╨╕ ╨╗╨╕╤ê╨╡╨╜╨╕╤§ ╨╕ ╤é╤Ç╤â╨┤╨╜╤â╤À ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╤â, ╨╕╨╝╨╡╤§ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╤â, ╤ç╤é╨╛ ╨┤╨╡╤é╨╕ ╨╕╤à ╨┐╨╛╤ü╤é╤â╨┐╤§╤é ╨▓ ╨Ü╨╛╤Ç╨┐╤â╤ü ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤â╤ç╨░╤é ╨┤╨░╨╗╤î╨╜╨╡╨╣╤ê╤â╤À ╨┤╨╛╤Ç╨╛╨│╤â┬╗13. ╨£╨░╨╗╨╛ ╤é╨╛╨│╨╛, ╨┐╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤À ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░, ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤ü╨╡╨╝╤î╤§ ╨╕ ╤ü╨╛╤ü╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛-╨║╨╛╤Ç╨┐╨╛╤Ç╨░╤é╨╕╨▓╨╜╨░╤§ ╤ü╤Ç╨╡╨┤╨░ ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╕╤é╤ï╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╝╨╛╤Ç╨░╨╗╤î╨╜╤ï╨╡ ╨╕ ╨┐╤Ç╨╛╤Â╨╡╤ü╤ü╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤î╨╜╤ï╨╡ ╨║╨░╤ç╨╡╤ü╤é╨▓╨░ ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╤à ╨╛╤Â╨╕╤¶╨╡╤Ç╨╛╨▓: ┬½╨Ê╨╛╤ü╨┐╨╕╤é╨░╨╜╨╜╨╕╨║╨╕ ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤Ç╨┐╤â╤ü╨░ ╤ü╨╛╤ü╤é╨╛╤§╨╗╨╕ ╨┐╤Ç╨╡╨╕╨╝╤â╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╕╨╖ ╨┤╨╡╤é╨╡╨╣ ╨╝╨╛╤Ç╤§╨║╨╛╨▓, ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╤ï╨╡, ╨▓╤ï╤Ç╨░╤ü╤é╨░╤§ ╨▓ ╤ü╨╡╨╝╤î╨╡ ╨╝╨╛╤Ç╤§╨║╨╛╨▓ ╨╕ ╨▓ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╡ ╨╝╨╛╤Ç╤§╨║╨╛╨▓, ╤ü ╨╝╨╛╨╗╨╛╨║╨╛╨╝ ╨▓╤ü╨░╤ü╤ï╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨╜╤§╤é╨╕╤§ ╨╛ ╤ü╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨▒╤â╨┤╤â╤ë╨╡╨╣ ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╨╡ ╨╕ ╤ü╨▓╨╛╨╕╤à ╨╛╨▒╤§╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╤§╤à; ╨║╤Ç╨╛╨╝╨╡ ╤é╨╛╨│╨╛, ╨┤╨╡╤é╨╕ ╨▓╨╕╨┤╨╡╨╗╨╕, ╤ç╤é╨╛ ╨╛╨║╤Ç╤â╨╢╨░╤À╤ë╨╡╨╡ ╨╕╤à ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╛ ╤é╨╡╤Ç╨┐╨╡╨╗╨╕╨▓╨╛ ╨┐╨╡╤Ç╨╡╨╜╨╛╤ü╨╕╨╗╨╛ ╨╗╨╕╤ê╨╡╨╜╨╕╤§ ╨┐╤Ç╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤â╤ç╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤ü╨║╤Ç╨╛╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ü╨╛╨┤╨╡╤Ç╨╢╨░╨╜╨╕╤§Γdz ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤¶, ╨┤╨╡╤é╨╕ ╨╝╨╛╤Ç╤§╨║╨╛╨▓ ╤ü ╨┤╨╡╤é╤ü╤é╨▓╨░ ╤â╤ü╨▓╨░╨╕╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┐╤Ç╨░╨▓╨╕╨╗╨░ ╤ç╨╡╤ü╤é╨╕ ╨╕ ╤â╨▒╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡, ╤ç╤é╨╛ ╨║╨░╨╖╨╜╤â ╨╕ ╨╛╤ü╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╝╨░╤é╤Ç╨╛╤ü╨░ ╨╛╨▒╨▓╨╛╤Ç╨╛╨▓╤ï╨▓╨░╤é╤î ╤ü╤é╤ï╨┤╨╜╨╛, ╨╕╤ü╨┐╨╛╨╗╨╜╤§╤é╤î ╨╜╨╡╨▒╤Ç╨╡╨╢╨╜╨╛ ╤ü╨▓╨╛╨╕ ╨╛╨▒╤§╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╨╕, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╤é ╤‗╤é╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╕╤ü╨╕╤é ╤ç╨░╤ü╤é╨╛ ╨╢╨╕╨╖╨╜╤î ╤¶╨╡╨╗╨╛╨│╨╛ ╤‗╨║╨╕╨┐╨░╨╢╨░, ╨│╤Ç╨╡╤ê╨╜╨╛ ╨╕ ╨┐╤Ç.┬╗14. ╨£╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╕╤ü╤é ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤Ç╨│ ╨║╤Ç╨╕╤é╨╕╨║╨╡ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╤ï ╨▓ ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╝ ╨║╨╛╤Ç╨┐╤â╤ü╨╡, ╨┐╤Ç╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤ï╨╡ ╨╜╨╛╨▓╤ï╨╝ ╨┤╨╕╤Ç╨╡╨║╤é╨╛╤Ç╨╛╨╝ ╨Ê.╨¤. ╨¦╨╕╨╝╤ü╨║╨╕╨╝-╨Ü╨╛╤Ç╤ü╨░╨║╨╛╨▓╤ï╨╝, ╨▓ ╤Ç╨╡╨╖╤â╨╗╤î╤é╨░╤é╨╡ ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╤ï╤à ╨▒╤ï╨╗ ╨┤╨╛╨┐╤â╤ë╨╡╨╜ ╨┐╤Ç╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╤â╤ç╨╡╨▒╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╡╤é╨╡╨╣ ╨▓╤ü╨╡╤à ╤ü╨╛╤ü╨╗╨╛╨▓╨╕╨╣. ╨ƒ╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤À, ╨║╨╛╨╜╨║╤â╤Ç╨╡╨╜╤¶╨╕╤§ ╤ü╨╛╤ü╨╗╨╛╨▓╨╕╨╣ ╤ü╨╛╨║╤Ç╨░╤é╨╕╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤ü╤é╤î ╨┐╤Ç╨╕╨╡╨╝╨░ ╨┤╨╡╤é╨╡╨╣ ╤ü╤é╨░╤Ç╤ï╤à ╨╖╨░╤ü╨╗╤â╨╢╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨╝╨╛╤Ç╤§╨║╨╛╨▓, ╨░ ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╕╤é╨░╨╜╨╜╨╕╨║╨╕ ╨╕╨╖ ╨┤╤Ç╤â╨│╨╕╤à ╤ü╨╛╤ü╨╗╨╛╨▓╨╕╨╣ ┬½╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╤â╤ü╨▓╨╛╨╕╤é╤î ╨║╨╛╤Ç╨┐╨╛╤Ç╨░╤é╨╕╨▓╨╜╤ï╤à, ╨▓╤ï╤Ç╨░╨▒╨╛╤é╨░╨╜╨╜╤ï╤à ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╨╝ ╨║╤Ç╤â╨╢╨║╨╛╨╝ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨┐╨╛╨╜╤§╤é╨╕╨╣ ╨╕ ╨▓╨╜╨╡╤ü╨╗╨╕ ╤Ç╨╛╨╖╨╜╤î ╨║╨░╨║ ╨▓ ╤é╨╛╨▓╨░╤Ç╨╕╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╛, ╤é╨░╨║ ╨╕ ╨▓ ╨║╨░╤À╤é-╨║╨╛╨╝╨┐╨░╨╜╨╕╤À┬╗15.
╨¦╨░╨╖╤â╨╝╨╡╨╡╤é╤ü╤§, ╨░╨▓╤é╨╛╤Ç╤â ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨╡╨╗╤î╨╖╤§ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨╛╨▒╨╛╨╣╤é╨╕ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤à ╨╜╨╡╨┐╤Ç╨╕╨│╨╗╤§╨┤╨╜╤ï╤à ╤ü╤é╨╛╤Ç╨╛╨╜ ┬½╨┐╤Ç╨╡╨╢╨╜╨╡╨╣ ╤ü╨╕╤ü╤é╨╡╨╝╤ï┬╗ ╨╛╨▒╤â╤ç╨╡╨╜╨╕╤§ ╨╕ ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╕╤é╨░╨╜╨╕╤§ ╨▓ ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╝ ╨║╨╛╤Ç╨┐╤â╤ü╨╡. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╤â╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╗ ╨╛ ╤Ç╨╡╨┤╨║╨╛ ╤â╨┐╨╛╤é╤Ç╨╡╨▒╨╗╤§╨▓╤ê╨╕╤à╤ü╤§, ╨╜╨╛ ╤ç╤Ç╨╡╨╖╨▓╤ï╤ç╨░╨╣╨╜╨╛ ╨┐╤ü╨╕╤à╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕ ╤‗╤Â╤Â╨╡╨║╤é╨╜╨╛ ╨╛╨▒╤ü╤é╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╤é╨╡╨╗╨╡╤ü╨╜╤ï╤à ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤§╤à, ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╤ï╨╡ ┬½╤é╨╕╤Ç╨░╨╜╨╕╨╗╨╕ ╨▒╨╡╨┤╨╜╤ï╤à ╨╝╨░╨╗╤î╤ç╨╕╤ê╨╡╨║┬╗, ╨┐╤Ç╨╕╨╖╨╜╨░╨▓╨░╨╗, ╤ç╤é╨╛ ╨┐╨╡╨┤╨░╨│╨╛╨│╨╕ ╨╡╤ë╨╡ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨╜╤§╤é╨╕╤§ ╨╛╨▒ ╨╕╨╖╤â╤ç╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┤╨╡╤é╤ü╨║╨╕╤à ╤à╨░╤Ç╨░╨║╤é╨╡╤Ç╨╛╨▓, ╨╛╨┐╨╕╤ü╤ï╨▓╨░╨╗ ╤ü╨╗╤â╤ç╨░╨╕ ╨▒╨░╨╜╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ┬½╨┐╨╛╨║╨░╨╖╤â╤à╨╕┬╗ ╨▓ ╨┐╨╛╨▓╤ü╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╤â╤ç╨╡╨▒╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤§, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨║ ╨┐╤Ç╨╕╨╡╨╖╨┤╤â ╨│╨╛╤ü╤â╨┤╨░╤Ç╤§ ╨╕ ╨▓╤ï╤ü╤ê╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗╤î╤ü╤é╨▓╨░ ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╕╤é╨░╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┐╨╡╤Ç╨╡╨╛╨┤╨╡╨▓╨░╨╗╨╕ ╨▓ ╨╜╨╛╨▓╤ï╨╡ ╨╝╤â╨╜╨┤╨╕╤Ç╤ï ╨╕ ╨▓╤ü╤À╨┤╤â ╨╜╨░╤ü╤é╨╕╨╗╨░╨╗╨╕ ╨╜╨╛╨▓╤ï╨╡ ╨║╨╛╨▓╤Ç╤ï ╨╕ ╨╛╨┤╨╡╤§╨╗╨░ ╨╕ ╤é. ╨┐. ╨ó╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╡ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤ü╤é╨░╤é╨║╨╕ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨▓╨╗╨╕╤§╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╨╛╨▒╤ë╤â╤À ╨╛╤¶╨╡╨╜╨║╤â ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┤╨░╤Ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╕╤é╨░╨╜╨╜╨╕╨║╨░ ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤Ç╨┐╤â╤ü╨░: ┬½╨³╨╡╨╗╤î ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨│╨╛ ╤â╤ç╨╡╨▒╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤§ ΓÇô ╤‗╤é╨╛ ╨┤╨░╤é╤î ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╕╤é╨░╨╜╨╜╨╕╨║╤â, ╨▓╨╛-╨┐╨╡╤Ç╨▓╤ï╤à, ╨┐╨╛╨╗╨╡╨╖╨╜╤ï╨╡ ╨┤╨╗╤§ ╨╡╨│╨╛ ╨▒╤â╨┤╤â╤ë╨╡╨╣ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ ╤ü╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤§ ╨╕, ╨▓╨╛-╨▓╤é╨╛╤Ç╤ï╤à, ╤Ç╨░╨╖╨▓╨╕╤é╤î ╤ü╨┐╨╛╤ü╨╛╨▒╨╜╨╛╤ü╤é╤î ╨┐╤Ç╨╕╨╝╨╡╨╜╤§╤é╤î ╤‗╤é╨╕ ╤ü╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤§ ╤ü ╨┐╨╛╨╗╤î╨╖╨╛╨╣ ╨▓ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕. ╨» ╨┐╨╛ ╤ü╨╛╨▒╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤â ╨╛╨┐╤ï╤é╤â ╨╕╤ü╨┐╤ï╤é╨░╨╗, ╤ç╤é╨╛ ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╤Ç╨┐╤â╤ü ╨▓ ╤‗╤é╨╛╨╝ ╨╛╤é╨╜╨╛╤ê╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┤╨╛╤ü╤é╨╕╨│╨░╨╗ ╤¶╨╡╨╗╨╕┬╗16.
╨ƒ╨╡╤Ç╨╡╤à╨╛╨┤╤§ ╨║ ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤§╨╝ ╨╛ ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╨╡ ╨▓╨╛ ╤Â╨╗╨╛╤é╨╡ (╤ü 1837 ╨┐╨╛ 1845 ╨│╨│.), ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╤ç╨╡╤ü╤é╨╜╨╛ ╨┐╤Ç╨╕╨╖╨╜╨░╨▓╨░╨╗, ╤ç╤é╨╛ ╨╛╤ç╨╡╨╜╤î ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╨╡ ╤ü╤é╨╡╤Ç╨╗╨╛╤ü╤î ╨╕╨╖ ╨┐╨░╨╝╤§╤é╨╕: ┬½╨Ê╤Ç╨╡╨╝╤§ ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╣ ╨╝╨╛╨╡╨╣ ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╤ï ╨▓╤ü╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤é╤ü╤§ ╨║╨░╨║ ╨▓ ╤é╤â╨╝╨░╨╜╨╡ ╨╕ ╨┐╨╛╨│╨╗╨╛╤ë╨░╨╡╤é╤ü╤§ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╣╤ê╨╕╨╝╨╕, ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨▓╨░╨╢╨╜╤ï╨╝╨╕ ╨╕ ╤ü╨╛╨╖╨╜╨░╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╝╨╕ ╤ü╨╛╨▒╤ï╤é╨╕╤§╨╝╨╕ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕┬╗17. ╨´╨╛╨▒╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛, ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ┬½╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╣╤ê╨╕╨╡ ╤ü╨╛╨▒╤ï╤é╨╕╤§┬╗, ╨╜╨░╤ü╤é╤Ç╨╛╨╡╨╜╨╕╤§ ╨╕ ╨┐╤Ç╨╡╨┤╤ü╤é╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤§ ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╨╛╨┐╤Ç╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛╤ü╤é╤Ç╨╛╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╤ü╨╛╨┤╨╡╤Ç╨╢╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╤é╨╡╨║╤ü╤é╨░, ╤¶╨╡╨╜╤é╤Ç╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╡╨╣ ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╨╛╨│╨╛ ╤ü╤é╨░╨╗╨╛ ╤ü╤Ç╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ ╨▓ ╨┤╨╛╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨╡╨╜╨╜╤â╤À ╤‗╨┐╨╛╤à╤â ╨╕ ╨┐╨╛╤ü╨╗╨╡ ╨┐╤Ç╨╡╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨▓╤é╨╛╤Ç╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤ï 1850ΓÇô1860-╤à ╨│╨│.
╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨┤╤ç╨╡╤Ç╨║╨╕╨▓╨░╨╗, ╤ç╤é╨╛ ╨▓ ╨┐╨╡╤Ç╨╕╨╛╨┤ ╨╡╨│╨╛ ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╤ï ╨▓ ╨È╨░╨╗╤é╨╕╨╣╤ü╨║╨╛╨╝ ╤Â╨╗╨╛╤é╨╡ ╨║╨░╨╢╨┤╤ï╨╣ ╨╕╨╖ ╨┤╨▓╨░╨┤╤¶╨░╤é╨╕ ╤ü╨╡╨╝╨╕ ╤Â╨╗╨╛╤é╤ü╨║╨╕╤à ╤‗╨║╨╕╨┐╨░╨╢╨╡╨╣ ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╤ü╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Ç╤â╤ü╨╜╤ï╨╣ ╨╗╨╕╨╜╨╡╨╣╨╜╤ï╨╣ ╨║╨╛╤Ç╨░╨▒╨╗╤î, ╨▓╤ü╨╡ ╤Â╤Ç╨╡╨│╨░╤é╤ï, ╨▒╤Ç╨╕╨│╨╕, ╤ê╤à╤â╨╜╤ï ╨╕ ╨┐╨░╤Ç╨╛╤à╨╛╨┤╤ï ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╤Ç╨░╤ü╨┐╨╕╤ü╨░╨╜╤ï ╨┐╨╛ ╤‗╨║╨╕╨┐╨░╨╢╨░╨╝ ╨╕ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤é╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤ü╤î ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨░╨╝╨╕ ╨╕╨╖ ╤ü╨▓╨╛╨╕╤à ╤‗╨║╨╕╨┐╨░╨╢╨╡╨╣. ╨Ù╨╕╨║╤é╨╛ ╨╜╨╕ ╨│╨╛╨┤╨░ ╨╜╨╡ ╨╛╤ü╤é╨░╨▓╨░╨╗╤ü╤§ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╗╨░╨▓╨░╨╜╨╕╤§: ┬½╨Ê ╨┐╤Ç╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨╛╨╡╨╣ ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╤ï ╤§ ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╨┤╨░ ╨╜╨╡ ╨╛╤ü╤é╨░╨▓╨░╨╗╤ü╤§ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╗╨░╨▓╨░╨╜╨╕╤§, ╨░ ╤§ ╤ü╨╗╤â╨╢╨╕╨╗ ╨▒╨╡╨╖ ╨▓╤ü╤§╨║╨╛╨╣ ╨┐╤Ç╨╛╤é╨╡╨║╤¶╨╕╨╕┬╗18. ╨Ê╤ü╨╗╨╡╨┤╤ü╤é╨▓╨╕╨╡ ╤‗╤é╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░ ╤ü╨░╨╝╨╛╨╝ ╨▓╤ï╤ü╨╛╨║╨╛╨╝ ╤â╤Ç╨╛╨▓╨╜╨╡ ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤ï╨╡ ╨║╨░╤ç╨╡╤ü╤é╨▓╨░ ╨╕ ╨┐╤Ç╨░╨║╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨░╤§ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤é╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╤î. ╨Ë╨╛╤Ç╨╛╨│╨╕╨╝ ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┤╨╗╤§ ╨▒╤ï╨▓╤ê╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╛╤Ç╤§╨║╨░ ╨╛╤ü╤é╨░╨▓╨░╨╗╨░╤ü╤î ╨║╨░╤Ç╤é╨╕╨╜╨░ ╨Ü╤Ç╨╛╨╜╤ê╤é╨░╨┤╤é╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╤Ç╨╡╨╣╨┤╨░: ┬½╨¨╨╗╨╛╤é ╤ü╤é╨╛╤§╨╗ ╨▓ ╤é╤Ç╨╕ ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╕: ╨╗╨╕╨╜╨╕╤§ ╨║╨╛╤Ç╨░╨▒╨╗╨╡╨╣, ╨┤╤Ç╤â╨│╨░╤§ ΓÇô ╤Â╤Ç╨╡╨│╨░╤é╨╛╨▓ ╨╕ ╨║╨╛╤Ç╨▓╨╡╤é╨╛╨▓ ╨╕ ╤é╤Ç╨╡╤é╤î╤§ ΓÇô ╨╝╨╡╨╗╨║╨╕╤à ╤ü╤â╨┤╨╛╨▓, ╨╕ ╨┐╤Ç╨╛╤é╤§╨│╨╕╨▓╨░╨╗╨░╤ü╤î ╨┤╨╛ ╨ó╨╛╨╗╨▒╤â╤à╨╕╨╜╨░ ╨╝╨░╤§╨║╨░Γdz ╨Ü╨░╤Ç╤é╨╕╨╜╨░ ╨▒╤ï╨╗╨░ ╨▓╨╜╤â╤ê╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨░╤§ ╨╕ ╨╜╨╡ ╤é╨╛, ╤ç╤é╨╛ ╤é╨╡╨┐╨╡╤Ç╤î, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨Ü╤Ç╨╛╨╜╤ê╤é╨░╨┤╤é╤ü╨║╨╕╨╣ ╤Ç╨╡╨╣╨┤ ╨┐╤â╤ü╤é┬╗. ╨È╨╗╨╡╤ü╤é╤§╤ë╨╕╨╡ ╨┐╨░╤Ç╨░╨┤╨╜╤ï╨╡ ╨║╨░╤Ç╤é╨╕╨╜╤ï ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ ╨┐╤Ç╨╛╤ç╨╜╨╛ ╨░╤ü╤ü╨╛╤¶╨╕╨╕╤Ç╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤ü╤î ╨▓ ╤ü╨╛╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╕╤ü╤é╨░ ╤ü ╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨╝ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤Ç╨░╤é╨╛╤Ç╨░ ╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╤§ ╨╕ ╨▓╨╡╨╗╨╕╤ç╨╡╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╨╝ ╨▓╨╜╨╡╤ê╨╜╨╡╨┐╨╛╨╗╨╕╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕╨╝ ╨╕╨╝╨╕╨┤╨╢╨╡╨╝ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤Ç╨╕╨╕: ┬½╨ô╨╛╤ü╤â╨┤╨░╤Ç╤î ╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╣ ╨ƒ╨░╨▓╨╗╨╛╨▓╨╕╤ç ╨╗╤À╨▒╨╕╨╗ ╤Â╨╗╨╛╤é, ╤ç╨░╤ü╤é╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛╤ü╨╡╤ë╨░╨╗ ╨╕ ╨┐╤Ç╨╕╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗ ╨╕╨╜╨╛╤ü╤é╤Ç╨░╨╜╤¶╨╡╨▓, ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╤é╨╡╤ê╨╕╨╗╨░ ╤é╨░╨║╨░╤§ ╨╖╨╜╨░╤ç╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨░╤§ ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨░╤§ ╤ü╨╕╨╗╨░. ╨¤ ╤ü╨╕╨╗╨░ ╤‗╤é╨░ ╨┐╤Ç╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨░ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╨╡ ╨▓╨┐╨╡╤ç╨░╤é╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨╕╨╜╨╛╤ü╤é╤Ç╨░╨╜╤¶╨╡╨▓. ╨Ê╨╡╤Ç╨╛╤§╤é╨╜╨╛, ╨▓ ╤‗╤é╨╕╤à ╨▓╨╕╨┤╨░╤à ╨│╨╛╤ü╤â╨┤╨░╤Ç╤î ╨╛╤ç╨╡╨╜╤î ╨╕╨╜╤é╨╡╤Ç╨╡╤ü╨╛╨▓╨░╨╗╤ü╤§, ╤ç╤é╨╛╨▒╤ï ╤ü╨╛╤ü╤é╨░╨▓ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ ╨┤╨╗╤§ ╤ü╨╝╨╛╤é╤Ç╨░ ╨▒╤ï╨╗ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╡, ╨╕ ╤ü╨╝╨╛╤é╤Ç ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ç╨░╨╗╤ü╤§ ╨▓╨╛ ╨▓╤Ç╨╡╨╝╤§ ╨┐╤Ç╨╕╨╡╨╖╨┤╨░ ╨╕╨╜╨╛╤ü╤é╤Ç╨░╨╜╨╜╤ï╤à ╨│╨╛╤ü╤â╨┤╨░╤Ç╨╡╨╣┬╗19.
╨Ê ╤é╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤Ç╨╡╨╝╤§ ╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╕╤ü╤é ╨╜╨╡ ╨▒╤ï╨╗ ╤ü╨║╨╗╨╛╨╜╨╡╨╜ ╨┐╤Ç╨╕╤â╨║╤Ç╨░╤ê╨╕╨▓╨░╤é╤î ╨┐╨╛╨▓╤ü╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╛╤ü╤é╤î ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╣ ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╤ï ╨▓ ╨╜╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╤ü╨║╤â╤À ╤‗╨┐╨╛╤à╤â. ╨Û╨╜ ╨┐╨╕╤ü╨░╨╗ ╨╛ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤ü╤é╨░╤é╨╛╤ç╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╤ü╨╛╨┤╨╡╤Ç╨╢╨░╨╜╨╕╤§ ╨╕ ╤Â╨░╨║╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╛╨╣ ╨▒╨╡╨┤╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨╛╤Â╨╕╤¶╨╡╤Ç╨╛╨▓, ╨╛ ╨╜╨╡╨▓╨╡╤Ç╨╛╤§╤é╨╜╨╛ ╤é╤§╨╢╨╡╨╗╤ï╤à ╨▒╤ï╤é╨╛╨▓╤ï╤à ╤â╤ü╨╗╨╛╨▓╨╕╤§╤à ╨╝╨░╤é╤Ç╨╛╤ü╨╛╨▓, ╨╛ ╨▓╨╡╤ç╨╜╤ï╤à ╨┐╤Ç╨╛╤§╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤§╤à ┬½╨┐╨╛╨║╨░╨╖╤â╤à╨╕┬╗ ╨╕ ╤ü╨┐╨╡╤¶╨╕╨░╨╗╤î╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤§ ╨│╨╛╤ü╤â╨┤╨░╤Ç╤§ ╤â╤ü╤é╤Ç╨░╨╕╨▓╨░╨▓╤ê╨╕╤à╤ü╤§, ╨╜╨╡ ╨╛╤é╤Ç╨░╨╢╨░╨▓╤ê╨╕╤à ╤Ç╨╡╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤§ ╨┤╨╡╨╗ ┬½╨╝╨╛╤ê╨╡╨╜╨╜╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕╤à┬╗ ╤ü╨╝╨╛╤é╤Ç╨░╤à ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╤î╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤é╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╤‗╨║╨╕╨┐╨░╨╢╨╡╨╣. ╨Ê╨╝╨╡╤ü╤é╨╡ ╤ü ╤é╨╡╨╝, ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╤ü╤é╨░╤Ç╨░╨╗╤ü╤§ ╨┐╨╛╨╜╤§╤é╤î, ╨┐╨╛╤ç╨╡╨╝╤â, ╨┐╤Ç╨╕ ╨▓╤ü╨╡╤à ╤é╤§╨│╨╛╤é╨░╤à ╤ü╤â╤Ç╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╤ü╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╛╤ü╤é╨╕, ╤ü╨╗╤â╨╢╨╕╨▓╤ê╨╕╨╡ ╨▓╨╛ ╤Â╨╗╨╛╤é╨╡ ╤ü╨╛╤ü╤é╨░╨▓╨╗╤§╨╗╨╕ ╨┐╤Ç╨╛╤Â╨╡╤ü╤ü╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤î╨╜╨╛ ╤ü╨╕╨╗╤î╨╜╤â╤À ╨╕ ╨╝╨╛╤Ç╨░╨╗╤î╨╜╨╛ ╨║╤Ç╨╡╨┐╨║╤â╤À ╨║╨╛╤Ç╨┐╨╛╤Ç╨░╤¶╨╕╤À. ╨Ê ╨┐╨╛╨╕╤ü╨║╨░╤à ╨╛╤é╨▓╨╡╤é╨░ ╨╜╨░ ╤‗╤é╨╛╤é ╨▓╨╛╨┐╤Ç╨╛╤ü ╨╛╨╜ ╨┐╤ï╤é╨░╨╗╤ü╤§ ╨╜╨░╨╣╤é╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤â╤À ╨╛╤ü╨╜╨╛╨▓╤â ╨▓ ╤â╤à╨╛╨┤╨╕╨▓╤ê╨╕╤à ╨▓ ╨┐╤Ç╨╛╤ê╨╗╨╛╨╡ ╤¶╨╡╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╨╜╤ï╤à ╤ü╨╛╤¶╨╕╨░╨╗╤î╨╜╤ï╤à ╤â╤ü╤é╨░╨╜╨╛╨▓╨║╨░╤à ╤ü╨┐╤Ç╨░╨▓╨╡╨┤╨╗╨╕╨▓╨╛╤ü╤é╨╕, ╨┐╨╛╤Ç╤§╨┤╨║╨░, ╤â╤ü╤é╨╛╨╣╤ç╨╕╨▓╨╛╤ü╤é╨╕, ╤ü╤é╨░╨▒╨╕╨╗╤î╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨╕ ╨╖╨░╤ë╨╕╤ë╨╡╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╨╕. ╨û╨╕╨╖╨╜╤î ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╤à ╨╛╤Â╨╕╤¶╨╡╤Ç╨╛╨▓ ╨▒╤ï╨╗╨░ ┬½╤Ç╨░╤ü╨┐╨╕╤ü╨░╨╜╨░┬╗, ╨┐╤Ç╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ü╤é╨▓╨╛ ╨▓ ╤ç╨╕╨╜╤ï ┬½╤ê╨╗╨╛ ╤é╤â╨│╨╛, ╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤§ ╨▓╤ü╨╡╤à ╨╛╨┤╨╕╨╜╨░╨║╨╛╨▓╨╛┬╗, ┬½╨▓╤ü╨╡╨╝ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨╝╨╡╤ü╤é╨╛, ╨╕ ╨║╨░╨╢╨┤╤ï╨╣ ╨╖╨╜╨░╨╗, ╤ç╤é╨╛ ╨╛╨╜ ╨┤╨╛ ╤ü╨╝╨╡╤Ç╤é╨╕ ╨╜╨╡ ╨╛╤ü╤é╨░╨╜╨╡╤é╤ü╤§ ╨▒╨╡╨╖ ╨║╤â╤ü╨║╨░ ╤à╨╗╨╡╨▒╨░, ╨╕ ╨┐╨╛╤é╨╛╨╝╤â ╤é╨╡╤Ç╨┐╨╡╨╗╨╕╨▓╨╛ ╨┐╨╡╤Ç╨╡╨╜╨╛╤ü╨╕╨╗ ╨╕ ╤é╤§╨│╨╛╤ü╤é╤î ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╤ï, ╨╕ ╨╜╨╕╤ë╨╡╨╜╤ü╨║╨╛╨╡ ╤ü╨╛╨┤╨╡╤Ç╨╢╨░╨╜╨╕╨╡┬╗20. ╨Ë╨░╨╢╨╡ ╨│╨╛╨▓╨╛╤Ç╤§ ╨╛ ╤Ç╨╡╨║╤Ç╤â╤é╤ü╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╕╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨╕ 25-╨╗╨╡╤é╨╜╨╡╨╝ ╤ü╤Ç╨╛╨║╨╡ ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╤ï, ╨╜╨░ ╨╛╤ü╨╜╨╛╨▓╨╡ ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╤ï╤à ╤ü╨╛╨╖╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨░╤ü╤î ┬½╨│╤Ç╨╛╨╝╨░╨┤╨╜╨░╤§, ╨╜╨╛ ╤â╤Ç╨╛╨┤╨╗╨╕╨▓╨░╤§ ╨╕ ╨▓╨░╤Ç╨▓╨░╤Ç╤ü╨║╨░╤§ ╤ü╨╕╨╗╨░ ╨▓ ╤Ç╤â╨║╨░╤à ╨┐╤Ç╨░╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╤ü╤é╨▓╨░┬╗, ╨░╨▓╤é╨╛╤Ç ┬½╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨╛╨║┬╗ ╤â╨║╨░╨╖╤ï╨▓╨░╨╗ ╨╜╨░ ╤é╨╛, ╤ç╤é╨╛ ╨╖╨░ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤ï╨╣ ╤ü╤Ç╨╛╨║ ╨▓╤ï╤Ç╨░╨▒╨░╤é╤ï╨▓╨░╨╗╨╕╤ü╤î ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╗╨╡╨┐╨╜╤ï╨╡ ╨▒╨╛╤¶╨╝╨░╨╜╤ï, ╤â╨╜╤é╨╡╤Ç-╨╛╤Â╨╕╤¶╨╡╤Ç╤ï, ╤Ç╤â╨╗╨╡╨▓╤ï╨╡ ╨╕ ╤Ç╨░╨╖╨╗╨╕╤ç╨╜╤ï╨╡ ╨╕╤ü╨║╤â╤ü╨╜╤ï╨╡ ╨╝╨░╤ü╤é╨╡╤Ç╨░ ╨╜╨░ ╨▓╤ü╨╡ ╨▓╨╕╨┤╤ï ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╤à ╤Ç╨╡╨╝╨╡╤ü╨╡╨╗21.
╨Ê ╨╕╤é╨╛╨│╨╡ ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╤Â╨╛╤Ç╨╝╤â╨╗╨╕╤Ç╤â╨╡╤é ╨╝╤ï╤ü╨╗╤î ╨╛╨▒ ╨╛╨▒╤ë╨╡╨╣ ╤‗╤Â╤Â╨╡╨║╤é╨╕╨▓╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨┐╤Ç╨╡╨╢╨╜╨╡╨╣ ╨╛╤Ç╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤¶╨╕╨╕ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░: ┬½╨û╨╕╨╖╨╜╤î ╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╨╖╨░╨╝╨╡╤ç╨░╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤â╤À ╨║╨╛╤Ç╨┐╨╛╤Ç╨░╤¶╨╕╤À, ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╨░╤§ ╨╢╨╕╨╗╨░, ╨┐╨╛╤ü╤é╨╛╤§╨╜╨╜╨╛ ╨╛╨║╤Ç╤â╨╢╨╡╨╜╨╜╨░╤§ ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╣ ╨░╤é╨╝╨╛╤ü╤Â╨╡╤Ç╨╛╨╣, ╨╕ ╨▓ ╨╜╨╡╨╣ ╤ü╤â╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╕╤ü╤é╨╕╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╨╡╤¶╨║╨╕╨╣ ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╣ ╨┤╤â╤à. ╨Ù╨╡╤ü╨╝╨╛╤é╤Ç╤§ ╨╜╨░ ╨╛╤é╤ü╤â╤é╤ü╤é╨▓╨╕╨╡ ╨┐╨░╤Ç╨╛╨▓╤ï╤à ╨┤╨▓╨╕╨│╨░╤é╨╡╨╗╨╡╨╣, ╨╜╨╡╤ü╨╛╨▓╨╡╤Ç╤ê╨╡╨╜╤ü╤é╨▓╨░ ╤ü╤â╨┤╨╛╤ü╤é╤Ç╨╛╨╡╨╜╨╕╤§, ╤ü╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╤§ ╤ü╤â╨┤╨╛╨▓Γdz ╨╝╨╛╤Ç╤§╨║╨╕ ╨╜╨░ ╨╜╨╡╤â╨║╨╗╤À╨╢╨╕╤à ╨┐╨░╤Ç╤â╤ü╨╜╤ï╤à ╤ü╤â╨┤╨░╤à ╤ü╨╛╨▓╨╡╤Ç╤ê╨░╨╗╨╕ ╨║╤Ç╤â╨│╨╛╤ü╨▓╨╡╤é╨╜╤ï╨╡ ╨┐╨╗╨░╨▓╨░╨╜╨╕╤§, ╨▓ ╨▒╨╛╤§╤à ╨╜╨╡ ╤â╤ü╤é╤â╨┐╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╜╨╛╤ü╤é╤Ç╨░╨╜╨╜╤ï╨╝ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░╨╝┬╗22. ╨Ü╤Ç╤ï╨╝╤ü╨║╨░╤§ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░, ╨┐╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤À ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░, ╨┐╨╛╤ü╨╗╤â╨╢╨╕╨╗╨░ ╨┤╨╛╨║╨░╨╖╨░╤é╨╡╨╗╤î╤ü╤é╨▓╨╛╨╝ ╤ü╨╕╨╗╤ï ╤Ç╤â╤ü╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░: ┬½╨Û╤ü╨░╨┤╨░ ╨´╨╡╨▓╨░╤ü╤é╨╛╨┐╨╛╨╗╤§ ╨┤╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨░, ╤ç╤é╨╛ ╤ç╨╡╤Ç╨╜╨╛╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╨╡ ╨╝╨╛╤Ç╤§╨║╨╕ ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╨╗╤À╨┤╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤ï╨╡ ╨╕ ╨│╨╡╤Ç╨╛╨╕Γdz ╨Ï╨╢╨╡╨╗╨╕ ╨╝╨╛╤Ç╤§╨║╨╕ ╨┤╨╡╤Ç╨╢╨░╨╗╨╕╤ü╤î ╨▓ ╨´╨╡╨▓╨░╤ü╤é╨╛╨┐╨╛╨╗╨╡ 11 ╨╝╨╡╤ü╤§╤¶╨╡╨▓ ╨▒╨╡╨╖ ╤â╨║╤Ç╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣, ╤ü ╨║╨╛╤Ç╨░╨▒╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╝╨╕ ╨╛╤Ç╤â╨┤╨╕╤§╨╝╨╕, ╨┐╤Ç╨╕ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤ü╤é╨░╤é╨║╨╡ ╨┐╨╛╤Ç╨╛╤à╨░ ╨╕ ╤ü╨╜╨░╤Ç╤§╨┤╨╛╨▓, ╤ü ╨▓╨╛╨╣╤ü╨║╨░╨╝╨╕, ╨▓╨╛╨╛╤Ç╤â╨╢╨╡╨╜╨╜╤ï╨╝╨╕ ╨┤╤Ç╤§╨╜╨╜╤ï╨╝╨╕ ╤Ç╤â╨╢╤î╤§╨╝╨╕, ╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╤â╤é╨╡╨╣ ╤ü╨╛╨╛╨▒╤ë╨╡╨╜╨╕╤§ ╤ü ╤¶╨╡╨╜╤é╤Ç╨╛╨╝ ╤ü╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╤î╤§, ╤é╨╛, ╨║╨╛╨╜╨╡╤ç╨╜╨╛, ╨┐╤Ç╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤ü╨╛╨▒╨╕╨╕ ╤ü╨╛╤À╨╖╨╜╨╕╨║╨╕ ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╨▒╤ï ╨┐╤Ç╨╛╨│╨╜╨░╨╜╤ï┬╗23. ╨´╨╛╨┤╨╡╤Ç╨╢╨░╨╜╨╕╨╡ ╤‗╤é╨╛╨│╨╛ ╤Â╤Ç╨░╨│╨╝╨╡╨╜╤é╨░ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╤ï╨▓╨░╨╡╤é, ╤ç╤é╨╛ ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡╨╗ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤ü╤é╨░╤é╨║╨╕, ╨╝╨╡╤ê╨░╨▓╤ê╨╕╨╡ ╤Ç╨░╨╖╨▓╨╕╤é╨╕╤À ╤Â╨╗╨╛╤é╨░, ╨╕ ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╜╨╕╨╝╨░╨╗ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤à╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤ü╤é╤î ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝. ╨ƒ╤Ç╨╕╨╜╤¶╨╕╨┐╨╕╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨╡╤ü╨╛╨│╨╗╨░╤ü╨╕╨╡ ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░ ╨▓╤ï╨╖╤ï╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╜╨╡ ╤ü╨░╨╝╨╕ ╨┐╨╛ ╤ü╨╡╨▒╨╡ ╨┐╤Ç╨╡╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤§, ╨░ ╨╕╤à ╨╝╨╡╤é╨╛╨┤╤ï, ╤à╨░╤Ç╨░╨║╤é╨╡╤Ç ╨╕ ╨╜╨░╨┐╤Ç╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╤î, ╤ü╤Â╨╛╤Ç╨╝╨╕╤Ç╨╛╨▓╨░╨▓╤ê╨╕╨╡╤ü╤§ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╨║╤Ç╨╡╤é╨╜╨╛ ╨╕╤ü╤é╨╛╤Ç╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕╨╣ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤é ╨╕ ╨┐╤Ç╨╕ ╤ü╨░╨╝╨╛╨╝ ╨╜╨╡╨┐╨╛╤ü╤Ç╨╡╨┤╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨╗╨╕╤§╨╜╨╕╨╕ ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╨╛╨┐╤Ç╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨╕╤ü╤é╨╛╤Ç╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕╤à ╨╗╨╕╤¶.
╨Û╤ü╨╜╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨║╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╤ü╨║╨╛╨╣ ╨║╤Ç╨╕╤é╨╕╨║╨╕ ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╤à ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝, ╨╛╤ü╤â╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨▓ ╨┐╨╡╤Ç╨╕╨╛╨┤ ╤Ç╤â╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤ü╤é╨▓╨░ ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╨╝ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤ü╤é╨▓╨╛╨╝ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤§╨╖╤§ ╨Ü╨╛╨╜╤ü╤é╨░╨╜╤é╨╕╨╜╨░ ╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ç╨░, ╤§╨▓╨╗╤§╨╡╤é╤ü╤§ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╨┐╤Ç╨╛╤§╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨╡╨▒╤Ç╨╡╨╢╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨║ ╨╕╤ü╤é╨╛╤Ç╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╕ ╤ü╨╗╨╛╨╢╨╕╨▓╤ê╨╕╨╝╤ü╤§ ╤é╤Ç╨░╨┤╨╕╤¶╨╕╤§╨╝ ╨▓ ╨╛╤Ç╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤¶╨╕╨╕ ╨╕ ╤â╨┐╤Ç╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░. ╨ƒ╨╛ ╤â╨▒╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤À ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░, ╤‗╤é╨╕ ╤é╤Ç╨░╨┤╨╕╤¶╨╕╨╕ ╤ü╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╨╜╨╡╨┐╤Ç╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤ü╨╛╤à╤Ç╨░╨╜╤§╤é╤î ╨╕ ╤Ç╨░╨╖╨▓╨╕╨▓╨░╤é╤î, ╨░ ╨╛╤ü╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╡ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ü╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╤ü╨║╨╛╨╜╤¶╨╡╨╜╤é╤Ç╨╕╤Ç╨╛╨▓╨░╤é╤î ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨╜╨░ ╤é╨╡╤à╨╜╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╡╤Ç╨╡╨▓╨╛╨╛╤Ç╤â╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ ╨╕ ╤â╨╗╤â╤ç╤ê╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╨▒╨╡╤ü╨┐╨╡╤ç╨╡╨╜╨╕╤§. ╨Ê ┬½╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨║╨░╤à┬╗ ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░ ╨┐╤Ç╨╕╤ü╤â╤é╤ü╤é╨▓╤â╨╡╤é ╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖ ┬½╨╗╨╛╨╝╨║╨╕┬╗ ╨╕ ┬½╨┐╨╡╤Ç╨╡╤ü╤é╤Ç╨╛╨╣╨║╨╕┬╗ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ ╨║╨░╨║ ╤ç╨░╤ü╤é╨╕ ╨╛╨▒╤ë╨╡╨╣ ┬½╨╗╨╛╨╝╨║╨╕┬╗ ╨╕ ┬½╨┐╨╡╤Ç╨╡╤ü╤é╤Ç╨╛╨╣╨║╨╕┬╗ ╨▓╤ü╨╡╨│╨╛ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤â╤ü╤é╤Ç╨╛╨╣╤ü╤é╨▓╨░. ╨Ê ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╝ ╨╝╨╕╨╜╨╕╤ü╤é╨╡╤Ç╤ü╤é╨▓╨╡, ╨║╨╛╤é╨╛╤Ç╨╛╨╡ ┬½╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╛╤ü╤î ╤ü╨░╨╝╤ï╨╝ ╨╗╨╕╨▒╨╡╤Ç╨░╨╗╤î╨╜╤ï╨╝ ╨╕ ╨┐╨╡╤Ç╨╡╨┤╨╛╨▓╤ï╨╝ ╨┐╤Ç╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨▒╤â╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓╤ü╨╡╤à ╨╜╨╛╨▓╤ï╤à ╨▓╨╛╨┐╤Ç╨╛╤ü╨╛╨▓┬╗, ┬½╨╜╨░╤ç╨░╨╗╨╕╤ü╤î ╨▓╤ü╨╡╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╤ï╨╡ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╤ï ╨╕ ╨╛╨▒╤ë╨░╤§ ╨╗╨╛╨╝╨║╨░, ╨╜╨╛ ╨╢╨░╨╗╤î, ╤ç╤é╨╛ ╨╗╨╛╨╝╨░╨╗╨╕ ╤ü╨╗╨╕╤ê╨║╨╛╨╝ ╤ü╤é╤Ç╨░╤ü╤é╨╜╨╛ ╨╕ ╤â╤ü╨╡╤Ç╨┤╨╜╨╛ ╨╕ ╨┐╨╛╤é╨╛╨╝╤â ╨╜╨╡╨┤╨╛╤ü╤é╨░╤é╨╛╤ç╨╜╨╛ ╨╛╤ü╨╝╨╛╤é╤Ç╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛┬╗, ╨▓╤ü╨╗╨╡╨┤╤ü╤é╨▓╨╕╨╡ ╤ç╨╡╨│╨╛ ┬½╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨░╤é╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╨╣ ╤ê╤â╨╝ ╨╕ ╨│╤Ç╨╛╨╝ ╨╜╨╡ ╨┐╤Ç╨╕╨╜╨╡╤ü╨╗╨╕ ╨│╨╛╤ü╤â╨┤╨░╤Ç╤ü╤é╨▓╤â ╨╕ ╤Â╨╗╨╛╤é╤â ╨▓╤ü╨╡╨╣ ╨╢╨╡╨╗╨░╨╡╨╝╨╛╨╣ ╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╤î╨╖╤ï┬╗24.
╨Ê ┬½╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨║╨░╤à┬╗ ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▓╤ü╤é╤Ç╨╡╤é╨╕╤é╤î ╨╜╨╡╨╗╨╕╤¶╨╡╨┐╤Ç╨╕╤§╤é╨╜╤ï╨╡ ╨▓╤ï╤ü╨║╨░╨╖╤ï╨▓╨░╨╜╨╕╤§ ╨▓ ╨░╨┤╤Ç╨╡╤ü ╨│╤Ç╤â╨┐╨┐╤ï ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨░╤é╨╛╤Ç╨╛╨▓, ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ü╤é╨╜╤ï╤à ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ┬½╨║╨╛╨╜╤ü╤é╨░╨╜╤é╨╕╨╜╨╛╨▓╤¶╨╡╨▓┬╗. ╨Ê╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤§╨╖╤§ ╨Ü╨╛╨╜╤ü╤é╨░╨╜╤é╨╕╨╜╨░ ╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ç╨░ ╨╛╨╜ ╤ü╤ç╨╕╤é╨░╨╗ ╤â╨╝╨╜╤ï╨╝, ╤à╨╛╤Ç╨╛╤ê╨╛ ╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤ï╨╝ ╨╕ ╤ü╨┐╨╡╤¶╨╕╨░╨╗╤î╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤é╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤ï╨╝ ╨║ ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╝╤â ╨┤╨╡╨╗╤â ╤ç╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨╛╨╝, ╨╜╨╛ ╨┐╤Ç╨╕ ╤‗╤é╨╛╨╝ ╨╕╤ü╨┐╤ï╤é╨░╨▓╤ê╨╕╨╝ ╤Ç╨░╨╖╨╗╨░╨│╨░╤À╤ë╨╡╨╡ ╨▓╨╗╨╕╤§╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤Ç╨╕╨┤╨▓╨╛╤Ç╨╜╨╛╨╣ ╨░╤é╨╝╨╛╤ü╤Â╨╡╤Ç╤ï ╨╕ ╨╛╤ü╨╛╨▒╨╛╨│╨╛ ╤ü╤é╨░╤é╤â╤ü╨░ (┬½╨▒╨╡╤ü╨║╨╛╨╜╤é╤Ç╨╛╨╗╤î╨╜╨░╤§ ╨▓╨╗╨░╤ü╤é╤î ╨┐╨╛╤Ç╤é╨╕╤é ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨│╨╛┬╗), ╤ü ╤ü╨╕╨╗╤î╨╜╨╛ ╤Ç╨░╨╖╨▓╨╕╤é╤ï╨╝ ╤ç╨╡╤ü╤é╨╛╨╗╤À╨▒╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╤ü╤é╤Ç╨░╤ü╤é╤î╤À ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╤é╤î╤ü╤§ ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ┬½╨╜╨╡╨╛╨▒╤ï╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╨╝╨╕┬╗ ╨▓╨╡╤ë╨░╨╝╨╕, ╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╤Ç╤â╤é╨╕╨╜╨╜╤ï╨╝╨╕ ╨╕ ╨╛╨▒╤Ç╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╝╨╕ ╨╛╨▒╤§╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╤§╨╝╨╕25. ╨Û╨┤╨╜╨╛╨╖╨╜╨░╤ç╨╜╨╛ ╨╛╤é╤Ç╨╕╤¶╨░╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ╤Â╨╕╨│╤â╤Ç╨╛╨╣ ╨▓ ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤§╤à ╨▓╤ï╨│╨╗╤§╨┤╨╕╤é ╨Ù.╨Ü. ╨Ü╤Ç╨░╨▒╨▒╨╡, ╨▒╨╗╨╕╨╢╨░╨╣╤ê╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤ë╨╜╨╕╨║ ╨Ü╨╛╨╜╤ü╤é╨░╨╜╤é╨╕╨╜╨░ ╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ç╨░, ╤â╨┐╤Ç╨░╨▓╨╗╤§╨▓╤ê╨╕╨╣ ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╨╝ ╨╝╨╕╨╜╨╕╤ü╤é╨╡╤Ç╤ü╤é╨▓╨╛╨╝ ╤ü 1862 ╨│. (┬½╨▒╤ï╨╗ ╤ç╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║, ╤à╨╛╤é╤§ ╤â╨╝╨╜╤ï╨╣, ╨╜╨╛ ╨▒╨╡╨╖╨╜╤Ç╨░╨▓╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣, ╤‗╨│╨╛╨╕╤ü╤é ╨╕ ╨║╨░╨║ ╨│╨╛╤ü╤â╨┤╨░╤Ç╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╤ç╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║ ╨╛╨║╨╛╨╜╤ç╨░╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛ ╨╜╨╕╤ç╤é╨╛╨╢╨╜╤ï╨╣ ╨╕ ╨▓╤Ç╨╡╨┤╨╜╤ï╨╣, ╨╕ ╤é╨░╨║╨░╤§ ╨╗╨╕╤ç╨╜╨╛╤ü╤é╤î ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨▓╨╗╨░╤ü╤é╤î ╨╕╨╖╨╗╨╛╨╝╨░╤é╤î ╤¶╨╡╨╗╨╛╨╡ ╤â╤ç╤Ç╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╨▓╤Ç╨╡╨┤╨╜╨╛ ╨╜╨░╨┐╤Ç╨░╨▓╨╕╤é╤î ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░ ╨┤╨╛╨╗╨│╨╛╨╡ ╨▓╤Ç╨╡╨╝╤§┬╗). ╨´╨╗╨╡╨┤╤â╨╡╤é ╨╛╤é╨╝╨╡╤é╨╕╤é╤î, ╤ç╤é╨╛ ╨╜╨╡╨│╨░╤é╨╕╨▓╨╜╤ï╨╡ ╨╛╤¶╨╡╨╜╨║╨╕ ╨▓ ╨░╨┤╤Ç╨╡╤ü ╨Ù.╨Ü. ╨Ü╤Ç╨░╨▒╨▒╨╡ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▓╤ü╤é╤Ç╨╡╤é╨╕╤é╤î ╨╕ ╨▓ ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤§╤à ╨╗╨╕╤¶, ╨▓╤à╨╛╨┤╨╕╨▓╤ê╨╕╤à ╨▓ ╨│╤Ç╤â╨┐╨┐╤â ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨░╤é╨╛╤Ç╨╛╨▓ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ (╨║ ╨┐╤Ç╨╕╨╝╨╡╤Ç╤â, ╨¤.╨É. ╨Î╨╡╤ü╤é╨░╨║╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╨Ë.╨É. ╨Û╨▒╨╛╨╗╨╡╨╜╤ü╨║╨╛╨│╨╛)26.
╨ƒ╤Ç╨╕╨╝╨╡╤ç╨░╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛, ╤ç╤é╨╛ ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨╛╨▒╤Ç╨░╤é╨╕╨╗ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤Â╨░╨║╤é╨╛╤Ç ╨║╨╛╨╜╨║╤â╤Ç╨╡╨╜╤¶╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨║╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨▓ ╤â╨┐╤Ç╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤ç╨╡╤ü╨║╨╛╨╣ ╤‗╨╗╨╕╤é╨╡. ╨Û╨╜ ╨┐╨╛╨┤╤ç╨╡╤Ç╨║╨╕╨▓╨░╨╗, ╤ç╤é╨╛ ╨│╨╡╨╜╨╡╤Ç╨░╨╗-╨░╨┤╨╝╨╕╤Ç╨░╨╗ ╨Ü╨╛╨╜╤ü╤é╨░╨╜╤é╨╕╨╜ ╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ç ╨▒╤ï╨╗ ╨╛╨║╤Ç╤â╨╢╨╡╨╜ ┬½╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╨╡╨╢╤î╤À ╨▓╤ï╤ü╤ê╨╡╨│╨╛ ╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤§ ╨╕ ╨╡╨▓╤Ç╨╛╨┐╨╡╨╣╤ü╨║╨╕╤à ╨▓╨╖╨│╨╗╤§╨┤╨╛╨▓┬╗ (╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╕╤ü╤é ╨╜╨░╨╖╤ï╨▓╨░╨╗ ╨É.╨Ê. ╨ô╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╕╨╜╨░, ╨Ë.╨É. ╨ó╨╛╨╗╤ü╤é╨╛╨│╨╛, ╨Ë.╨É. ╨Û╨▒╨╛╨╗╨╡╨╜╤ü╨║╨╛╨│╨╛, ╨£.╨¸. ╨¦╨╡╨╣╤é╨╡╤Ç╨╜╨░, ╨Ë.╨Ù. ╨Ù╨░╨▒╨╛╨║╨╛╨▓╨░, ╨´.╨¤. ╨ô╤Ç╨╡╨╣╨│╨░, ╨Ù.╨Ü. ╨Ü╤Ç╨░╨▒╨▒╨╡). ╨£╨╛╨╗╨╛╨┤╤ï╨╡ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨░╤é╨╛╤Ç╤ï ┬½╨╝╨░╤ü╤ü╤â ╨┐╨╛╤ç╤é╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╤ü╤é╨░╤Ç╨╕╨║╨╛╨▓Γdz ╨▒╨╡╨╖ ╨▓╤ü╤§╨║╨╛╨╣ ╨┐╤Ç╨╕╤ç╨╕╨╜╤ï ╨┐╨╡╤Ç╨╡╤ç╨╕╤ü╨╗╨╕╨╗╨╕ ╨▓ ╤Ç╨╡╨╖╨╡╤Ç╨▓ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░, ╨│╨╗╤â╨▒╨╛╨║╨╛ ╨╛╤ü╨║╨╛╤Ç╨▒╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛╤ç╤é╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╤ü╨╗╤â╨╢╨╕╨▓╤ï╤à, ╤â╨╝╨╡╨╜╤î╤ê╨╕╨╗╨╕ ╨╕╤à ╤ü╨╛╨┤╨╡╤Ç╨╢╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╤â╨║╨╛╤Ç╨╛╤é╨╕╨╗╨╕ ╨╕╤à ╨▓╨╡╨║, ╨╜╨╡ ╨┐╤Ç╨╕╨╜╨╡╤ü╤§ ╨╜╨╕ ╨╝╨░╨╗╨╡╨╣╤ê╨╡╨╣ ╨┐╨╛╨╗╤î╨╖╤ï ╤ü╨╗╤â╨╢╨▒╨╡┬╗27. ╨ù╨┤╨╡╤ü╤î ╤ü╨╗╨╡╨┤╤â╨╡╤é ╨╛╤é╨╝╨╡╤é╨╕╤é╤î, ╤ç╤é╨╛ ╨▓ 1855 ╨│. ╨É.╨Ê. ╨ô╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╕╨╜╤â ╨▒╤ï╨╗╨╛ 34 ╨│╨╛╨┤╨░, ╨░ ╨Ü╨╛╨╜╤ü╤é╨░╨╜╤é╨╕╨╜╤â ╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ç╤â ΓÇô 27 ╨╗╨╡╤é, ╨╕ ╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╜╤ï╨╡ ╤é╨╡╨║╤ü╤é╤ï ╨ô╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╕╨╜╨░, ╨┤╨╡╨╣╤ü╤é╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛, ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╤ç╨╡╤é╨║╨╛ ╤Â╨╕╨║╤ü╨╕╤Ç╤â╤À╤é ╤ü╨░╨╝╨╛╤ü╨╛╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╡ ┬½╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╤ï╤à ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨░╤é╨╛╤Ç╨╛╨▓┬╗, ╨╛╤ë╤â╤ë╨░╨▓╤ê╨╕╤à ╤ü╨▓╨╛╤À ╨┐╤Ç╨╛╤é╨╕╨▓╨╛╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╜╨╛╤ü╤é╤î ┬½╤ü╤é╨░╤Ç╨╕╨║╨░╨╝-╤Ç╨╡╤é╤Ç╨╛╨│╤Ç╨░╨┤╨░╨╝┬╗28.
╨Ü╤Ç╨╛╨╝╨╡ ╨╜╨╡╨╛╨▒╨┤╤â╨╝╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤é╨╜╨╛╤ê╨╡╨╜╨╕╤§ ╨║ ╤é╤Ç╨░╨┤╨╕╤¶╨╕╤§╨╝ ╤â╨┐╤Ç╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤§ ╨╕ ╨╛╤Ç╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤¶╨╕╨╕ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░, ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨╜╨░╨╖╤ï╨▓╨░╨╗ ╨╕ ╨┤╤Ç╤â╨│╨╕╨╡ ╨╛╤ê╨╕╨▒╨║╨╕ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨░╤é╨╛╤Ç╨╛╨▓ ╨£╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤ü╤é╨▓╨░. ╨ó╨░╨║, ╨┐╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤À, ╨╕╤à ╤ü╨╕╨╗╤ï ╨╕ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╨╕╨╖╨╗╨╕╤ê╨╜╨╡ ╤ü╨║╨╛╨╜╤¶╨╡╨╜╤é╤Ç╨╕╤Ç╨╛╨▓╨░╨╜╤ï ╨╜╨░ ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╤à ╨┐╤Ç╨╛╨│╤Ç╨╡╤ü╤ü╨╕╨▓╨╜╤ï╤à ╨╕ ┬½╨┐╤Ç╨╛╤Ç╤ï╨▓╨╜╤ï╤à┬╗ ╨▓ ╤é╨╡╤à╨╜╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╛╨╝ ╨╛╤é╨╜╨╛╤ê╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╜╨░╨┐╤Ç╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤§╤à, ╨┐╤Ç╨╕ ╤é╨╛╨╝, ╤ç╤é╨╛ ╤ü╨╕╨╗╨░ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ ╤ü╨╛╤ü╤é╨╛╨╕╤é ╨▓ ╨┐╤Ç╨░╨▓╨╕╨╗╤î╨╜╨╛╨╝ ╨╕ ╤Ç╨░╨▓╨╜╨╛╨╝╨╡╤Ç╨╜╨╛╨╝ ╤Ç╨░╨╖╨▓╨╕╤é╨╕╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╨▒╤ë╨╡╨╣ ╨╝╨░╤ü╤ü╤ï. ╨£╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╕╤ü╤é ╨╛╨▒╤Ç╨░╤é╨╕╨╗ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨┐╤Ç╨╕╨│╨╗╤§╨┤╨╜╨╛╨╡ ╤ü╨╛╤ü╨╡╨┤╤ü╤é╨▓╨╛ ╨╝╨╛╨┤╨╡╤Ç╨╜╨╕╨╖╨░╤¶╨╕╨╕ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ ╤ü ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨╛╨▓╤ï╤à ╤Â╨╛╤Ç╨╝ ╨╕ ╨╝╨░╤ü╤ê╤é╨░╨▒╨╛╨▓ ╤Â╨╕╨╜╨░╨╜╤ü╨╛╨▓╤ï╤à ╨╝╨░╤à╨╕╨╜╨░╤¶╨╕╨╣. ╨ƒ╨╛ ╤‗╤é╨╛╨╝╤â ╨┐╨╛╨▓╨╛╨┤╤â ╨╛╨╜ ╨╕╤Ç╨╛╨╜╨╕╨╖╨╕╤Ç╨╛╨▓╨░╨╗: ┬½╨³╨╕╨▓╨╕╨╗╨╕╨╖╨░╤¶╨╕╤§ ╨╕╨┤╨╡╤é ╨┐╨░╤Ç╨░╨╗╨╗╨╡╨╗╤î╨╜╨╛ ╤ü ╨╝╨╛╤ê╨╡╨╜╨╜╨╕╤ç╨╡╤ü╤é╨▓╨╛╨╝Γdz ╤é╨░╨║, ╤ü ╤Ç╨░╨╖╨▓╨╕╤é╨╕╨╡╨╝ ╨┐╨░╤Ç╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ ╨┐╨╛╤§╨▓╨╕╨╗╨╕╤ü╤î ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤Ç╤ï, ╨╜╨░╨╢╨╕╨▓╨░╨▓╤ê╨╕╨╡ ╨┤╨╡╨╜╤î╨│╨╕ ╨╜╨░ ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤â╨│╨╗╨╡, ╤â╨▓╨╡╨╗╨╕╤ç╨╕╨▓╨░╤§ ╨┐╨╛ ╨╢╤â╤Ç╨╜╨░╨╗╤â ╤ç╨╕╤ü╨╗╨╛ ╤ç╨░╤ü╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨┤ ╨┐╨░╤Ç╨░╨╝╨╕, ╨╕ ╤é╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╤Ç╨╕ ╨┐╨╛╨║╤â╨┐╨║╨╡ ╤â╨│╨╗╤§ ╨╖╨░ ╨│╤Ç╨░╨╜╨╕╤¶╨╡╨╣. ╨Ê ╨╝╨╛╨╡ ╨▓╤Ç╨╡╨╝╤§ ╨║╨░╨║ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤Ç╤ï, ╤é╨░╨║ ╨╕ ╨╛╤Â╨╕╤¶╨╡╤Ç╤ï ╨╛╤é ╤ü╤â╨┤╨╛╨▓ ╨╕ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╨╜╨╕ ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣╨║╨╕ ╨┤╨╛╤à╨╛╨┤╨╛╨▓┬╗29.
╨¤╤é╨╛╨│ ╤ü╤Ç╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╤§ ╤ü╨╛╤ü╤é╨╛╤§╨╜╨╕╤§ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ ╨▓ ┬½╨╜╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╤ü╨║╤â╤À┬╗ ╤‗╨┐╨╛╤à╤â ╨╕ ╨▓ ╤‗╨┐╨╛╤à╤â ╨┐╤Ç╨╡╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨▓╤ï╨│╨╗╤§╨┤╨╡╨╗, ╤ü ╤é╨╛╤ç╨║╨╕ ╨╖╤Ç╨╡╨╜╨╕╤§ ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░, ╨╜╨╡╤â╤é╨╡╤ê╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛. ╨ƒ╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤À, ╨╜╨╡╤ü╨╛╨╝╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┐╤Ç╨╡╨╕╨╝╤â╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╛ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨▓ ╤é╨╡╤à╨╜╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╛╨╣ ╤ü╤é╨╛╤Ç╨╛╨╜╨╡ ╨╕ ╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨▓╨░╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╨╝ ╤ü╤é╨░╤é╤â╤ü╨╡ ╨╛╤Â╨╕╤¶╨╡╤Ç╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╤ü╨╛╤ü╤é╨░╨▓╨░, ╨╜╨╛ ┬½╨▓ ╨┐╨╛╨╗╤î╨╖╤â ╨┐╤Ç╨╡╨╢╨╜╨╡╨│╨╛ ╤â╨┐╤Ç╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤§┬╗ ╨┐╤Ç╨╡╨╕╨╝╤â╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╛ ╨╖╨░╨║╨╗╤À╤ç╨░╨╗╨╛╤ü╤î ╨▓ ╨╛╨▒╤ë╨╡╨╝ ╤ç╨╕╤ü╨╗╨╡ ╨┐╨╗╨░╨▓╨░╤À╤ë╨╕╤à ╤ü╤â╨┤╨╛╨▓, ╨▓ ╤‗╤Â╤Â╨╡╨║╤é╨╕╨▓╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╤ü╤Ç╨░╨▓╨╜╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛ ╤ü ╨║╨╛╨╗╨╕╤ç╨╡╤ü╤é╨▓╨╛╨╝ ╤â╨┐╨╛╤é╤Ç╨╡╨▒╨╗╤§╨╡╨╝╤ï╤à ╤Ç╨░╤ü╤à╨╛╨┤╨╛╨▓, ╨▓ ╨╖╨╜╨░╤ç╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Ç╤â╤ü╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░ ╨▓ ╨╛╤é╨╜╨╛╤ê╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Â╨╗╨╛╤é╨╛╨▓ ╨┤╤Ç╤â╨│╨╕╤à ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╤à ╨┤╨╡╤Ç╨╢╨░╨▓, ╨▓ ╨┐╤Ç╨░╨║╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤é╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤ü╤é╨╕ ╨╕ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤ï╤à ╨║╨░╤ç╨╡╤ü╤é╨▓╨░╤à ┬½╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╤Ç╨┐╨╛╤Ç╨░╤¶╨╕╨╕┬╗30. ╨¦╨░╨╖╤â╨╝╨╡╨╡╤é╤ü╤§, ╨╝╨╡╨╝╤â╨░╤Ç╨╕╤ü╤é ╨▒╤ï╨╗ ╨║╤Ç╨░╨╣╨╜╨╡ ╨┐╤Ç╨╕╤ü╤é╤Ç╨░╤ü╤é╨╜╤ï╨╝ ╨╕ ╨╕╨╖╨╗╨╕╤ê╨╜╨╡ ╨▒╨╡╤ü╨║╨╛╨╝╨┐╤Ç╨╛╨╝╨╕╤ü╤ü╨╜╤ï╨╝ ╤ü╤â╨┤╤î╨╡╨╣ ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╤à ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝, ╨╜╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤§ ╨╛╤ç╨╡╨╜╤î ╤§╤Ç╨║╨╛ ╨▓╤ï╤ü╨▓╨╡╤ç╨╕╨▓╨░╤À╤é ╨┐╨╛╨╖╨╕╤¶╨╕╤À ╨║╨╛╨╜╤ü╨╡╤Ç╨▓╨░╤é╨╕╨▓╨╜╤ï╤à ╨╛╨┐╨┐╨╛╨╜╨╡╨╜╤é╨╛╨▓ ╨┐╤Ç╨╡╨╛╨▒╤Ç╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣, ╨┐╨╛-╤ü╨▓╨╛╨╡╨╝╤â ╨╛╤é╤Ç╨░╨╖╨╕╨▓╤ê╨╕╤à ╤ü╨╗╨╛╨╢╨╜╤ï╨╡ ╨▓╨╜╤â╤é╤Ç╨╡╨╜╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤Ç╨╛╤é╨╕╨▓╨╛╤Ç╨╡╤ç╨╕╤§ ╨╕ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨░╤é╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╨╡ ╤Ç╨╕╤ü╨║╨╕, ╨╜╨░╨╗╨╛╨╢╨╕╨▓╤ê╨╕╨╡ ╨╖╨╜╨░╤ç╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╣ ╨╛╤é╨┐╨╡╤ç╨░╤é╨╛╨║ ╨╜╨░ ╨╛╨▒╤ë╨╡╨╡ ╤Ç╨░╨╖╨▓╨╕╤é╨╕╨╡ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░. ╨Ê╨╛ ╨▓╤ü╤§╨║╨╛╨╝ ╤ü╨╗╤â╤ç╨░╨╡, ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╕ ╨┐╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤À ╤ü╨╛╨▓╤Ç╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨╕╤ü╤ü╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤é╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╤à ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝, ╨╛╨╜╨╕ ┬½╨╜╨╡ ╨┐╤Ç╨╛╤ê╨╗╨╕ ╨▒╨╡╤ü╤ü╨╗╨╡╨┤╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤§ ╤Â╨╗╨╛╤é╨░, ╨╕, ╨╜╨╡╤ü╨╝╨╛╤é╤Ç╤§ ╨╜╨░ ╤é╨╛, ╤ç╤é╨╛ ╨║ ╨║╨╛╨╜╤¶╤â 1870-╤à ╨│╨│. ╨╛╨╜ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╤ü╤§ ╨╜╨╡ ╤ü╤é╨╛╨╗╤î ╤â╨╢ ╤ü╨╕╨╗╨╡╨╜, ╨║╨░╨║ ╤é╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨╛╨╢╨╕╨┤╨░╤é╤î, ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡╨╗╤î╨╖╤§ ╤â╨╢╨╡ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╤ü╤Ç╨░╨▓╨╜╨╕╤é╤î ╨╜╨╡ ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨┐╨╛ ╨▓╨╜╨╡╤ê╨╜╨╡╨╝╤â ╨▓╨╕╨┤╤â, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨┐╨╛ ╨▓╨╜╤â╤é╤Ç╨╡╨╜╨╜╨╡╨╝╤â ╤ü╤é╤Ç╨╛╤À ╤ü ╤é╨╡╨╝, ╨║╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨╜ ╨▒╤ï╨╗ ╨╜╨░╨║╨░╨╜╤â╨╜╨╡ ╨Ü╤Ç╤ï╨╝╤ü╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ï┬╗31.
1 ╨Ü╨╛╤ç╤â╨║╨╛╨▓╨░ ╨Û.╨Ê. ╨¤╨╖ ╨╛╨┐╤ï╤é╨░ ╨╛╤ü╨╝╤ï╤ü╨╗╨╡╨╜╨╕╤§ ╨╕╤ü╤é╨╛╤Ç╨╕╨╕ ╨¨╤Ç╨░╨╜╤¶╨╕╨╕ XVIII ╨▓. ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤é╨╡╨║╤ü╤é╨╡ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤ü╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨┤╨╕╤ü╨║╤â╤ü╤ü╨╕╨╣ ╨▓ ╨¦╨╛╤ü╤ü╨╕╨╕ ╤ü╨╡╤Ç╨╡╨┤╨╕╨╜╤ï XIX ╨▓. (╤Ç╤â╤ü╤ü╨║╨╕╨╡ ╨╛╤é╨║╨╗╨╕╨║╨╕ ╨╜╨░ ╤ü╨╛╤ç╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨É. ╨ó╨╛╨║╨▓╨╕╨╗╤§) // ╨¤╨╖╨▓╨╡╤ü╤é╨╕╤§ ╨´╨░╨╝╨░╤Ç╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤â╤ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╤¶╨╡╨╜╤é╤Ç╨░ ╨¦╨╛╤ü╤ü╨╕╨╣╤ü╨║╨╛╨╣ ╨░╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╨╕ ╨╜╨░╤â╨║. ╨ó. 15. 2013. ΓÂû 5. ╨´. 19ΓÇô20.
2 ╨´╨╝., ╨╜╨░╨┐╤Ç.: ╨É╨╜╨┤╤Ç╨╡╨╡╨▓╨░ ╨ó.╨Ê., ╨Ê╤ï╤ü╨║╨╛╤ç╨║╨╛╨▓ ╨¢.╨Ê. ╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╣ I: PRO ET CONTRA (╨ù╨╡╤Ç╨║╨░╨╗╨╛ ╨┤╨╗╤§ ╨│╨╡╤Ç╨╛╤§) // ╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╣ I: pro et contra, ╨░╨╜╤é╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤§ / ╨´╨╛╤ü╤é., ╨▓╤ü╤é╤â╨┐. ╤ü╤é╨░╤é╤î╤§, ╨║╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤é. ╨ó.╨Ê. ╨É╨╜╨┤╤Ç╨╡╨╡╨▓╨╛╨╣, ╨¢.╨Ê. ╨Ê╤ï╤ü╨║╨╛╤ç╨║╨╛╨▓╨░. ╨´╨ƒ╨▒., 2013. ╨´. 62.
3 ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨Ù.╨É. ╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨║╨╕ ╤é╨░╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ü╨╛╨▓╨╡╤é╨╜╨╕╨║╨░. ╨£., 2012.
4 ╨´╨╝.: ╨ƒ╨╛╨┐╨╛╨▓ ╨ô.╨ƒ. ╨ô╤â╨▒╨╡╤Ç╨╜╨░╤é╨╛╤Ç╤ï ╤Ç╤â╤ü╤ü╨║╨╛╨│╨╛ ╨´╨╡╨▓╨╡╤Ç╨░. ╨É╤Ç╤à╨░╨╜╨│╨╡╨╗╤î╤ü╨║, 2001 (╨│╨╗╨░╨▓╨░ ╨╛╨▒ ╨░╤Ç╤à╨░╨╜╨│╨╡╨╗╤î╤ü╨║╨╛╨╝ ╨│╤â╨▒╨╡╤Ç╨╜╨░╤é╨╛╤Ç╨╡ ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨╡); ╨£╨╡╨╗╤î╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨É.╨Ê. ┬½╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨║╨╕ ╤é╨░╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ü╨╛╨▓╨╡╤é╨╜╨╕╨║╨░ ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨░┬╗ ΓÇô ╨╝╨░╨╗╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╤ü╤é╨╜╤ï╨╣ ╨╕╤ü╤é╨╛╤ç╨╜╨╕╨║ ╨┐╨╛ ╨╕╤ü╤é╨╛╤Ç╨╕╨╕ ╤é╨░╨╝╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤â╨┐╤Ç╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤§ 1870ΓÇô1880-╤à ╨│╨│. // ╨ó╨╛╤Ç╨│╨╛╨▓╨╗╤§, ╨║╤â╨┐╨╡╤ç╨╡╤ü╤é╨▓╨╛ ╨╕ ╤é╨░╨╝╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╛ ╨▓ ╨¦╨╛╤ü╤ü╨╕╨╕ XVIΓÇôXIX ╨▓╨▓. ╨Ü╤â╤Ç╤ü╨║, 2009. ╨´. 352ΓÇô355; ╨ó╤â╤é╨╛╨╗╨╝╨╕╨╜ ╨Ù.╨Ê. ╨Û ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨╡ ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ┬½╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨║╨░╤à┬╗ // ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨Ù.╨É. ╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨║╨╕ ╤é╨░╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ü╨╛╨▓╨╡╤é╨╜╨╕╨║╨░. ╨£., 2012. ╨´. 11ΓÇô24.
5 ╨´╨╝., ╨╜╨░╨┐╤Ç.: ╨Î╨╡╨▓╤ï╤Ç╨╡╨▓ ╨É.╨ƒ. ╨¦╤â╤ü╤ü╨║╨╕╨╣ ╤Â╨╗╨╛╤é ╨┐╨╛╤ü╨╗╨╡ ╨Ü╤Ç╤ï╨╝╤ü╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ï: ╨╗╨╕╨▒╨╡╤Ç╨░╨╗╤î╨╜╨░╤§ ╨▒╤À╤Ç╨╛╨║╤Ç╨░╤é╨╕╤§ ╨╕ ╨╝╨╛╤Ç╤ü╨║╨╕╨╡ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╤ï. ╨£., 1990; ╨Û╨╜ ╨╢╨╡. ╨Ê╨╛ ╨│╨╗╨░╨▓╨╡ ┬½╨║╨╛╨╜╤ü╤é╨░╨╜╤é╨╕╨╜╨╛╨▓╤¶╨╡╨▓┬╗: ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╣ ╨║╨╜╤§╨╖╤î ╨Ü╨╛╨╜╤ü╤é╨░╨╜╤é╨╕╨╜ ╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ç ╨╕ ╨É.╨Ê. ╨ô╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╕╨╜ // ╨É╨╗╨╡╨║╤ü╨░╨╜╨┤╤Ç II. ╨ó╤Ç╨░╨│╨╡╨┤╨╕╤§ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨░╤é╨╛╤Ç╨░: ╨╗╤À╨┤╨╕ ╨▓ ╤ü╤â╨┤╤î╨▒╨░╤à ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝, ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╤ï ╨▓ ╤ü╤â╨┤╤î╨▒╨░╤à ╨╗╤À╨┤╨╡╨╣. ╨´╨ƒ╨▒., 2012.
6 ╨´╨╝.: ╨É╨▒╨░╨║╤â╨╝╨╛╨▓ ╨Û.╨«. ╨¦╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨░╤é╨╛╤Ç╤ï ╨╕╨╖ ╨ó╤Ç╨╡╤é╤î╨╡╨│╨╛ ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤§: ╨┐╨╛╨╗╨╕╤é╨╕╤ç╨╡╤ü╨║╨░╤§ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤¶╨╕╤§ ╨▓ ╨▒╨╛╤Ç╤î╨▒╨╡ ╨╖╨░ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╤ï // ╨É╨╗╨╡╨║╤ü╨░╨╜╨┤╤Ç II. ╨ó╤Ç╨░╨│╨╡╨┤╨╕╤§ ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╨░╤é╨╛╤Ç╨░: ╨╗╤À╨┤╨╕ ╨▓ ╤ü╤â╨┤╤î╨▒╨░╤à ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝, ╤Ç╨╡╤Â╨╛╤Ç╨╝╤ï ╨▓ ╤ü╤â╨┤╤î╨▒╨░╤à ╨╗╤À╨┤╨╡╨╣. ╨´╨ƒ╨▒., 2012. ╨´. 132.
7 ╨´╨╝.: ╨ó╤â╤é╨╛╨╗╨╝╨╕╨╜ ╨Ù.╨Ê. ╨Û ╨Ù.╨É. ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓╨╡ ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ┬½╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨║╨░╤à┬╗. ╨´. 13.
8 ╨´╨╝.: ╨£╨╡╤ë╨╡╤Ç╤ü╨║╨╕╨╣ ╨Ê.╨ƒ. ╨£╨╛╨╕ ╨▓╨╛╤ü╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤§. ╨£., 2003. ╨´. 135.
9 ╨£╨╡╤ë╨╡╤Ç╤ü╨║╨╕╨╣ ╨Ê.╨ƒ. ╨ƒ╨╕╤ü╤î╨╝╨░ ╨║ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╝╤â ╨║╨╜╤§╨╖╤À ╨É╨╗╨╡╨║╤ü╨░╨╜╨┤╤Ç╤â ╨É╨╗╨╡╨║╤ü╨░╨╜╨┤╤Ç╨╛╨▓╨╕╤ç╤â, 1863ΓÇô 1868 / ╨´╨╛╤ü╤é., ╨┐╤â╨▒╨╗., ╨▓╤ü╤é╤â╨┐. ╤ü╤é. ╨╕ ╨║╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤é. ╨Ù.╨Ê. ╨¯╨╡╤Ç╨╜╨╕╨║╨╛╨▓╨╛╨╣. ╨£., 2011. ╨´. 456.
10 ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨Ù.╨É. ╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨║╨╕Γdz ╨´. 128.
11 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 129.
12 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 126.
13 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 138.
14 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 137.
15 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 138.
16 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 153.
17 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 158.
18 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 161.
19 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 164.
20 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 160.
21 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 181ΓÇô182.
22 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 177.
23 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 178ΓÇô179. 24 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 193.
25╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 194ΓÇô195.
26 ╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨║╨╕ ╨║╨╜╤§╨╖╤§ ╨Ë.╨É. ╨Û╨▒╨╛╨╗╨╡╨╜╤ü╨║╨╛╨│╨╛. 1855-1879 / ╨Û╤é╨▓. ╤Ç╨╡╨┤. ╨Ê.╨ô. ╨¯╨╡╤Ç╨╜╤â╤à╨░. ╨´╨ƒ╨▒., 2005. ╨´. 384ΓÇô385; ╨Î╨╡╤ü╤é╨░╨║╨╛╨▓ ╨¤.╨É. ╨ƒ╨╛╨╗╨▓╨╡╨║╨░ ╨╛╨▒╤ï╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕. ╨Ê╨╛╤ü╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤§ (1838ΓÇô 1881). ╨´╨ƒ╨▒., 2006; ╨´╨╝. ╤é╨░╨║╨╢╨╡: ╨Î╨╡╨▓╤ï╤Ç╨╡╨▓ ╨É.╨ƒ. ╨¦╤â╤ü╤ü╨║╨╕╨╣ ╤Â╨╗╨╛╤é ╨┐╨╛╤ü╨╗╨╡ ╨Ü╤Ç╤ï╨╝╤ü╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ï... ╨´. 9.
27 ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨Ù.╨É. ╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨║╨╕Γdz ╨´. 210.
28 ╨´╨╝.: ╨ô╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╕╨╜ ╨É.╨Ê. ╨£╨░╤é╨╡╤Ç╨╕╨░╨╗╤ï ╨┤╨╗╤§ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╡╨╛╨┐╨╕╤ü╨░╨╜╨╕╤§ ╤¶╨░╤Ç╨╡╨▓╨╕╤ç╨░ ╨╕ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤§╨╖╤§ ╨Ü╨╛╨╜╤ü╤é╨░╨╜╤é╨╕╨╜╨░ ╨Ù╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ç╨░. ╨´╨ƒ╨▒., 2006. ╨´. 124ΓÇô125.
29 ╨Ü╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨▓ ╨Ù.╨É. ╨ù╨░╨┐╨╕╤ü╨║╨╕Γdz ╨´. 168.
30 ╨ó╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨´. 160ΓÇô161.
31 ╨Î╨╡╨▓╤ï╤Ç╨╡╨▓ ╨É.╨ƒ. ╨¦╤â╤ü╤ü╨║╨╕╨╣ ╤Â╨╗╨╛╤é ╨┐╨╛╤ü╨╗╨╡ ╨Ü╤Ç╤ï╨╝╤ü╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ïΓdz ╨´. 164.

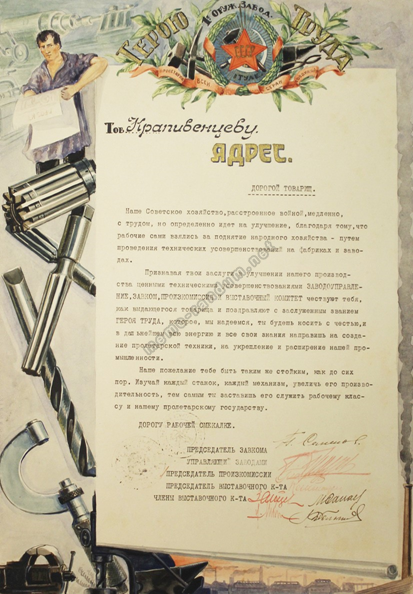


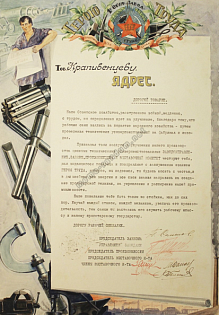



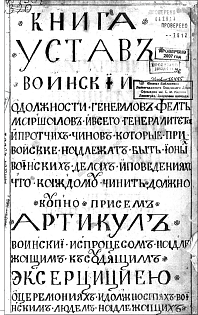

Комментарии