–Ю —Б—Г–і—М–±–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –≤ 1812 –≥–Њ–і—Г, –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤ –Р.–Ъ. (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞)
–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –І–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 15вАУ17 –Љ–∞—П 2013 –≥–Њ–і–∞
–І–∞—Б—В—М I–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥
–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2013
¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2013
¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2013
–°–Ґ–Р–Ґ–ђ–ѓ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ —Б–і–∞—З–Є –≤—А–∞–≥—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ–ї–Є–Ї–≤–Є–є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞, –≥–Є–±–µ–ї—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–≤ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1812 –≥. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ –љ–∞ –±–∞–Ј–µ —Е—А–∞–љ—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Ю–Я–Ш –У–Ш–Ь –Љ–∞–ї–Њ–Є–Ј—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –Є–ї–Є –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤.
–У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П ¬Ђ–Ф–µ–ї–Њ –Њ –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–Љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ 1812 –У–Њ–і–∞¬ї1 –Є–Ј —Д–Њ–љ–і–∞ ¬Ђ–Ю—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤—Г –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Ь—Г–Ј–µ—П 1812 –≥–Њ–і–∞¬ї. –Т ¬Ђ–Ф–µ–ї–µ¬ї –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ 200 –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –љ–∞ 766 –ї–Є—Б—В–∞—Е –Ј–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 1 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1812-–≥–Њ –њ–Њ 20 –∞–њ—А–µ–ї—П 1818 –≥. –°–≤—Л—И–µ 90 % –Є—Е –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1812-–≥–Њ –њ–Њ —Д–µ–≤—А–∞–ї—М 1814 –≥. –≠—В–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ–і –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤ –Я.–Ь. –Я–Є—З—Г–≥–Є–љ–∞ –Є –Т.–§. –Ш–ї—М–Є–љ–∞. –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –і–ї—П —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ –±—Л–ї–Њ –±—А–Њ—И–µ–љ–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—К–µ–Љ–∞ —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–ї—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—Е–Њ–і–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л.
¬Ђ–Ф–µ–ї–Њ¬ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –Ї–Њ–њ–Є–Є –њ–Є—Б–µ–Љ –Ь.–Ш. –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞ –§.–Т. –†–Њ—Б—В–Њ–њ—З–Є–љ—Г –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Б–ї–µ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є –і–Њ —Б–і–∞—З–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ I, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л, —А–∞–њ–Њ—А—В—Л, –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ–і—И–µ–≥–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–µ–є, —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ –Є —В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞. –≠—В–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –ї–Є—И—М –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–Љ –°.–Т. –®–≤–µ–і–Њ–≤—Л–Љ, –≤ —Б—В–∞—В—М—П—Е –Њ –Ј–∞–њ–∞—Б–∞—Е –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ –≤ 1812 –≥., –і–ї—П —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, —Е—А–∞–љ—П—Й–Є–Љ–Є—Б—П –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –∞—А—Е–Є–≤–∞—Е2.
–Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –Њ–±–µ–Є—Е —Б—В–Њ–ї–Є—Ж –≤—Б—В–∞–ї–∞ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Њ–є—Б–Ї –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Њ—В –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞ –Ї –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –Є–Ј –°–∞–љ–Ї—В&–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –≠—А–Љ–Є—В–∞–ґ, –і–µ–ї–∞ –≤—Б–µ—Е –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В, –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є –Є –њ—А–Њ—З–µ–µ –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ—Л –≤–Њ–і–Њ–є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А. –Ъ —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–є –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї, —А–µ–ї–Є–Ї–≤–Є–Є –Є —В—А–Њ—Д–µ–Є, —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –Я–µ—В&—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е3.
–Т –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞ —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є—О —П–≤–ї—П–ї—Б—П –§.–Т. –†–Њ—Б—В–Њ–њ—З–Є–љ, –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ –Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ –†–Њ—Б—В–Њ–њ—З–Є–љ –њ–Њ–і—З–Є–љ—П–ї—Б—П –Ь.–Ш. –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤—Г –Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–і–∞—З–Є –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞ —Б—В–∞–ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Є –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–є –±–∞–Ј–Њ–є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –≠–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є—П –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є—В–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞.
–У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П–ї—Б—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–њ–Њ –≥–µ–љ.-–Љ. –Т.–•. –Ъ–љ–Њ–±–µ–ї—М. –Т—Б–µ —В–µ–Ї—Г—Й–Є–µ –і–µ–ї–∞ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–њ–Њ, –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Р.–Р. –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞, –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–∞ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –µ–≥–Њ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞. –£—В—А–Њ–Љ 31 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –і–µ–њ–Њ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –Ъ–љ–Њ–±–µ–ї–µ–Љ –≤—Л–µ—Е–∞–ї–Њ –≤ –Э–Є–ґ–љ–Є–є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і, –Є –≤—Б—П –њ–Њ–ї–љ–Њ—В–∞ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є—О –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –њ–∞–ї–∞ –љ–∞ –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤–∞.
–Ш–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –µ—Й–µ 18 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –†–Њ—Б—В–Њ–њ—З–Є–љ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –Њ—В –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤–∞ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і –і–ї—П –≤—Л–≤–Њ–Ј–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Т —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ 6475 –њ–Њ–і–≤–Њ–і. 21 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –†–Њ—Б—В–Њ–њ—З–Є–љ –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї –µ–Љ—Г 18 –±–∞—А–Њ–Ї –і–ї—П –≤—Л–≤–Њ–Ј–∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –≤–Њ–і–µ, –љ–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 8 –±—Л–ї–Є –≥–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Я–µ—А–µ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–Љ –Є —Б–≤–Є–љ—Ж–Њ–Љ –±–∞—А–Ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞-—А–µ–Ї–µ 1 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П, –љ–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Б–µ–ї–Є –љ–∞ –Љ–µ–ї—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Я–µ—А–µ—А–≤—Л. –Т–µ—Б—М –њ–Њ—А–Њ—Е –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤—Л—Б—Л–њ–∞—В—М –≤ –≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤—А–∞–≥—Г, –∞ —В—Л—Б—П—З–Є –њ—Г–і–Њ–≤ —Б–≤–Є–љ—Ж–∞ вАУ –Ј–∞—В–Њ–њ–Є—В—М. –Т —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М –Є —Г—В—А–Њ–Љ 2-–≥–Њ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –Є–Ј –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–ї–Њ—Б—М –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ 600 –њ–Њ–і–≤–Њ–і–∞—Е вАУ –±–Њ–ї—М—И–µ –Є—Е —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.
–†–Њ—Б—В–Њ–њ—З–Є–љ –љ–µ –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В –≤ –§–Є–ї—П—Е –Є —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ —Б–і–∞—З–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 11 —З–∞—Б–Њ–≤ –≤–µ—З–µ—А–∞ 1 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П, —В. –µ. –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞ 4 —З–∞—Б–∞ –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤—Л–≤–Њ–і–∞ –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї. –Ф–Њ 16 —З–∞—Б–Њ–≤ 2 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –∞—А–Љ–Є—П –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л.
–Т –і–≤–∞ —З–∞—Б–∞ –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г–љ–Њ—З–Є 2 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤ —Б–љ—П–ї –Ї–∞—А–∞—Г–ї—Л –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Ї —Г—Е–Њ–і—П—Й–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –≥–Њ—А–Њ–і, –±—А–Њ—Б–Є–≤ –і–∞–ґ–µ —Б—Г–љ–і—Г–Ї —Б –і–µ–љ—М–≥–∞–Љ–Є (—В—Л—Б—П—З–∞ —А—Г–±–ї–µ–є –Љ–µ–і–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–µ—В–Њ–є) –і–ї—П –Њ–њ–ї–∞—В—Л —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Њ–≤. –°–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–Є –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞—В—М –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Ј–∞—А—П–і—Л –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –Ї –Ъ—А–µ–Љ–ї—О. –І–∞—Б—В—М –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤ –Ј–∞—В–Њ–њ–Є–ї–Є –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Љ –њ—А—Г–і—Г —А–Њ–≤–љ–Њ –Ј–∞ —З–∞—Б –і–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–∞–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Э–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –Љ–∞—Б—Б–∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –≤—А–∞–≥—Г –Є –±—Л–ї–∞ –Є–Љ —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–∞, –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ–∞ –Є–ї–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–∞.
–£–Ј–љ–∞–≤ –Њ–± —Н—В–Є—Е –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ—В–µ—А—П—Е, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А I –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. 21 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1812 –≥. (–Ї–Њ–≥–і–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –µ—Й–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ) —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–љ. –Р.–Ш. –У–Њ—А—З–∞–Ї–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –≤–Є—Ж–µ-–і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А—Г –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –Ш.–У. –У–Њ–≥–µ–ї—О —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–µ: ¬Ђ–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—О –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –±–ї–∞–≥–Њ—Г–≥–Њ–і–љ–Њ –Є–Љ–µ—В—М –≤–µ—А–љ–Њ–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П —В–∞–Љ –≤ —Б–Є–µ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –≤–µ—Й–µ–є –Є –њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤—Г –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞. –Т —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —З–µ–≥–Њ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і—Г—О –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Я—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ї–Њ –Љ–љ–µ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В—М –Њ–± –Њ—А—Г–ґ–Є–Є, –≤–µ—Й–∞—Е –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–Є–њ–∞—Б–∞—Е –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –±—Г–і–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ–± –Њ–љ—Л—Е –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В—Г. –° —В–µ–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Є—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї –љ–∞–Є—Б–Ї–Њ—А–µ–µ —З—А–µ–Ј –љ–∞—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–µ–њ–Њ –≤–µ—А–љ–Њ–µ –Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї–Є—Е –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–µ—Й–µ–є –Є –њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –і–Њ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —В–∞–Љ; —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –Ї—Г–і–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ–Њ; —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –Є —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Њ, —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–∞–Ї—Г—О —Б—Г–Љ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В–∞–Љ –Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –≤–µ—Й–Є, –Є —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ї–Њ –Љ–љ–µ –і–ї—П –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –Х–≥–Њ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г¬ї4.
–Т—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–µ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤, –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –±—Л–ї –Њ—В–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ —Б —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –≥–µ–љ.-–Љ. –Я.–Ь. –Я–Є—З—Г–≥–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —А–∞–њ–Њ—А—В–∞—Е –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –Њ –њ–Њ–Є—Б–Ї–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ–∞—Е –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞. 16 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1812 –≥. –Њ–љ –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї: ¬Ђ–Ю–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є –±–µ–ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≥–Њ—А–µ–ї–Њ /вА¶/ —В–∞–Ї —З—В–Њ –љ–Є –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ –≥–Њ–і–Є—В—Б—П¬ї5.
5 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1813 –≥. –Я–Є—З—Г–≥–Є–љ—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —Г—Б–Ї–Њ—А–Є—В—М —А–∞–±–Њ—В—Г. 10 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А—Г –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ—Л —В—А–Є –љ–∞—Б–њ–µ—Е —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–Ю —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –њ–Њ 1&–µ –°–µ–љ—В—П–±—А—П –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ 1812 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є –Р—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –µ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ–≥–∞–ї–Є—П—Е, —В—А–Њ—Д–µ—П—Е, –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е, –њ—А–Є–њ–∞—Б–∞—Е –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –≤–µ—Й–∞—Е, —Б–љ–∞—А—П–і–∞—Е –Є –Ј–∞–њ–∞—Б–∞—Е, –±—Л–≤—И–Є—Е –њ—А–Є –Р—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ –Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–∞, —Б –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Њ, –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Њ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –њ—А–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–∞—И–Є—Е, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ–Њ –Є–Ј –Њ–љ–Њ–є –Ї—Г–і–∞, –≤ –Ї–∞–Ї—Г—О —Б—Г–Љ–Љ—Г –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–љ–Њ–µ, –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ —Ж–µ–љ–∞–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ, —И—В–∞—В–љ—Л–Љ –Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ–Љ—Л–Љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —В–∞–Ї–Є—Е –Ј–≤–∞–љ–Є–є, –Ї–∞–Ї–Є–Љ —Ж–µ–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П, –Ї–∞–Ї —В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Г—В–≤–∞—А–Є, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ–≥–∞–ї–Є–є, —В—А–Њ—Д–µ–є, –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ–Є–≥, –љ–µ–≥–Њ–і–љ—Л—Е, —А–∞–≤–љ–Њ –Є –љ–µ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –љ—Л–љ–µ –≤–µ—Й–µ–є¬ї6.
–†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤, –≤—Б—В–∞–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –У—А–∞—Д –†–Њ—Б—В–Њ–њ—З–Є–љ —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї –µ–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤–∞. –Т –њ–Є—Б—М–Љ–µ –†–Њ—Б—В–Њ–њ—З–Є–љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А—Г –Њ—В 17 –Љ–∞—А—В–∞ 1813 –≥. –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —З—В–Њ ¬ЂвА¶–Ј–∞ –њ—А–Њ—З–µ–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ–і–Є–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤; /вА¶/ –љ–Њ –Њ–љ, –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞—П —Б–≤–Њ—О –±–µ—Б–њ–µ—З–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–Є—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є, –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ—В—З–µ—В–∞—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, —В–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–Ј–љ–∞—З—Г—Й–µ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ј–∞—А—П–і–Њ–≤, –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ –Є –њ–Њ—А–Њ—Е—Г –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –Ј–∞ –љ–µ–Є–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і –≤ –Р—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ¬ї7.
–Т–µ—Б–љ–Њ–є 1813 –≥. –Я.–Ь. –Я–Є—З—Г–≥–Є–љ–∞ —Б–Љ–µ–љ–Є–ї –≥–µ–љ.-–Љ. –Т.–§. –Ш–ї—М–Є–љ, —Б—В–∞–≤—И–Є–є –љ–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–њ–Њ –Є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є. –Я–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П–ї–∞—Б—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є —А–∞–Ј–±–Њ—А–µ –Ј–∞–≤–∞–ї–Њ–≤ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –≤–µ—Й–µ–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –∞—А—Е–Є–≤ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Є —Б–≥–Њ—А–µ–ї.
–Я–Њ –±–µ—Б–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ—Л–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —Б—А–Њ—З–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–њ–Є—Б–Ї–Є –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –≤–µ—Й–µ–є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–љ–Є –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ—Л–є –Є —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –і–∞ –Є –µ–і–Є–љ–Њ–є –Є—Е —Д–Њ—А–Љ—Л –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ —В—А–µ—Е –ї–µ—В –≤ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –і–µ—Б—П—В–Ї–Є —В–∞–Ї–Є—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–µ–є, —А–µ–µ—Б—В—А–Њ–≤, —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–≤, –Њ–њ–Є—Б–µ–є –Є —В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤.
–Т—Б–µ –Њ–љ–Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г I, –і–µ—А–ґ–∞–≤—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–і –ї–Є—З–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ —Е–Њ–і —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –†–∞–±–Њ—В–∞ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–∞—Б—М –ї–Є—И—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1814 –≥. –Ю –µ–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞—Е –±—Л–ї–Њ –і–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А—Г –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –Я.–Ш. –Ь–µ–ї–ї–µ—А-–Ч–∞–Ї–Њ–Љ–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–Љ (–љ–∞ 24 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е) —А–∞–њ–Њ—А—В–µ8. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ —Б—Г–і—М–±–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –ґ–і–∞—В—М –µ—Й–µ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –≥–Њ–і–∞. 11 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1815 –≥. –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї: ¬ЂвА¶–і–Њ–љ–µ—Б—В–Є –Љ–љ–µ –Њ–± –Њ–љ–Њ–Љ –±–µ–Ј –Љ–∞–ї–µ–є—И–µ–≥–Њ –Њ—В–ї–∞–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є—Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ—П –Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Г—О –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—О –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г¬ї9.
–Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 10 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1815 –≥. –Ь–µ–ї–ї–µ—А-–Ч–∞–Ї–Њ–Љ–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–Њ–љ–µ—Б –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А—Г –Њ–± –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є —А–Њ–Ј—Л—Б–Ї–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—О –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Є—В–Њ–≥–Њ–≤–∞—П –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ 100 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е10. –Т –љ–µ–є –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, —Б —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞ —В—А–Є —З–∞—Б—В–Є: 1) —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ 2 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1812 –≥., 2) —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ –Є 3) –љ–µ –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–Њ–µ, —В. –µ. —А–∞—Б—Е–Є—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–ї–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ. –Я–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Є–Ј —Н—В–Є—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Я–Њ –Є—В–Њ–≥–Њ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ, –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–Њ 80 —В—Л—Б—П—З –µ–і–Є–љ–Є—Ж11. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–Є—В—М –≤—Б—О –∞—А–Љ–Є—О –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞ –Є–ї–Є –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞. –Ю–±—Й–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ 1 074 762 —А. 53 –Ї. –Э–∞–є–і–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ 71 661 —А. 32 –Ї. –Э–µ –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ –Є –њ—А–Њ–њ–∞–ї–Њ –љ–∞ 1 003 101 —А. 20 –Ї.12 –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—В—Л—Б–Ї–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 7 % –Њ—В –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ. –¶–µ–љ–∞ –њ—А–Њ–њ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–∞ —Б—Г–Љ–Љ—Г, –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –Є–Ј –Ї–∞–Ј–љ—Л –≤ 1813 –≥. –љ–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–µ–є –Њ—В –≤–Њ–є–љ—Л –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є.
–Я–Њ–і—Б—З–µ—В –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—Й–µ—А–±–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї—Б—П –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–µ –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л—Б—И–Є—Е –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П—Е –µ—Й–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–≤—Г—Е –ї–µ—В. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, 7 –Љ–∞—П 1817 –≥. –≤—Л—Б—И–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞–љ–Њ–є –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –Є—В–Њ–≥–Њ–≤—Г—О —Ж–Є—Д—А—Г –Є –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞: ¬Ђ–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –°–Њ–≤–µ—В –≤ –Ю–±—Й–µ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є, –њ–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–µ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В: –Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ—В–µ—А—О –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й—Г—О –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ—В—Л—А–µ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М—Б–Њ—В —Б–Њ—А–Њ–Ї —Б–µ–Љ—М —В—Л—Б—П—З —Б–µ–Љ—М—Б–Њ—В —Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —А—Г–±–ї–µ–є –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В —И–µ—Б—В—М –Ї–Њ–њ–µ–µ–Ї —Б —З–µ—В–≤–µ—А—В—М—О (4. –Љ. 847 717 —А—Г–±. 56 –Ї–Њ–њ.), –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ–і—И–Є–Љ –њ–Њ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є–Љ –љ–µ–њ—А–µ–і–≤–Є–і–Є–Љ—Л–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, –Є–Ј —Б—З–µ—В–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М¬ї13. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Б—Г–Љ–Љ–∞ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ–∞ —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –∞—Б—Б–Є–≥–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –љ–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л.
–Э–Њ –±—Л–ї–∞ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–∞ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ –≤–µ—Й–µ–є, —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –љ–µ –њ–Њ–і–і–∞–µ—В—Б—П –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—О. –≠—В–Њ —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —В–∞–Љ –±–µ—Б—Ж–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–≤—П—В—Л–љ–Є –Є —А–µ–ї–Є–Ї–≤–Є–Є XVII вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XIX –≤–≤.: —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Є —В—А–Њ—Д–µ–є–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞, —И—В–∞–љ–і–∞—А—В—Л, –Ј–љ–∞—З–Ї–Є, –Є–Ї–Њ–љ—Л –Є —В. –њ., –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —В—А–Њ—Д–µ–Є, –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П–≤—И–Є–µ —Б–Њ–±–Њ–є —Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є.
–Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ—Л –њ–Њ—З–µ—В–Њ–Љ –Є –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ –Њ–±–µ—А–µ–≥–∞–ї–Є—Б—М. –Т –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–£—Б—В–∞–≤–µ –Т–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ¬ї 1716 –≥. (–∞—А—В–Є–Ї—Г–ї 94) —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ: ¬Ђ–Ъ–Њ—В–Њ—А—Л—П –Ј–љ–∞–Љ—П —Б–≤–Њ–µ –Є–ї–Є —И—В–∞–љ–і–∞—А—В –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Ї–∞–њ–ї–Є –Ї—А–Њ–≤–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—П—В—М –љ–µ –±—Г–і—Г—В /.../, —Г–±–Є—В—Л –±—Г–і—Г—В /вА¶/ –Є–ї–Є –≤ –њ–Њ–ї–Ї –Њ—В–і–∞–љ—Л, –Є —В–∞–Љ–Њ, –±–µ–Ј –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –і—А–µ–≤–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–ї—Г—З–Є—В—Б—П –њ–Њ–≤–µ—И–µ–љ—Л –±—Л—В—М¬ї14. –Ю—В—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–µ —Б–≤–Њ–є —Б—А–Њ–Ї –Є–ї–Є –Њ–±–≤–µ—В—И–∞–≤—И–Є–µ –≤ –±–Њ—П—Е –Є –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї—Л (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї, –†–Є–≥–∞, –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –Є –Ъ–Є–µ–≤; –Ј–∞–њ–∞—Б–љ–Њ–є вАУ –≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ–Є) –Є–ї–Є –≤ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ —Е—А–∞–Љ—Л. –Т—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Њ—Б–Њ–±–Њ —Ж–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В—А–Њ—Д–µ—П–Љ–Є, –њ—А–µ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –Є –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є –≤ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї.
–Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г –Њ—Б–µ–љ–Є 1812 –≥. –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Њ–±—Й–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞ —В—Л—Б—П—З —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є —В—А–Њ—Д–µ–є–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ. –Ш –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є 2 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1812 –≥. –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –њ—А–Є –≤—Л—Е–Њ–і–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—А–∞–≥—Г –Ј–∞ –≤—Б—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –і–∞ –Є –≤—А—П–і –ї–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є.
–†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П –Є —Б—Г–і—М–±—Г –±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ.
–Т—Л—И–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Є–ї –Ј–∞ —Е–Њ–і–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–Љ–Є –≤ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ. –Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —Г–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ I –Р.–Ш. –У–Њ—А—З–∞–Ї–Њ–≤—Г, –Њ—В 18 –Љ–∞—А—В–∞ 1813 –≥., –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М: ¬Ђ–Э–µ –Љ–Њ–≥ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –ѓ –±–µ–Ј –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–µ–є, –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–є –±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—О, –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –Ї –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—О —В—А–Њ—Д–µ–µ–≤ –±—Л–≤—И–Є—Е –≤ –Р—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ, –љ–∞ —З—В–Њ –љ–µ –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–Є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Л—Е –Љ–µ—А, –љ–Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ч–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ —Б–Є–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤—М—В–µ –љ–∞ –≤–Є–і –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В—Г, —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г –Њ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–Є —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –µ–≥–Њ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е¬ї15.
–У–љ–µ–≤ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–µ –Ї –љ–µ–Љ—Г –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ: –њ–Њ—З—В–Є 900 —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 600 —В—А–Њ—Д–µ–є–љ—Л—Е. –Ф–ї—П –Є—Е —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є–ї–Њ—Б—М –±—Л –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –і–≤–∞-—В—А–Є –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і. –Х—Б–ї–Є —Г—З–µ—Б—В—М, —З—В–Њ –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ 600 –њ–Њ–і–≤–Њ–і –Є 8 –±–∞—А–Њ–Ї, —В–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –Ј–∞–±—Л–ї–Є. –†–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ, —А—П–і–Њ–Љ —Б –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–Њ–Љ, –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞ –±—Л–ї–∞ —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ 23 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞. –Р –Њ–± –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е, —А–µ–ї–Є–Ї–≤–Є—П—Е –Є —В—А–Њ—Д–µ—П—Е –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є: –љ–Є —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤, –љ–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є –†–Њ—Б—В–Њ–њ—З–Є–љ, –љ–Є –Њ—В–≤–µ—З–∞–≤—И–Є–є –Ј–∞ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤.
–Э–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Њ—В –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Н—В–Є—Е –ї–Є—Ж –Ї –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б–≤—П—В—Л–љ—П–Љ. –Т—А—П–і –ї–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Є –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤ –љ–µ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤ 1812 –≥. –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –≤ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –љ–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М16. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є —Н—В–Њ–є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–є –Ј–∞–±—Л–≤—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є —П–≤–Є–ї–∞—Б—М, –љ–∞ –љ–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ—Б—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ —Б–і–∞—З–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Є —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–љ–∞—П —Б—Г–Љ–∞—В–Њ—Е–∞ 2-–≥–Њ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П. –Э–µ —Б—В–Њ–Є—В –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞–Љ–Є –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞ –Є ¬Ђ–∞—Д–Є—И–Ї–∞–Љ–Є¬ї –†–Њ—Б—В–Њ–њ—З–Є–љ–∞ –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–µ–є –≤–љ–µ–і—А—П–ї–∞—Б—М –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–∞—П —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ –љ–µ –±—Г–і–µ—В —Б–і–∞–љ–∞ –≤—А–∞–≥—Г –љ–Є –њ—А–Є –Ї–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е. –Ю—В—К–µ–Ј–і —З–∞—Б—В–Є –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–µ–є –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Ї –њ–∞–љ–Є–Ї–µ—А—Б—В–≤–Њ –Є –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Г—О –Ї–∞–Ј–љ—М –Ь.–Э. –Т–µ—А–µ—Й–∞–≥–Є–љ–∞ –Є –њ—А–Є–Ј—Л–≤—Л –†–Њ—Б—В–Њ–њ—З–Є–љ–∞ –Ї –љ–∞—А–Њ–і—Г –Њ—В—Б—В–Њ—П—В—М –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г —Б –≤–Є–ї–∞–Љ–Є.
–Я–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ–Є—Б–Ї–Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –љ–µ –і–∞–ї–Є, –Њ —З–µ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –≤ —А–∞–њ–Њ—А—В–µ –Я–Є—З—Г–≥–Є–љ–∞ –Њ—В 14 –∞–њ—А–µ–ї—П 1813 –≥.: ¬ЂвА¶–Є–Љ–µ—О —З–µ—Б—В—М –і–Њ–љ–µ—Б—В–Є, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ—О –љ–Є—З–µ–≥–Њ –≤ –Р—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ –Є–Ј –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Є –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ —З—В–Њ –≤ –≤—Л–њ–Є—Б–Ї–µ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –љ–µ –Њ—В—Л—Б–Ї–∞–љ–Њ, –і–∞ —З—В–Њ–±—Л –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –Њ–љ—Л–µ —Г–≤–µ–Ј —Г—В–≤–µ—А–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Б–Є–Є –≤–µ—Й–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Р—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–∞, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–љ–µ–≥ –љ—Л–љ–µ —Б–Њ—И–µ–ї, —В–Њ –≤ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ–∞—Е –Њ—В—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –ї–Њ—Б–Ї—Г—В—М—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ, –љ–Њ –Ї–∞–Ї–Є–µ –Њ–љ–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—В—М –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ¬ї17. –Ю–± –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е –Ш.–У. –У–Њ–≥–µ–ї—М –≤ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Р.–Ш. –У–Њ—А—З–∞–Ї–Њ–≤—Г 12 –Љ–∞—П 1813 –≥. –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М: ¬ЂвА¶–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ –≤—Б–µ –Є—Б—В—А–µ–±–Є–ї, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–µ–Љ –Є—Е, –љ–µ –Є–Љ–µ–≤ –љ–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ –Ї —Г–≤–µ–Ј–µ–љ–Є—О –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ—Л—Е, –љ–Њ –Є —Б–≤–Њ–µ–є –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ—А–Є –Є–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е, –±–µ–Ј —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–µ–ї –±—Л –љ–∞—И–Є–Љ —В—А–Њ—Д–µ—П–Љ¬ї18.
–Ы–Њ–≥–Є–Ї–∞ –Ј–і–µ—Б—М —П–≤–љ–Њ —Е—А–Њ–Љ–∞–µ—В. –Ш–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ, –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Г–≤–µ–Ј—В–Є –Ї–∞–Ї—Г—О —Г–≥–Њ–і–љ–Њ –Є—Е —З–∞—Б—В—М –і–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ–± –Њ—В–њ—А–∞–≤–Ї–µ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞–љ—В–∞–Љ–Є –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—О –Њ–±–Њ–Ј–Њ–≤ —Б –љ–∞–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–∞–Љ–Є.
–Т –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ –Р.–Ш. –Я–Њ–њ–Њ–≤–∞ –Њ –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є—Е —В—А–Њ—Д–µ—П—Е –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞19 –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Р. –С–µ—А—В—М–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А—Г –Р. –Ъ–ї–∞—А–Ї—Г, –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –Я–∞—А–Є–ґ 12 –Њ–Ї—В—П–±—А—П (30 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –њ–Њ —Б—В. —Б—В.) 1812 –≥., —В. –µ. –Ј–∞ –њ–Њ–ї—В–Њ—А—Л –љ–µ–і–µ–ї–Є –і–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Т –њ–Є—Б—М–Љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П: ¬Ђ–У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥, –Є–Љ–µ—О —З–µ—Б—В—М –∞–і—А–µ—Б–Њ–≤–∞—В—М –≤–∞–Љ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –≤–µ—Й–µ–є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—О –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —В—А–Њ—Д–µ–µ–≤ –≤–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞. –Т—Б–µ —Н—В–Є –≤–µ—Й–Є –Ј–∞–њ–µ—А—В—Л –≤ –і–≤–∞ —Д—Г—А–≥–Њ–љ–∞, –≤—Л–µ—Е–∞–≤—И–Є–µ –≤—З–µ—А–∞ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. /вА¶/ –Ц–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–µ, –Т–∞—И–µ —Б–Є—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤–µ–ї–µ–ї–Є –±—Л –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ—А–Њ—З–Є–µ –≤–µ—Й–Є –≥. –Ф–µ–љ–Њ–љ—Г, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А—Г –Љ—Г–Ј–µ—П –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –µ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –і–∞—Б—В –Ј–љ–∞—В—М –Њ–± –Є—Е –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є¬ї20. –Т –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї –њ–Є—Б—М–Љ—Г —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –њ—П—В–Є —П—Й–Є–Ї–∞—Е –≤–µ—Й–Є: –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є–µ, —А—Г–Ї–∞ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Р–љ–і—А–µ—П, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–µ –±—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В–∞–Љ–Є, –ґ–µ–Љ—З—Г–≥–Њ–Љ –Є –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–Љ–љ—П–Љ–Є –Ї–Њ—А–Њ–љ—Л –Є —В. –њ. –Э–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–Є–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –і–ї—П –љ–∞—Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–µ —П—Й–Є–Ї–Њ–≤ вДЦ 4 –Є вДЦ 5. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М 87, –∞ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ вАУ 60 –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ, —Д–ї–∞–≥–Њ–≤, –Є–ї–Є —И—В–∞–љ–і–∞—А—В–Њ–≤21. –Т —Б—Г–Љ–Љ–µ –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П 147 –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ. –Ш—Б—Б–ї–µ–і—Г—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є, –∞–≤—В–Њ—А —Б—В–∞—В—М–Є –і–µ–ї–∞–µ—В –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —В—А–Њ—Д–µ–Є –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ, –∞ –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Њ–±–Њ–Ј–∞—Е. –Ґ–∞–Ї, –≤ 23-–Љ –±—О–ї–ї–µ—В–µ–љ–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Њ—В 14 (2) –Њ–Ї—В—П–±—А—П —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Њ—Б—М –Њ —В—А–Њ—Д–µ–є–љ—Л—Е —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е: ¬Ђ–Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–∞, –≤–Ј—П—В—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є —Г —В—Г—А–Њ–Ї –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –≤–Њ–є–љ–∞—Е, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ, –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –Я–∞—А–Є–ґ¬ї22. –Ґ—А—Г–і–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤ –Я–∞—А–Є–ґ –±—Л–ї–Є –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞, –∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –µ—Б–ї–Є –і–∞–ґ–µ –≤ 23-–Љ –±—О–ї–ї–µ—В–µ–љ–µ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ —В–µ—Е 147 –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –С–µ—А—В—М–µ, —В–Њ –Є—Е —Б—Г–і—М–±–∞ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є–і–љ–∞. –Ю—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е, –Р.–Ш. –Я–Њ–њ–Њ–≤ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —В—А–Њ—Д–µ–Є –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ—Г, –љ–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ ¬Ђ–±—Л–ї–Є –±—А–Њ—И–µ–љ—Л —Г –Я–Њ–љ–∞—А—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—А—Л –≤–Њ–Ј–ї–µ –Т–Є–ї—М–љ—Л¬ї23. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –∞—А—Е–Є–≤–∞—Е –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М—Б—П –љ–Њ–≤—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г.
–І–∞—Б—В—М —В—А–Њ—Д–µ–є–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Є–Ј –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Г. –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Р.&–Ю.&–Ы. –Ъ–Њ–ї–µ–љ–Ї—Г—А, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –Њ–± –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Я–∞—А–Є–ґ –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є—Е —В—А–Њ—Д–µ—П—Е, –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–µ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ—Г –њ–Њ–ї—П–Ї–Є —Е–Њ—В–µ–ї–Є –≤—Л–≤–µ–Ј—В–Є —Б–≤–Њ–Є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є. –Э–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —В–Њ–≥–і–∞ –ї–Њ—И–∞–і–µ–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –Є –і–ї—П —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –њ—Г—И–µ–Ї, ¬Ђ–њ–Њ–ї—П–Ї–Є —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є, –Њ—В–љ—П—В—Л–Љ–Є —Г –љ–Є—Е –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –≤ –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ¬ї24.
–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤–љ–µ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞. –Ґ–∞–Ї, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ш–ї—М–Є–љ —А–∞–њ–Њ—А—В–Њ–Љ –Њ—В 23 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1813 –≥. –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤—Г: ¬Ђ–У—А–∞—Д –†–Њ—Б—В–Њ–њ—З–Є–љ, –њ—А–Є –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–µ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—П –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ї –љ–µ–Љ—Г –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –Њ–і–љ–Њ –°—В–∞—А–Њ–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Ч–љ–∞–Љ—П –Є –і–≤–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤—Л—И–Є—В—Л—Е –Ч–љ–∞–Ї–∞, –Є–Ј –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ –ґ–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–µ, –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В –Њ–љ–Њ–Љ—Г –Ф–µ–њ–Њ –Њ—В–і–∞—В—М –Є—Е –і–ї—П —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Р—А—Б–µ–љ–∞–ї, –Є–Ј –Ї–Њ–µ–≥–Њ –Њ–љ–Є, –±–µ–Ј —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –Є –њ–Њ—Е–Є—Й–µ–љ—Л¬ї25. –Э–∞–ї–Є—З–Є–µ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є –і–≤—Г—Е –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б –њ–Њ–њ–∞–≤—И–Є–Љ–Є –≤ –Є—Е —А—Г–Ї–Є —Б–≤—П—В—Л–љ—П–Љ–Є. –Я–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є –љ–µ —Г–і–∞–ї–∞—Б—М, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤—Б—П —Г—З–µ—В–љ–∞—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є—П –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞ —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –Є –њ—А–Њ–њ–∞–ї–∞.
–С—Л–ї–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ. –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ш.–•. –У–µ—Б—Б–µ 8 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1813 –≥. –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –≤ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї ¬ЂвА¶—Б—В–∞—А–Њ–µ —А–∞–Ј–Њ–і—А–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ –і–≤–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Ї–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Ч–љ–∞–Љ—П —Б –≤–µ–љ–Ј–µ–ї–µ–≤—Л–Љ –У–µ—А–±–Њ–Љ –±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ¬ї. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ –њ—А–µ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М –Є –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –±–∞—А–Њ–љ–Њ–Љ –Р.–Р. –Ф–µ–ї—М–≤–Є–≥–Њ–Љ (–Њ—В—Ж–Њ–Љ –њ–Њ—Н—В–∞ –Є –і—А—Г–≥–∞ –Р.–°. –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞) –≤ –°–µ–љ–∞—В—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П ¬ЂвА¶–Ј–љ–∞–Љ—П —Б —Ж–µ–ї—Л–Љ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –У–µ—А–±–Њ–Љ –Є –љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–µ –Њ–љ–Њ–≥–Њ –Т–µ–љ–Ј–µ–ї—М –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –Я–µ—А–≤–Њ–є¬ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±–µ—А&–њ–Њ–ї–Є—Ж–Љ–µ–є—Б—В–µ—А—Г –≥–µ–љ. –Я.–Р. –Ш–≤–∞—И–Ї–Є–љ—Г –±—Л–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л ¬ЂвА¶–Њ—В —А–∞–Ј–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–і–љ–Њ –Ч–љ–∞–Љ—П –≤–µ—В—Е–Њ–µ –±–µ–Ј –Ї–Є—Б—В–Є –Є –Њ–і–Є–љ –®—В–∞–љ–і–∞—А—В –≤ –і–≤—Г—Е —А–∞—Б–њ–Њ—А–Њ—В—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Ї–∞—Е –Є –≤—Б–µ –Њ–љ–Њ–µ –±–µ–Ј –і—А–µ–≤–Ї–∞¬ї26.
–Я–Њ–Є—Б–Ї–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–µ–ї–Є–Ї–≤–Є–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ –і–≤—Г—Е –ї–µ—В. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г 1814 –≥. –њ—А–Є —А–∞–Ј–±–Њ—А–µ –Љ—Г—Б–Њ—А–∞ –Є —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –±—Л–ї–Є –љ–∞–є–і–µ–љ—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –Ї–ї–Њ—З–Ї–Є, –љ–Њ –Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Ж–µ–ї—Л—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Є–ї–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Є—Е —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Ъ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П–Љ –Њ—В 13 –љ–Њ—П–±—А—П –Є 10 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1814 –≥. –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е, –Ј–љ–∞—З–Ї–∞—Е –Є –њ—А–Њ—З–Є—Е –≤–µ—Й–∞—Е –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є —Б –Є—Е –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–є –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є –і–∞–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ 74 –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ, –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є вАУ 47.
–Т –Њ–±–µ–Є—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В—П—Е –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–∞ –Є —В–∞ –ґ–µ –Ј–∞–њ–Є—Б—М: ¬Ђ–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –≤—Б–µ –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ—Л –Є –Ч–љ–∞—З–Ї–Є –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Љ—Г—Б–Њ—А–µ —Б–Њ–њ—А–µ–≤—И–Є–µ, –Њ—В —З–µ–≥–Њ –љ–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–Є—Е –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П¬ї. –Ґ–µ–Ї—Б—В—Л –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –ї–∞–Ї–Њ–љ–Є—З–љ—Л –Є –Њ–і–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: ¬Ђ–Р—В–ї–∞—Б–љ–Њ–µ –С–µ–ї–Њ–µ —Б –І–µ—А–љ—Л–Љ –Ю—А–ї–Њ–Љ вАУ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л –Х./–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л/ 1-–є. –Ш–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ–Њ–µ. –Ф—А–µ–≤–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–∞, –±–µ–Ј –Я–Њ–і—В–Њ–Ї–∞ –Є –Ъ–Њ–њ—М—П¬ї27.
–Т –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –і–≤—Г—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ –љ–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. –Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є: ¬Ђ–ѓ–Ї–Њ —Е—А–∞–±—А—Л–є –≤–Њ–Є–љ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ—Л–є –¶–∞—А—М –Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ъ–љ—П–Ј—М –Я–µ—В—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –Т—Б–µ—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Є—П –Ь–∞–ї—Л—П –Є –С–µ–ї—Л—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є –°–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–µ—Ж¬ї. –Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ: ¬Ђ–Я–Њ –Я–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ –Х—П –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Л–љ–Є –Р–љ–љ—Л –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–љ—Л –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л –°–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–Є—Ж—Л –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є –њ—А–Њ—В—З–∞—П –Є –њ—А–Њ—В—З–∞—П –Є –њ—А–Њ—В—З–∞—П –і–∞–љ–Њ —Б–Є–µ –Ч–љ–∞–Љ—П –Х—П –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ч–∞–њ–Њ—А–Њ–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Ф–љ–µ–њ—А–∞ –У–µ—В–Љ–∞–љ—Г –Ф–∞–љ–Є–ї—Г –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—Г –ї–µ—В–∞ –Њ—В –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ 1730 –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Х—П –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ 1-–Љ –У–Њ–і—Г¬ї28.
–Ъ 10 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1814 –≥. –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ 121 –Ј–љ–∞–Љ—П.
–Ш—В–Њ–≥–Њ–≤—Л–µ –ґ–µ —Ж–Є—Д—А—Л –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ—Л –≤ —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1815 –≥. –≤ –Њ–±—Й—Г—О ¬Ђ–Т–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В—М –Њ–± –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, —Б –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ–≥–Њ –Є–Ј –Њ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –і–Њ–љ—Л–љ–µ –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ, –љ–µ –Њ—В—Л—Б–Ї–∞–љ–Њ –Є —З–µ–≥–Њ –љ–µ–Њ—В—Л—Б–Ї–∞–љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ—И—В—Г–µ—В¬ї29. –Ш–Ј —Н—В–Њ–є –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ 2 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1812 –≥. –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ –Њ–±—Й–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є 1465 –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е 895 —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є 570 —В—А–Њ—Д–µ–є–љ—Л—Е. –Э–∞–є–і–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ 182 –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є (–Є–Ј –љ–Є—Е 113 —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є 69 —В—А–Њ—Д–µ–є–љ—Л—Е), —В. –µ. –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 12 % –Њ—В –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –Є—Е —З–Є—Б–ї–∞. –Э–µ–љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М 1283 –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є (–Є–Ј –љ–Є—Е 782 —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є 501 вАУ —В—А–Њ—Д–µ–є–љ–Њ–µ).
–Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В —И—В–∞–љ–і–∞—А—В–Њ–≤. –Э–Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —И—В–∞–љ–і–∞—А—В–∞–Љ–Є (–Є–ї–Є —Н—Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–∞–Љ–Є) –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –≤ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є, –Љ—Л –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М –і–≤–∞ —Н—В–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Њ–і–љ–Њ вАУ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞.
–Э–∞–і–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –≤—А–∞–≥—Г –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —Б–≤—П—В—Л–љ–Є, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Л –Є –∞—В—А–Є–±—Г—В—Л: 14 –±—Г–љ—З—Г–Ї–Њ–≤, 17 —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е –±—Г–ї–∞–≤, 239 —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е –Є 98 –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Є—Б—В–µ–є, 879 —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞—З–Ї–Њ–≤30 –Є –њ—А.
–Я–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤—А–∞–≥—Г –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є —А–µ–ї–Є–Ї–≤–Є–Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ–µ—Б. –Э–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –њ–Њ–і —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ –±—Л–≤—И–Є–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤ –њ–Њ–њ–∞–ї –њ–Њ–і —В—Г —Б—В–∞—В—М—О –Т—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–≥–Њ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Њ—В 30 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1814 –≥. –Њ –њ–Њ–±–µ–і–µ –љ–∞–і –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–±—К—П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –∞–Љ–љ–Є—Б—В–Є—П –≤—Б–µ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –њ–Њ–і —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —Б –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–ї–Є —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ–Љ31. –Ю–љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ —З–Є–љ–µ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –≤ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞—Е –Є –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –љ–∞–≥—А–∞–і –Ј–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л.
–Я–Њ—В–µ—А—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є —В—А–Њ—Д–µ–є–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ –Њ—Й—Г—Й–∞–µ—В—Б—П –і–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ї–∞–Ї –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є, —В–∞–Ї –Є –і–ї—П –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —В–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П—Е. –Ф–∞–ґ–µ –≤ —Д–Њ–љ–і–∞—Е –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Є–Ј –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤, –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є XVIII вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XIX –≤–≤. —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ—Б—П –≤ –Ю–Я–Ш –У–Ш–Ь ¬Ђ–Ф–µ–ї–Њ –Њ –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–Љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ 1812 –У–Њ–і–∞¬ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ, —В—А–Њ—Д–µ–µ–≤ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —А–µ–ї–Є–Ї–≤–Є–є. –Ч–і–µ—Б—М –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Њ —Е–Њ–і–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ —А–∞–Ј–±–Њ—А—Г –Ј–∞–≤–∞–ї–Њ–≤ –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞, –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞-—А–µ–Ї–µ –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Є–љ—Ж–∞ –Є –Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –і–ї—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1812 –≥., –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Є –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –†–∞–њ–Њ—А—В—Л, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Є –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –і–Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Е–Њ–і–µ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –і–∞—О—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –≤ –љ–µ–Љ 1 –Є 2 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ —З–∞—Б–∞–Љ. –≠—В–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –µ—Й–µ –љ–µ –≤–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –љ–∞—Г—З–љ—Л–є –Њ–±–Њ—А–Њ—В –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–∞—П –Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞—П –Є—Е —З–∞—Б—В—М –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞–Љ–Є –≤ —О–±–Є–ї–µ–є–љ–Њ–Љ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ –≤ 1812 –≥–Њ–і—Г. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П, –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Ю–Я–Ш –У–Ш–Ь¬ї. (–Ь., 2012).
1 –Ю—В–і–µ–ї –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П (–і–∞–ї–µ–µ –Ю–Я–Ш –У–Ш–Ь). –§. 160. –Х–і. 206.
2 –®–≤–µ–і–Њ–≤ –°.–Т. –°—Г–і—М–±–∞ –Ј–∞–њ–∞—Б–Њ–≤ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –≤ 1812 –≥–Њ–і—Г // –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –∞—А—Е–Є–≤—Л. 1985. вДЦ 5. –°. 66вАУ68; –Х–≥–Њ –ґ–µ. –Ю –Ј–∞–њ–∞—Б–∞—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ 1812 –≥. // –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. 1987. вДЦ 6. –°. 71вАУ73; –Х–≥–Њ –ґ–µ. –Т–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В—М –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ј–∞–њ–∞—Б–Њ–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –љ–∞ 1 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1812 –≥–Њ–і–∞ // –Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1812 –≥–Њ–і–∞. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є. –°–∞—А–∞—В–Њ–≤. 30 –Љ–∞—П вАУ 1 –Є—О–љ—П 2002 –≥–Њ–і–∞. –°–∞—А–∞—В–Њ–≤, 2002. –°. 88вАУ98.
3 –Ь–∞—А—З–µ–љ–Ї–Њ –Т.–†. –Р–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞ –≥–Њ—Б. —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ь–∞—А—З–µ–љ–Ї–Є, 1782вАУ1838 // –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –°—В–∞—А–Є–љ–∞. 1896. вДЦ 3. –°. 500вАУ501; –Ц—Г—А–љ–∞–ї—Л –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ I. –Ґ. 2. 1810вАУ1812. –°–Я–±., 1891. –°. 90вАУ91.
4 –Ю–Я–Ш –У–Ш–Ь. –§. 160. –Х–і. 206. –Ы. 37вАУ38.
5 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 163вАУ163 –Њ–±.
6 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 182.
7 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 293вАУ294.
8 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 545вАУ556.
9 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 674.
10 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 678вАУ727.
11 –Т —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є–Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1812 –≥. –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –≤ –Р—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ 66 418 –µ–і–Є–љ–Є—Ж —Г—З—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ—Г—З—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –≤ —В. —З. 7,5 —В—Л—Б. —А—Г–ґ–µ–є, –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є–Ј –Ъ–Є–µ–≤–∞ –≤ –і–µ–љ—М –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ –ґ–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ ¬Ђ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є—Б—З–Є—Б–ї—П–µ—В—Б—П –≤ 74 974 —А—Г–ґ—М—П, –љ–Њ –≤ —Н—В—Г —Ж–Є—Д—А—Г –љ–µ –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В—Б—П –і–Њ 10 —В—Л—Б. –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ–Њ–≤, —И—В—Г—Ж–µ—А–Њ–≤, –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –Є –і—А.¬ї (–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї (–¶–µ–є—Е–≥–∞—Г–Ј) // –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ 1812 –≥–Њ–і–∞. –≠–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П. –Ь., 2004. –°. 479).
12 –Ю–Я–Ш –У–Ш–Ь. –§. 160. –Х–і. 206. –Ы. 690.
13 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 735.
14 –¶–Є—В. –њ–Њ: –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤ –Э.–У. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—З–µ—А–Ї –Њ —А–µ–≥–∞–ї–Є—П—Е –Є –Ј–љ–∞–Ї–∞—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Т 2 —В. –°–Я–±., 1898вАУ1899. –Ґ. 1. –°. 225.
15 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 282вАУ282 –Њ–±.
16 –Ъ—А–∞—В–Ї–Є–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ, –Є–ї–Є —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М –≤—Б–µ–≥–Њ, –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –і–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ XIX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –Ї–∞—Б–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ / —Б–Њ—Б—В. –Р.–Р. –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤ // –Ґ—А—Г–і—Л –У–Ш–Ь. –Т—Л–њ. 156. –Ь., 2006. –°. 67. –°—В. ¬Ђ–Ч–љ–∞–Љ—П (—И—В–∞–љ–і–∞—А—В)¬ї.
17 –Ю–Я–Ш –У–Ш–Ь. –§. 160. –Х–і. 206. –Ы. 301вАУ301 –Њ–±.
18 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 303вАУ303 –Њ–±.
19 –Я–Њ–њ–Њ–≤ –Р.–Ш. –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–µ —В—А–Њ—Д–µ–Є –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ // –≠–њ–Њ—Е–∞ 1812 –≥–Њ–і–∞. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л. –Ь., 2012. –°. 254вАУ259.
20 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 256.
21 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.
22 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 257.
23 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 259.
24 –Ъ–Њ–ї–µ–љ–Ї—Г—А –Р. –і–µ. –Ь–µ–Љ—Г–∞—А—Л. –Я–Њ—Е–Њ–і –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О. –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є вАУ –Ь., 2002. –°. 263.
25 –Ю–Я–Ш –У–Ш–Ь. –§. 160. –Х–і. 206. –Ы. 404.
26 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 425вАУ426.
27 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 634.
28 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 657 –Њ–±.вАУ658.
29 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 691 –Њ–±.
30 –Ь—Л –љ–µ —А–µ—И–∞–µ–Љ—Б—П –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–Є—В—М –Ї –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞–Љ 879 –Ј–љ–∞—З–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–µ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л –Ї–∞–Ї –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Є—Е —З–∞—Б—В–Є, —В. –Ї. –≤ —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ј–љ–∞—З–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–љ—Л–µ –Є —А–Њ—В–љ—Л–µ —Д–ї–∞–≥–Є, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Є –Њ—В–ї–Є—З–Є—П –Є –і—А.
31 –Я–Њ–ї–љ. —Б–Њ–±—А. –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б. –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –°–Њ–±—А. 1&–µ. –Ґ. 32. вДЦ 25671. 30 –∞–≤–≥. 1814.








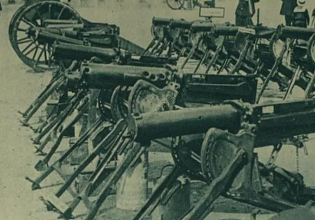
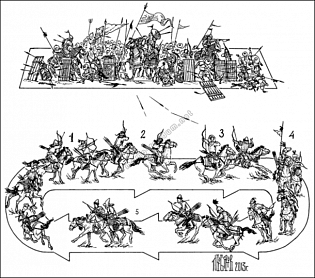
–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є