–Ю.–Р. –Ъ—Г—А–±–∞—В–Њ–≤ (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞) –ѓ–°–Р–Ъ–Ш вАУ –С–Ю–Х–Т–Ђ–Х –Ю–Я–Ю–Ч–Э–Р–Т–Р–Ґ–Х–Ы–ђ–Э–Ђ–Х –Ъ–Ы–Ш–І–Ш –¶–Р–†–°–Ъ–Ю–У–Ю –Т–Ю–Щ–°–Ъ–Р XVвАУXVII –Т–Х–Ъ–Ю–Т
–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є
–І–∞—Б—В—М III–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥
¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016
¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2015
¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016
–С–Њ–µ–≤—Л–µ –Ї–ї–Є—З–Є –Є –њ–Њ–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–Є–≥–љ–∞–ї—Л —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤–∞–ґ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –ї—О–±–Њ–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј–і–µ–ї ¬Ђ–Њ–±—А—П–і–∞ –≤–Њ–є–љ—Л¬ї –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–∞—В—М —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–ї–Є—З–∞—Е, –∞ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–± —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞—Е –њ–Њ–њ–∞–і–∞—О—В –≤ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є —А–µ–і–Ї–Њ, –њ–Њ—А–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ. –Ч–∞–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—О–ґ–µ—В–Њ–≤ XVIвАУ XVII –≤–≤. –њ–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ –†–У–Р–Ф–Р –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ, –Љ–љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–±—А–∞—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–±—К–µ–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–ї–Є—З–µ–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ вАУ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е ¬Ђ—П—Б–∞–Ї–Њ–≤¬ї. –І–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Б–≤–Њ–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П —П —Г–ґ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –≤ –њ–µ—З–∞—В–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ вАУ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –°–Љ—Г—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVII –≤–µ–Ї–∞¬ї (–Ь., 2013) –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б—В–∞—В—М—П—Е. –≠—В–Њ—В, –њ—Г—Б—В—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –µ—Й–µ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–є, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞—Б—И–Є—А–Є—В—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–ї–Є—З–µ–є, –љ–Њ –Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —А—П–і –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Е –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П.
–Я–Њ–љ—П—В–Є–µ —П—Б–∞–Ї–∞ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ. –Э–∞—З–љ–µ–Љ —Б —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ—П—Б–∞–Ї¬ї –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є вАУ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ, –≤—Л—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–Є —З–Є—Б—В–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—О –§–∞—Б–Љ–µ—А–∞, –Ї—А–Њ–Љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–і–∞–љ—М¬ї (—Б —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞), —Б–ї–Њ–≤–Њ jasak –≤ —З–∞–≥–∞—В–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ (—Б—В–∞—А–Њ—Г–Ј–±–µ–Ї—Б–Ї–Њ–Љ) —П–Ј—Л–Ї–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—Г–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ¬ї, –∞ –≤ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–Љ вАУ –і–∞–ґ–µ ¬Ђ–Ј–∞–њ—А–µ—В¬ї2. –Т —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М ¬Ђ—П—Б–∞–Ї¬ї вАУ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї вАУ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –±–∞—И–љ–Є –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї—Б—П —В–∞—В–∞—А–∞–Љ–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Б–∞–і—Л –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Ъ–∞–Ј–∞–љ–Є –≤ 1552 –≥.3 –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ ¬Ђ—П—Б–∞–Ї¬ї –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М –Ї —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ. –Ш –≤—Б–µ –ґ–µ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ ¬Ђ—П—Б–∞–Ї–Є¬ї вАУ —Н—В–Њ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л–µ —Б–Є–≥–љ–∞–ї—Л, —З—В–Њ –і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —З–Є—Б—В–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О. –Т –±–Њ—П—Е XVвАУXVI –≤–≤., –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–Є—Е —Б–Њ–±–Њ–є —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ–љ—Л–µ —Б—Е–≤–∞—В–Ї–Є, –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л–µ —Б–Є–≥–љ–∞–ї—Л –±—Л–ї–Є –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–µ–µ –ї—О–±—Л—Е –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –і–≤–∞ —В–Є–њ–∞ —П—Б–∞–Ї–Њ–≤: —П—Б–∞–Ї–Є –Ї–∞–Ї –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–ї–Є—З–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є —А–∞—В–љ—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є, –Є —П—Б–∞–Ї–Є –Ї–∞–Ї –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —Б–Є–≥–љ–∞–ї—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–± —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –±–Њ–µ–Љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О ¬Ђ–Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е¬ї —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVI —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –Ф–ґ–∞–є–ї—М—Б –§–ї–µ—В—З–µ—А: ¬Ђ–С–Њ–ї—М—И–Є–µ –і–≤–Њ—А—П–љ–µ, –Є–ї–Є —Б—В–∞—А—И–Є–µ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Є, –њ—А–Є–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–µ–і–ї–∞–Љ –њ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –Љ–µ–і–љ–Њ–Љ—Г –±–∞—А–∞–±–∞–љ—Г, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ–Є –±—М—О—В, –Њ—В–і–∞–≤–∞—П –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Є–ї–Є —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї—П—П—Б—М –љ–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Г –љ–Є—Е –µ—Б—В—М –±–∞—А–∞–±–∞–љ—Л –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ–Ј—П—В –љ–∞ –і–Њ—Б–Ї–µ, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –ї–Њ—И–∞–і—П—Е. –≠—В–Є—Е –ї–Њ—И–∞–і–µ–є —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В —Ж–µ–њ—П–Љ–Є, –Є –Ї –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –±–∞—А–∞–±–∞–љ—Г –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є –±–∞—А–∞–±–∞–љ—Й–Є–Ї–Њ–≤. –Х—Б—В—М —Г –љ–Є—Е —В–∞–Ї–ґ–µ —В—А—Г–±—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј–і–∞—О—В –і–Є–Ї–Є–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Њ—В –љ–∞—И–Є—Е —В—А—Г–±. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В –і–µ–ї–Њ –Є–ї–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—В –љ–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П, —В–Њ –≤—Б–Ї—А–Є–Ї–Є–≤–∞—О—В –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤—Б–µ –Ј–∞ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј —В–∞–Ї –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В, —З—В–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ —В—А—Г–± –Є –±–∞—А–∞–±–∞–љ–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В –і–Є–Ї–Є–є, —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є —И—Г–Љ¬ї 4. –Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П вАУ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–≥–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–∞ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П вАУ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–µ —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ–Ї—В—А–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ (¬Ђ–љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Љ–µ–і–љ—Л–є –±–∞—А–∞–±–∞–љ¬ї, –Є–ї–Є —В—Г–ї—Г–Љ–±–∞—Б) –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –і–ї—П –њ–Њ–і–∞—З–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤.
–Т–∞–ґ–љ—Л–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М ¬Ђ—А–Њ—Б–њ–Є—Б—М —П—Б–∞–Ї–∞–Љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞¬ї (1655), —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –і–µ–ї–∞—Е –†–∞–Ј—А—П–і–∞. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л –њ–µ—А–≤—Л–µ –њ—Г–љ–Ї—В—Л –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—З–љ—П: ¬Ђ1-–є —П—Б–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —Г—З–љ—Г—В –±–Є—В—М –њ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –љ–∞–±–∞—В—Г —В–Є—Е–Є–Љ –Њ–±—Л—З–∞–µ–Љ, —В–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і –љ–∞—И –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б–Ї–Њ–є. 2-–є —П—Б–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —Г—З–љ—Г—В –±–Є—В—М –њ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –љ–∞–±–∞—В—Г —Б–Ї–Њ—А—Л–Љ –Њ–±—Л—З–∞–µ–Љ –±–µ—Б–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ, –Є —В–Њ –≤—Б–њ–Њ–ї–Њ—Е [вА¶] 3-–є —П—Б–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —Г—З–љ—Г—В —В—А—Г–±–Є—В—М –≤ —Б—Г—А–љ—Г, –Є —В–Њ –њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞; –∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –± –±–µ–Ј —Б–Њ—В–µ–љ —В–Њ—В—З–∞—Б –±—Л–ї–Є –Ї –љ–∞—И–µ–Љ—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г —И–∞—В—А—Г –і–ї—П —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є, –≥–і–µ –±—Л—В—М –њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–µ. 4-–є —П—Б–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —Г—З–љ—Г—В —В—А—Г–±–Є—В—М –≤ –і–≤–µ —В—А—Г–±—Л, –і–∞ –±–Є—В—М –њ–Њ –ї–Є—В–∞–≤—А–∞–Љ –Љ–∞—Е–∞–љ—М–µ, –і–∞ –њ–Њ –і–≤–Њ–Є–Љ –љ–∞–Ї—А–∞–Љ, –Є —В–Њ –Є–Ј–≤–Њ–ї–Є—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –љ–∞ —Б–Љ–Њ—В—А, –Є–ї–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і, –Є–ї–Є –≤ –њ–Њ–ї—П –і–ї—П –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Є–і—В–Є; –∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ, —Г—Б–ї—Л—И–∞ —Б–µ–є —П—Б–∞–Ї, —В–Њ—В—З–∞—Б –±—Л—В—М –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Л–Љ 4-–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞–Љ —Б —Б–Њ—В–љ—П–Љ–Є –Ї –љ–∞—И–µ–Љ—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤—Г —И–∞—В—А—Г¬ї5. –Х—Й–µ –і–≤–∞ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –і–ї—П –Є–Ј–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Њ –њ–Њ–±–µ–і–µ, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–≤–Ї–µ. –Ч–і–µ—Б—М –Љ—Л —Г–ґ–µ –љ–µ –≤–Є–і–Є–Љ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —П—Б–∞–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –±—Л –Ї–∞–Ї —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ —Е–Њ–і–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –±—Г–і–µ—В —В–Њ, —З—В–Њ –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVII –≤. –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є, –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—О—Й–Є—Е —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є 5000вАУ10 000 –Є –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Є –≤–Є–і–µ—В—М –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–Љ—Л—Б–ї –≤ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞—Е, –Є –Њ–±–ї–∞—Б—В—М –Є—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–Ј–Є–ї–∞—Б—М –і–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і –і–ї—П —Б–Њ—В–µ–љ–љ—Л—Е –≥–Њ–ї–Њ–≤ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ (–љ–Њ –≤–љ–µ –±–Њ—П). –Т –њ–Њ–ї–Ї–∞—Е ¬Ђ–љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П¬ї, –њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞—Е —Б—В—А–µ–ї—М—Ж–Њ–≤ –Є –і–∞–ґ–µ –≤ –Ї–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—В–љ—П—Е –і–ї—П –њ–Њ–і–∞—З–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–Є —Г–ґ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Є–ї–Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ) –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П: –±–∞—А–∞–±–∞–љ—Л –Є –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ—Л–µ —Д–ї–µ–є—В—Л (¬Ђ—Б–Є–њ–Њ—И–Є¬ї, ¬Ђ—И–µ–ї–Њ–Љ–∞–Є¬ї) –≤ –њ–µ—Е–Њ—В–µ, —В—А—Г–±—Л –Є –ї–Є—В–∞–≤—А—Л –≤ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ —Б–Њ—В–љ—П—Е –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л6. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М, —З—В–Њ ¬Ђ–Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ¬ї –±–Њ–µ–≤—Л–µ —Б–Є–≥–љ–∞–ї—Л –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –њ–Њ–і–∞—З–Є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–Є–≥–љ–∞–ї –љ–∞—З–∞–ї–∞ –∞—В–∞–Ї–Є), –Є, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ ¬Ђ—П—Б–∞–Ї–∞¬ї –і–ї—П –Є—Е –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П вАУ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ.
–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—П—Б–∞–Ї–∞¬ї вАУ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–є –Ї–ї–Є—З, –Њ —З–µ–Љ –Є –њ–Њ–є–і–µ—В —А–µ—З—М –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ.
–Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —П—Б–∞–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Е —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –≤ XIIIвАУXVI –≤–≤. –° —П—Б–∞–Ї–∞–Љ–Є –Є–ї–Є –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є –Ї–ї–Є—З–∞–Љ–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ-—В–∞—В–∞—А —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —А–∞—В–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М —Г–ґ–µ –≤ XIII —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–Є, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Њ—Б–≤–Њ–Є–ї–Є —Н—В—Г —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—П –Ї–∞–Ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М —Е–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞. –Ъ—А–∞—В–Ї–Њ–µ, –љ–Њ –љ–µ–і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –Ї–∞–Є—А—Б–Ї–∞—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М —Н–Љ–Є—А–∞ –†—Г–Ї–љ–µ–і–і–Є–љ–∞ –С–µ–є–±–∞—А—Б–∞ (–љ–∞—З–∞–ї–∞ XIV –≤.), –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П–Љ–Є –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –≤ –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Ю—А–і–µ. –Т –±–Є—В–≤–µ –љ–∞ –Ъ—Г–Ї–∞–љ–ї—Л–Ї–µ (–Ъ–∞–≥–∞–Љ–ї—Л–Ї–µ) (1299вАУ1300) –Љ–µ–ґ–і—Г —В–∞—В–∞—А–∞–Љ–Є –Э–Њ–≥–∞—П –Є —Е–∞–љ–∞ –Ґ–Њ—Е—В—Л (–Ґ–Њ–Ї—В—Л) —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Є –Э–Њ–≥–∞—П –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –≠–Љ–Є—А –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –≥–Є–±–µ–ї–Є –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї–Њ–≥–Њ –Э–Њ–≥–∞—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Г–±–Є–ї ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Є–Ј –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ґ–Њ–Ї—В—Л¬ї, –Ј–∞ —З—В–Њ –±—Л–ї —Б–∞–Љ –њ—А–µ–і–∞–љ –Ї–∞–Ј–љ–Є. ¬Ђ–І—В–Њ –ґ–µ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є –Э–Њ–≥–∞—П –Є —В–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—Ж–µ–ї–µ–ї–Є –Є–Ј –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є—Е, —В–Њ –Њ–љ–Є —Б–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –љ–Њ—З–Є –Є —В–∞–є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –Љ–∞—Б—Б—Л –≤–Њ–є—Б–Ї –Ґ–Њ–Ї—В—Л, –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–∞—П—Б—М –Є—Е –ї–Њ–Ј—Г–љ–≥–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є –Є—Е –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е. –Ы–Њ–Ј—Г–љ–≥ –ґ–µ –Є—Е, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–µ–≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –±—Л–ї вАЬ–Ш—В–Є–ї—МвАУ –ѓ–Є–ЇвАЭ. –°–њ–∞—Б–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є –≤ —Н—В—Г —Б–∞–Љ—Г—О –љ–Њ—З—М, –љ–Њ—З—М—О –ґ–µ –і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –њ—Г—В—М –Є –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤–Њ—Б–≤–Њ—П—Б–Є¬ї7. –Э–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е, –≤—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Е–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А–∞—В–Є, —В–∞—В–∞—А—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є—В—М –≤–Њ –≤—Б–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±–Њ—П вАУ –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М —Б –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л—Е ¬Ђ–ї–Њ–Ј—Г–љ–≥–Њ–≤¬ї, –Є–ї–Є —П—Б–∞–Ї–Њ–≤.
–Я–µ—А–≤–Њ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —П—Б–∞–Ї–Њ–≤ —Г–ґ–µ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ вАУ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–µ–µ, –≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ вАУ –≤–Њ–є—Б–Ї–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї 1501 –≥. –Я–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—О –њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є, –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–≤ –њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—З–µ–є, —Г—И–ї–Є –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і –љ–∞ –ї–Є–≤–Њ–љ—Ж–µ–≤, –Њ–љ–Є –њ–µ—А–µ–і —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Є–Ј—К—П—Б–∞—З–Є–ї–Є—Б—М¬ї вАУ —В–Њ –µ—Б—В—М, —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –Њ –±–Њ–µ–≤—Л—Е —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞—Е8. –Ш–Ј —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ –љ–µ—П—Б–љ–Њ, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є –ї–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞—В–љ–Є–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є —П—Б–∞–Ї–Є –њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—З–∞–Љ, –Є–ї–Є, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, —Б–Ї—А—Л–ї–Є –Є—Е, вАУ –љ–Њ –≤ –ї—О–±–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –Ї–∞–Ї –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ—Л–є –і–ї—П —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –і–≤—Г—Е —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞—В–µ–є. –≠—В–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ —П—Б–∞–Ї–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —А–∞—В–Є.
–Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ —П—Б–∞–Ї–Њ–≤ –і–ї—П —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞. –°–∞–Љ—Л–є –њ–µ—А–≤—Л–є –Є–Ј –љ–Є—Е вАУ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Ї–ї–Є—З ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞¬ї –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –љ–∞ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і 1471 –≥., –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–µ–µ, –≤ –®–µ–ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ: ¬Ђ–ѓ–Ї–Њ–ґ–µ —Г—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –±–µ–∞—И–µ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–∞—В–Є—Б—П —П—Б–∞–Ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –Ї–љ—П–Ј—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ: вАЬ–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞вАЭ¬ї9. –Т—В–Њ—А–Њ–є —Н–њ–Є–Ј–Њ–і –Њ—В—Б—В–Њ–Є—В –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–µ: –†. –У–µ–є–і–µ–љ—И—В–µ–є–љ, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—П –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Г –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –°—В–µ—Д–∞–љ–∞ –С–∞—В–Њ—А–Є—П —З–µ—А–µ–Ј –Ч–∞–њ–∞–і–љ—Г—О –Ф–≤–Є–љ—Г –≤ 1579 –≥., —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Њ –Ї–Њ–љ–љ—Л—Е ¬Ђ–Ї–∞—А–∞—Г–ї–∞—Е¬ї –Є–ї–Є —А–∞–Ј—К–µ–Ј–і–∞—Е –Є–Ј —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞. –Ю–љ–Є, ¬Ђ–њ–Њ –Њ–±—Л—З–∞—О —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —А–∞–Ј—К–µ–Ј–ґ–∞—П –і–ї—П –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ –љ–∞—И–Є—Е —Б—В—А–∞—Е–∞, –≤—Л–Ї–ї–Є–Ї–∞–ї–Є вАУ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є вАУ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –±—Л–≤—И–Є—Е –њ–Њ–і –≤–ї–∞—Б—В–Є—О –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П, –†—П–Ј–∞–љ—Ж–µ–≤, –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Ж–µ–≤ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ¬ї10. –Э–µ—В—А—Г–і–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —П—Б–∞–Ї–Њ–≤ —Б ¬Ђ–ї–Њ–Ј—Г–љ–≥–Њ–Љ –Ш—В–Є–ї—М вАУ –ѓ–Є–Ї¬ї –Њ—А–і—Л–љ—Ж–µ–≤ —Е–∞–љ–∞ –Ґ–Њ—Е—В—Л: –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞ –±—Л–ї–Є –≤—Л–±—А–∞–љ—Л –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П. –Ш –≤—Л–±–Њ—А —Н—В–Њ—В –љ–µ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ: –і–ї—П —В–∞—В–∞—А –Є –Є—Е —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Ш—В–Є–ї—П (–Т–Њ–ї–≥–Є) –Є –ѓ–Є–Ї–∞ (–£—А–∞–ї–∞) —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ –љ–∞ –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Е–∞–љ–∞ –Ґ–Њ—Е—В—Л –Є –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ—Б—В—М —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Ю—А–і—Л. –Ф–ї—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –љ–∞ –®–µ–ї–Њ–љ–Є –Ї–ї–Є—З ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞!¬ї —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –≤ –Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї; –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б—Л ¬Ђ–†—П–Ј–∞–љ—М¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—М¬ї —Н–њ–Њ—Е–Є –Ы–Є–≤–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ—Б—В—М –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є –µ–≥–Њ –≤–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В–Є—В—Г–ї (¬Ђ—Ж–∞—А—М –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Є–євА¶ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–євА¶¬ї –Є —В. –њ.).
–¶–∞—А–µ–≤ —П—Б–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Ї–ї–Є—З —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVII –≤–µ–Ї–∞. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ, —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –њ–µ—А–≤—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Ж–∞—А–µ–є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б–≤—П–Ј–∞—В—М –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —П—Б–∞–Ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ XVII –≤.: ¬Ђ–¶–∞—А–µ–≤-—Ж–∞—А–µ–≤!¬ї. –Э–∞ –і–∞–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —П—Б–∞–Ї–µ (–Ј–∞ 1655вАУ1668 –≥–≥.), –љ–Њ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –Њ–љ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –Ї–∞–Ї –Њ–±—Л—З–љ—Л–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–ї–Є—З, –њ—А–Є–љ—П—В—Л–є –≤—Б–µ–Љ–Є —А–∞—В–љ—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞. –≠–њ–Є–Ј–Њ–і—Л —Н—В–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1654вАУ1667 –≥–≥. –Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Г. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤–µ–ї–Є—Б—М –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ—Л–µ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ—Л –≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–љ—Л—Е –Њ—В–њ–Є—Б–Њ–Ї, –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Є–і–∞—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ –Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–ї–Є—З–∞—Е –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ —Б—В–∞–ї–Є —З–∞—Й–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞—В—М –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Я–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—О —Н—В–Є —Н–њ–Є–Ј–Њ–і—Л.
1. 17 –∞–њ—А–µ–ї—П 1655 –≥. –≤ –°–µ–≤—Б–Ї–µ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–µ–ї—М—Ж—Л –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ ¬Ђ–≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –Є —Б–∞–ї–і–∞—В—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—О –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞¬ї –Р. –Ь–∞—В–≤–µ–µ–≤–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ—Г—З–Є–љ–Є—В—М –≤—Л–µ–Љ–Ї—Г¬ї –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–љ–∞ —Г –±—А—П–љ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ–є –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є—Е, —З—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–є –і—А–∞–Ї–µ. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Р–љ–і—А–µ—П –Т–Є–љ–Є—Г—Б–∞, ¬Ђ–°–µ–≥–Њ –ґ–µ –і–µ —З–Є—Б–ї–∞ —Г—З–Є–љ–Є–ї—Б—П –њ–Њ–і–ї–µ –µ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –Ї—А–Є–Ї, –Є –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ: вАЬ–¶–∞—А–µ–≤-—Ж–∞—А–µ–≤!вАЭ, –Є –Њ–љ –і–µ, —Г—Б–ї—Л—И–∞–≤ –Ї—А–Є–Ї, –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–≤–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г¬ї11, –Ј–∞—Б—В–∞–≤ —Г–ґ–µ –Ї–Њ–љ–µ—Ж –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞. –Ґ—А—Г–і–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї–∞–Ї–∞—П –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —П—Б–∞–Ї–∞ –Ј–≤–∞–ї–∞ –Ї —Б–µ–±–µ –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М вАУ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –≤—Б–µ –ґ–µ —Б—В—А–µ–ї—М—Ж—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Њ—В–њ–Њ—А –Є –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Љ–µ–љ—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ.
2. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1659 –≥. (–і–Њ 21 —П–љ–≤–∞—А—П) –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–є–і–∞ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –Я–Њ–ї–Њ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—В–∞, –Њ—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Г—О –Љ—П—В–µ–ґ–Њ–Љ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Э–µ—З–∞—П –Є –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —И–ї—П—Е—В—Л, —А–∞–Ј—К–µ–Ј–і —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ–њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е¬ї –њ–Њ–ї–Њ—Ж–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –≤—К–µ—Е–∞–ї –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Г –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –°–Њ–ї–Њ–љ–µ—Ж –њ–Њ–і –≤–Є–і–Њ–Љ –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–≤, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–¶–∞—А–µ–≤-–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤!¬ї. –£—Б–ї—Л—И–∞–≤ —Н—В–Њ—В —П—Б–∞–Ї, –і–≤–Њ–µ —И–ї—П—Е—В–Є—З–µ–є-¬Ђ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –±–µ–ґ–∞—В—М –Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–є–Љ–∞–љ—Л12.
3. –Т –љ–Њ—З—М –љ–∞ 26 –Љ–∞—А—В–∞ 1660 –≥. —А–∞—В–љ—Л–µ –ї—О–і–Є –∞—А–Љ–Є–Є –Ї–љ. –Ш.–Р. –•–Њ–≤–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–є —И—В—Г—А–Љ –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Ы—П—Е–Њ–≤–Є—З–Є. –Я–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ –љ–Њ–≤–Њ–≥—А—Г–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И–ї—П—Е—В–Є—З–∞ –Ь–∞—Б–Ї–µ–≤–Є—З–∞, –Њ–љ–Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї —Б—В–µ–љ–∞–Љ –Є –≤–Ј–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–Є—Е, –≤–Њ–і—А—Г–Ј–Є–≤ –і–∞–ґ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —А–∞—В–љ–Є–Ї–Є –Є ¬Ђ–њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л–µ¬ї —И–ї—П—Е—В–Є—З–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ–Ї—А–Є–Ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–¶–∞—А–µ–≤ –≥–Њ—А–Њ–і!¬ї, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е. –Я–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—О –Ь–∞—Б–Ї–µ–≤–Є—З–∞, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В –Ї–ї–Є—З –њ–Њ–і–љ—П–ї –љ–∞ –љ–Њ–≥–Є –≤—Б–µ—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ы—П—Е–Њ–≤–Є—З–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≥—Г—А—М–±–Њ–є –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б—В–µ–љ—Л –Є —Б—Г–Љ–µ–ї–Є –≤—Л–±–Є—В—М —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –Є–Ј –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є13.
4. –Т –Ы–Є—В–≤–µ, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1665 –≥., —З–µ—А–µ–Ј –њ–∞—А—Г –љ–µ–і–µ–ї—М –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–є–і–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –Њ—В –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞, ¬Ђ–Ј–µ–Љ—П–љ–Є–љ¬ї –Ь—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—В–∞ –Ш.–Ь. –°—Г–і–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є, –°. –Ы—О–і–Њ–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ–Є, –°. –°—Г–і–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —А—П–і –Є–љ—Л—Е. –Я–Њ–і –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–Љ —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Л, –≤ –љ–Њ—З—М –љ–∞ 28 –љ–Њ—П–±—А—П (–љ. —Б—В.), –Њ–љ–Є ¬Ђ–Ј –±—А–Њ–љ–Љ–Є —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є, –і–Њ –±–Њ—О –≤–Њ–є–љ–µ –љ–∞–ї–µ–ґ–∞—З—Г—О —Б—В—А–µ–ї–±–Њ—О –Њ–≥–љ–Є—Б—В–Њ—О, –±–µ—А–і—Л—И–∞–Љ–Є, —А–Њ–≥–∞—В—Л–љ–∞–Љ–Є¬ї –љ–∞–њ–∞–ї–Є –љ–∞ –µ–≥–Њ —Е—Г—В–Њ—А –љ–∞ –Ї—А–Є—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —В—А–∞–Ї—В–µ –Є –Њ–≥—А–∞–±–Є–ї–Є –µ–≥–Њ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–Љ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ–≤—Л—Е –љ–∞–±–µ–≥–Њ–≤ –Њ—В —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е —А–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ–љ–Є ¬Ђ–≥–∞–ї–∞—Б—Л —Г—З–Є–љ–Є–≤—И–Є –Љ–Њ–≤–Њ—О –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ—О вАЬ—А—Г–±–Є, —А—Г–±–Є, —Ж–∞—А–µ–≤, —Ж–∞—А–µ–≤вАЭ. –•–Њ–Ј—П–Є–љ —Б–њ—А–Њ—Б–Њ–љ–Њ–Ї —А–µ—И–Є–ї, ¬Ђ–ґ–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є вАЬ—И—Л—И—ЛвАЭ —З–∞—В–Њ—О –љ–∞–њ–∞–ї–Є¬ї –Є –±–µ–ґ–∞–ї –≤ –ї–µ—Б, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П, –Ї—В–Њ –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Њ—А—П–µ—В14.
5. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –ґ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –Ь—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ—В–µ, –њ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—О —Г—А—П–і–љ–Є–Ї–∞ –Р. –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—А—И–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Њ–≤—З–µ–≥–Њ –ѓ. –Т–µ–ї–Є—З–Ї–∞, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Њ–µ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Є—Е —Е–Њ—А–Њ–љ–µ–≤—Б–Ї—Г—О –Љ–∞–µ—В–љ–Њ—Б—В—М ((–≤ –љ–Њ—З—М –љ–∞ 14 —П–љ–≤–∞—А—П 1666 –≥. (–љ. —Б—В.)). –Т–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є—П –њ–∞–љ –ѓ. –Я–Њ–ґ–∞—А–Є—Ж–Ї–Є–є –њ–Њ—Б–ї–∞–ї –і–ї—П –≥—А–∞–±–µ–ґ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ 60 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї ¬Ђ—Б–ї—Г–≥ –і–≤–Њ—А–љ—Л—Е, –±–Њ—П—А –Є –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л—Е —Б–≤–Њ–Є—Е —Б —А–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ, –і–Њ –±–Њ—О –љ–∞–ї–µ–ґ–∞—З–Є–Љ [вА¶] –њ–Њ–і –њ—А–µ—В–µ–Ї—Б—В–µ–Љ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ¬ї вАУ —В–Њ –µ—Б—В—М, –њ–Њ–і –≤–Є–і–Њ–Љ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї —А–∞–Ј—К–µ–Ј–і–∞. –Ю–±–Є—В–∞—В–µ–ї–Є –Љ–∞–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є—И–ї–Є –≤ —Г–ґ–∞—Б, ¬Ђ–±–Њ —А–Њ–Ј—Г–Љ–µ–ї–Є, –ґ–µ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –ї—О–і –љ–∞–њ–∞–ї, –ґ–µ –≤–Њ–ї–∞–ї–Є вАЬ–¶–∞—А–Њ–≤, —Ж–∞—А–Њ–≤вАЭ¬ї вАУ —В–Њ –µ—Б—В—М, –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —А–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤15.
6. –І–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і, –љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л (8 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1667 –≥.) —Б–ї—Г—З–Є–ї–Є—Б—М –≥—Г–ї—П–љ–Є—П —Г –Ч–∞—З–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –Ї—Г–ї–∞—З–љ—Л–Љ –±–Њ–µ–Љ. –°—В—А–µ–ї—М—Ж—Л, –љ–∞–±–ї—О–і–∞–≤—И–Є–µ –Ј–∞ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ, —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –≤ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –ґ–Є–ї—М—Ж–∞ –°–∞–≤–Є–љ–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ —Б—Л–љ–∞ –С—Г—А–Ї–Њ–≤–∞ –Ј–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ї—Г–ї–∞—З–љ–Њ–Љ –±–Њ—О, —З—В–Њ, —Б—Г–і—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, –і–ї—П —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –і–≤–Њ—А–∞ –±—Л–ї–Њ —Б—В—А–Њ–ґ–∞–є—И–µ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–Њ: ¬Ђ–Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ –Њ—В –њ—А–∞–Ј–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В –Ч–∞—З–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, —З—В–Њ –Ј–∞ –Я—А–µ—З–Є—Б—В–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ—А–Њ—В—Л, —Б –Ї—Г–ї–∞—И–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—О –ґ–Є–ї–µ—Ж –°–∞–≤–Є–љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ —Б—Л–љ –С—Г—А–Ї–Њ–≤ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –±–Є–ї—Б—П –Ї—Г–ї–∞—З–Ї–Є –Є –Ї—А–Є—З–∞–ї —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ: вАЬ–¶–∞—А–µ–≤-—Ж–∞—А–µ–≤! –Ч—Г–±–Њ–≤-–Ч—Г–±–Њ–≤!вАЭ –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є ¬Ђ–њ—А–Є–≤–Њ–і¬ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Г–ґ–µ –≤—В–Њ—А—Л–Љ –љ–∞ —Б—З–µ—В—Г –С—Г—А–Ї–Њ–≤–∞, —Ж–∞—А—М ¬Ђ—Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–Љ—Г —Г—З–Є–љ–Є—В—М –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ—М–µ, –±–Є—В—М –±–∞—В–Њ–≥–Є –Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –њ–Њ –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–љ–µ, –≥–і–µ —Б–ї—Г–ґ–∞—В —А–Њ–і–Є—З–Є –µ–≤–Њ¬ї вАУ –Є–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —А–∞–Ј–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤—Л–µ –і–µ—В–Є –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–љ–µ 16.
7. –Х—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і, 10 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1668 –≥., –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –љ–µ—Г–і–∞—З–љ–Њ–µ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Њ—В—А—П–і–∞ –Ї–љ. –Р.–У. –†–Њ–Љ–Њ–і–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ-—В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є —Б. –У—А–∞–є–≤–Њ—А–Њ–љ –љ–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ. –Ґ–∞—В–∞—А—Л –љ–∞–њ–∞–ї–Є –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є –≤—Л—Е–Њ–і–µ –Є–Ј —Б–µ–ї–∞, –љ–∞ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–µ, –≤–Ј—П–ї–Є –≤ –њ–ї–µ–љ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і—Г —Б –µ–≥–Њ —Б–≤–Є—В–Њ–є –Є —Г–і–∞—А–Є–ї–Є –љ–∞ —А–µ–є—В–∞—А, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –і–∞–љ–љ—Л–є –Њ—В—А—П–і. –Я–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Г –њ—А–Њ—В–Њ–њ–Њ–њ–∞ –°–Є–Љ–µ–Њ–љ–∞, —Б–њ–∞—Б–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–є—В–∞—А–∞–Љ–Є, –Њ–љ–Є –њ–Њ–±—А–Њ—Б–∞–ї–Є –ї–Њ—И–∞–і–µ–є –Є –њ–µ—И–Є–Љ–Є —Б–±–µ–ґ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –±–Њ–ї–Њ—В–Њ –Ј–∞ —Б–µ–ї–Њ–Љ, –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–≤ –Њ–±—Л—З–љ—Г—О —Б—В–µ–њ–љ—Г—О —В–∞–Ї—В–Є–Ї—Г —Г—Е–Њ–і–∞ –Њ—В –њ–Њ–≥–Њ–љ–Є. –Ґ–∞–Љ –Њ–±–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞ вАУ –°. –Ч—Г–±–Њ–≤–∞ –Є –§. –Ч—Л–Ї–Њ–≤–∞ вАУ –і–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Є –∞—В–∞–Ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –∞ –љ–Њ—З—М—О –і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –±–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј –ї–µ—Б –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –ї–∞–≥–µ—А—П –∞—А–Љ–Є–Є –±–Њ—П—А–Є–љ–∞ –Ї–љ. –Р.–У. –†–Њ–Љ–Њ–і–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –њ—А–Њ—В–Њ–њ–Њ–њ–∞, ¬Ђ–Ш –і–Њ–ґ–і–∞–≤—Б—П –љ–Њ—З–Є, –њ–Њ—И–ї–Є –±–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ—О —А—Г–Ї–Њ—О. –Р —В–∞—В–∞—А—Л —Б –Њ–±–Њ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Є–і—Г—З–Є, –Ї—А–Є—З–∞—В: вАЬ–У–∞–ї–ї–∞! –У–∞–ї–ї–∞!вАЭ, –∞ –љ–∞—И–Є —Б–µ–±–µ –Ї—А–Є—З–∞—В: вАЬ–¶–∞—А–µ–≤! –¶–∞—А–µ–≤!вАЭ17¬ї, –Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤ –і–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ –Њ–±–Њ–Ј–∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Б–Є–ї 18.
–Ю–±–Њ–±—Й–Є–≤ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і—Л, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —А—П–і –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л—Е –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤ –Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–є. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ, —З—В–Њ —П—Б–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –і–≤–∞–ґ–і—Л (¬Ђ—Ж–∞—А–µ–≤-—Ж–∞—А–µ–≤¬ї). –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–≤–∞—А–Є–∞—Ж–Є–є –љ–∞ —В–µ–Љ—Г¬ї —Н—В–Њ–≥–Њ —П—Б–∞–Ї–∞: ¬Ђ—Ж–∞—А–µ–≤-–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤¬ї, ¬Ђ—Ж–∞—А–µ–≤ –≥–Њ—А–Њ–і¬ї. –Ф–∞–љ–љ—Л–Љ —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —А–∞—В–љ–Є–Ї–Є, –љ–Њ –Є –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є –Є —И–ї—П—Е—В–Є—З–Є, –њ—А–Є—Б—П–≥–љ—Г–≤—И–Є–µ —Ж–∞—А—О, –Є –і–∞–ґ–µ —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є –°–µ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є (–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–Є –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≥—А–∞–±–Є–ї–Є –Ь—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є —Г–µ–Ј–і –≤ 1665вАУ1666 –≥–≥.). –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –µ–≥–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Ї—А–Є—З–∞—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ—Л–Љ —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є: ¬Ђ–¶–∞—А–µ–≤-—Ж–∞—А–µ–≤, –Ч—Г–±–Њ–≤-–Ч—Г–±–Њ–≤¬ї (¬Ђ–Ч—Г–±–Њ–≤-–Ч—Г–±–Њ–≤¬ї вАУ –≤ 1667 –≥. –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Ї–ї–Є—З –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –Ш–≤–∞–љ–∞ –Ч—Г–±–Њ–≤–∞). –Э—Г –Є –µ—Й–µ —А–∞–Ј –Њ—В–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Ј–љ–∞–µ—В –Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Ї–ї–Є—З, –∞ –њ–Њ—А–Њ–є –і–∞–ґ–µ –Є–Љ–Є—В–Є—А—Г–µ—В –µ–≥–Њ (¬Ђ—Ж–∞—А–Њ–≤-—Ж–∞—А–Њ–≤¬ї).
–ѓ—Б–∞–Ї–Є –°–Љ—Г—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –®–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —П—Б–∞–Ї–∞ ¬Ђ–¶–∞—А–µ–≤-—Ж–∞—А–µ–≤¬ї –≤ 1655вАУ1668 –≥–≥. –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ –ґ–µ –±—Л–ї –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –Ї–ї–Є—З–µ–Љ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XVI –≤. –Т —Б–≤–µ—В–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —А–∞—В–љ–Є–Ї–Є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –°–Љ—Г—В—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Л–±–Є—А–∞—В—М –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П, –∞ —В–Њ –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —З–Є—Б–ї–Њ–Љ ¬Ђ–Є—Б—В–Є–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–є¬ї.
–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ —Г–ґ–µ –≤ –±–Є—В–≤–µ –њ—А–Є –Ф–Њ–±—А—Л–љ–Є—З–∞—Е, –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1605 –≥., —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Є —Ж–∞—А—П –С–Њ—А–Є—Б–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–ї–Є –Ї—А–Є—З–∞—В—М –љ–µ ¬Ђ–¶–∞—А–µ–≤—Ж–∞—А–µ–≤¬ї, –∞ ¬Ђ–њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ¬ї —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ вАУ ¬ЂHilf Gott!¬ї19. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і –Ъ—А–Њ–Љ–∞–Љ–Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л–µ –ї—О–і–Є –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –Љ—П—В–µ–ґ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Ж–∞—А—П –§–µ–і–Њ—А–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞ (7 –Љ–∞—П 1605 –≥.), –Њ–љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є—Ж–∞—В—М ¬Ђ–Ф–∞ –Ј–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–µ—В —Ж–∞—А—М –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є!¬ї. –Ь–µ—В–∞—П—Б—М –њ–Њ –ї–∞–≥–µ—А—О, –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Й–Є–Ї–Є —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М —Б –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–∞–Љ–Є ¬Ђ–Ф–∞ —Е—А–∞–љ–Є—В –С–Њ–≥ –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П!¬ї, –∞ –Є—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Є: ¬Ђ–Ф–∞ —Е—А–∞–љ–Є—В –С–Њ–≥ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –§–µ–і–Њ—А–∞ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З–∞!¬ї, –Є–ї–Є –ґ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ: ¬Ђ–§–µ–і–Њ—А!¬ї –Є ¬Ђ–Ф–Љ–Є—В—А–Є–є!¬ї20. –Ш–Љ—П –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ ¬Ђ–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ¬ї, –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –Ї–ї–Є—З–µ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ.
–Т —Н—В–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ —П—Б–∞–Ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–µ–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е, —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –≤ —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є, –Ї–∞–Ї –Ы–ґ–µ–і–Љ–Є—В—А–Є–є I –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –±–Є—В–≤—Л –њ—А–Є –Ф–Њ–±—А—Л–љ–Є—З–∞—Е (1605) –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ ¬Ђ–Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—В—П–љ¬ї –љ–∞–і–µ—В—М –њ–Њ–≤–µ—А—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ –±–µ–ї—Л–µ —А—Г–±–∞—Е–Є, –і–ї—П –Њ—В–ї–Є—З–Є—П –Њ—В –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞21. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –≤–Њ–є—Б–Ї —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Љ—Л —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ–Љ вАУ –≤–Є–і–љ–Њ, —П—Б–∞–Ї –≤—Б–µ –ґ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л–Љ –і–ї—П –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ—Б–≤–Њ–є-—З—Г–ґ–Њ–є¬ї.
–ѓ—Б–∞–Ї —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –°–µ—А–≥–Є—П (–°–µ—А–≥–Є–µ–≤ —П—Б–∞–Ї). –Ю—Б–Њ–±—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Н—В–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ —А–µ—И–µ–љ–∞ –њ—А–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П (1608вАУ1610). –У–Њ—В–Њ–≤—П—Б—М –Ї —А–µ—И–∞—О—Й–µ–є –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–µ –љ–∞ –ї–∞–≥–µ—А—М ¬Ђ—В—Г—И–Є–љ—Ж–µ–≤¬ї, –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤–Ј—П—В—М –Ј–∞ —П—Б–∞–Ї ¬Ђ–°–µ—А–≥–Є–µ–≤–Њ –Є–Љ—П¬ї вАУ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П –њ–Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї —Б–≤—П—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—О –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П (–љ–Њ—П–±—А—М 1608 –≥.)22. –Т—Л–ї–∞–Ј–Ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–є, –Є —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–∞—А–Њ–ї—М –і–ї—П –љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—П –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї –±–Њ—А—М–±—Л —Б–Њ –ї–ґ–µ-—Ж–∞—А—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –њ—А–Є—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї–Є –Ї –∞–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л –і–∞–ґ–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ –њ—Г—В–љ–Є–Ї–Є, –љ–∞–Ј–≤–∞–≤—И–Є–µ —Б–µ–±—П ¬Ђ–°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Л–Љ–Є¬ї, –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ—Л–Љ–Є —И–∞–є–Ї–∞–Љ–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–±—А–∞–љ–љ–Њ23. –Р –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –і–µ–љ—М —А–µ—И–∞—О—Й–µ–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤—Л —Б –≥–µ—В–Љ–∞–љ–Њ–Љ –•–Њ–і–Ї–µ–≤–Є—З–µ–Љ (1612) –Ї–ї–Є—З ¬Ђ–°–µ—А–≥–Є–µ–≤-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤!¬ї —Б—В–∞–ї —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–Љ –і–ї—П –Њ–±—Й–µ–є –∞—В–∞–Ї–Є –≤–Њ–є—Б–Ї –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Є –Т—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є–є вАУ –Є –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—В–µ–љ, –Є –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є—Е —Б—В–∞–љ–Є—Ж вАУ –±—Л–≤—И–Є—Е ¬Ђ—В—Г—И–Є–љ—Ж–µ–≤¬ї, –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—Б–∞–ґ–і–∞–≤—И–Є—Е –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Г24.
–Э–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ—Л–є —П—Б–∞–Ї вАУ –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–ї–Є—З–µ–є вАУ –њ–Њ–њ–∞–ї –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е –Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л—Е —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є –Њ –°–Љ—Г—В–љ–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ю–љ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Є –≤ ¬Ђ–Э–Њ–≤–Њ–Љ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ¬ї, –Є –≤ ¬Ђ–°–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–Є¬ї –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П –Я–∞–ї–Є—Ж—Л–љ–∞, –Є –≤ ¬Ђ–І—Г–і–µ—Б–∞—Е –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П¬ї —В—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞ –°–Є–Љ–Њ–љ–∞ (–Р–Ј–∞—А—М–Є–љ–∞). –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–Њ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ —В–Є—А–∞–ґ–Њ–Љ –≤ 1647 –≥. –Т –Є—В–Њ–≥–µ, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б –°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Л–Љ —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ –Љ—Л –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ–Љ —Г–ґ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є–є–љ—Л–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ–±—А–µ—Б—В–Є –≤—В–Њ—А–Њ–µ –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ, –≤–Њ–Ј—А–Њ–і–Є—В—М—Б—П –њ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Г —Ж–∞—А—П-–Ї–љ–Є–ґ–љ–Є–Ї–∞ (–≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞).
–Т —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1658 –≥. –Ґ–Є—И–∞–є—И–Є–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Г–і—А—Г—З–∞—О—Й–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Њ–± –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ј–∞—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –Э–µ—З–∞—П –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–њ—А–Є—Б—П–ґ–љ–Њ–є¬ї —И–ї—П—Е—В—Л –≤ –Ы–Є—В–≤–µ. –Я–µ—А–≤—Л–є –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б –њ–Њ–≤—Б—В–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є —Б ¬Ђ–ї–µ–≥–Ї–Є–Љ¬ї –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ, –Ї–љ. –У.–Р. –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Њ—В–±—Л–≤–∞–ї –≤ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є—О –≤ –і–љ–Є –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ–Љ–Њ–ї—М—П –≤ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Ї–Њ –і–љ—О –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ (25 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П).
–°—Г–і—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, –≤ —Б–∞–Љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Њ—В–њ—А–∞–≤–Ї–Є –љ–∞ —Н—В—Г —Б–ї—Г–ґ–±—Г —Ж–∞—А—М –≤–µ–ї–µ–ї –Ї–љ—П–Ј—О –≤–Ј—П—В—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —П—Б–∞–Ї–∞ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–є –Ї–ї–Є—З ¬Ђ–°–µ—А–≥–Є–µ–≤-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤¬ї; —З—Г—В—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є¬ї –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞ –Ї–љ. –Ш.–Ш. –Ы–Њ–±–∞–љ–Њ–≤-–†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —В–∞–Ї–Њ–µ –ґ–µ –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Ш –њ–µ—А–≤—Л–µ –ґ–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –±–µ–Ј —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –Њ—В–љ–µ—Б –°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Г –Ј–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О: ¬Ђ–Р –Э–µ—З–∞—П... –°–µ—А–≥–Є–є –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–µ—Ж –і–≤–∞–ґ–і—Л –њ–Њ–±–Є–ї¬ї, вАУ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Њ–љ –Ї–љ. –Ѓ.–Р. –Ф–Њ–ї–≥–Њ—А—Г–Ї–Њ–≤—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ 30 —П–љ–≤–∞—А—П 1659 –≥. –≤–љ–Њ–≤—М ¬Ђ—Е–Њ–і–Є–ї –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –≤ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ –≤ –°–µ—А–≥–Є–µ–≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М¬ї 25.
–° —Н—В–Є—Е –њ–Њ—А –°–µ—А–≥–Є–µ–≤ —П—Б–∞–Ї, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ —А—П–і –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–ї–Є—З–µ–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —А–∞–Ј (–њ–Њ—Б–ї–µ 1659 –≥.) –Њ –љ–µ–Љ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Я. –У–Њ—А–і–Њ–љ –Ї–∞–Ї –Њ–± –Њ–±—Л—З–љ–Њ–Љ –њ–∞—А–Њ–ї–µ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–µ–ї—М—Ж–Њ–≤ –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –І–Є–≥–Є—А–Є–љ, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –µ–µ —Н–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л 1678 –≥.: ¬Ђ–£–Ї–∞–Ј–∞–≤ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ–Њ—Б—В—Л, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Є–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –Ј–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В, –Є –і–∞–≤ –Њ–±—Л—З–љ—Л–є –њ–∞—А–Њ–ї—М вАЬ–°–µ—А–≥–Є–євАЭ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ, –њ–Њ –±–Њ—О –±–∞—А–∞–±–∞–љ–Њ–≤ —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ —П –њ–Њ–і–∞–ї —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Є–і—В–Є –≤–њ–µ—А–µ–і¬ї26. –Т –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–µ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞ (–љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–∞–љ–≥–ї.) –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ ¬ЂSerge¬ї, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М —П—Б–∞–Ї –Є –≤ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –њ—А–Є—В—П–ґ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–ї–∞–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ (—З–µ–є? вАУ –°–µ—А–≥–Є–µ–≤). –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –°–µ–і–Њ–≤–∞, –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Њ–ї—П –≤ –І–Є–≥–Є—А–Є–љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–Љ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј —Б—В—А–µ–ї—М—Ж–Њ–≤ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–є –Њ—Б–∞–і—Л –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є (1677). –Э–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—В—М –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ-—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –°–µ—А–≥–Є–µ–≤ —П—Б–∞–Ї, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ–Љ—Л–є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ–∞—А–Њ–ї—П, –Є –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Б—В—А–µ–ї—М—Ж–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–≤—П—В–Њ–Љ—Г.
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є—З–∞ —Б—В–∞–ї–Њ —Б—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Њ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ 1698 –≥. –Ш–Ј —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј —Б—В—А–µ–ї—М—Ж–Њ–≤ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –Ї—А–Є—З–∞—В—М –°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Л–Љ —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞—Б—Ж–µ–љ–µ–љ–Њ –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ27.
–Я—А–Є –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Є, —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ –°–µ—А–≥–Є–µ–≤–∞ —П—Б–∞–Ї–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –ї–Њ–≥–Є–Ї—Г —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–ї–Є—З–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є: –Њ—В —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В–ї–Є—З–Є—П ¬Ђ—Б–≤–Њ–Є—Е¬ї –≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –Ї –Њ–≤–µ—П–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–ї–∞–≤–Њ–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –≤–Њ–Њ–і—Г—И–µ–≤–Є—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —А–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–µ –Є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є.
–ѓ—Б–∞–Ї–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —П—Б–∞–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–¶–∞—А–µ–≤¬ї –Є ¬Ђ–°–µ—А–≥–Є–µ–≤¬ї, —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ XVII –≤. –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–µ –Ї–ї–Є—З–Є. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —П—Б–∞–Ї–Є –Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–∞—П —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е —П—Б–∞–Ї–Њ–≤ вАУ –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М —П—Б–∞–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤ (—Б 1680 –≥. вАУ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤). –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Ж–∞—А–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–Љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1660-—Е –≥–≥. –Є –і–Њ—И–ї–∞ –і–Њ –љ–∞—Б –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б–њ–Є—Б–Ї–∞—Е: —Б—А–µ–і–Є –±—Г–Љ–∞–≥ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Ґ–∞–є–љ—Л—Е –і–µ–ї28 –Є –≤ –Ј–∞–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–µ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ —Г —А–∞–Ј–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ: –µ—Б–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ –Ї–ї–Є—З –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–Є—Е –њ—В–Є—Ж —Ж–∞—А—П, –ї—О–±–Є—В–µ–ї—П —Б–Њ–Ї–Њ–ї–Є–љ–Њ–є –Њ—Е–Њ—В—Л (¬Ђ–Ь—Г—А–∞—В-–Ь—Г—А–∞—В¬ї, ¬Ђ–С–Є—А—О–Ї-–С–Є—А—О–Ї¬ї, ¬Ђ–Я–Њ–ї–µ—В–∞–є-–Я–Њ–ї–µ—В–∞–є¬ї –Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ ¬Ђ—Б–Њ–Ї–Њ–ї-—Б–Њ–Ї–Њ–ї¬ї), —В–Њ –і—А—Г–≥–Є–µ вАУ –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л (¬Ђ–Ч—Г–±–Њ–≤-–Ч—Г–±–Њ–≤¬ї, ¬Ђ–Ъ–Њ–њ—В–µ–≤-–Ъ–Њ–њ—В–µ–≤¬ї).
–Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —П—Б–∞–Ї–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –Њ—В–ї–Є—З–Є—П –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–µ–ї—М—Ж–Њ–≤, –љ–∞—А—П–і—Г —Б —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —А–∞–Ј –Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Ж–≤–µ—В–Њ–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –Ї–∞—Д—В–∞–љ–Њ–≤. –§–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є—П —П—Б–∞–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ –Є –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–ї–Є—З–µ–є –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –±—Л–ї–Є, –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –≤—Л–Ј–≤–∞–љ—Л —Г–ґ–µ –љ–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О, –∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –Ї–∞—А–∞—Г–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Ј–∞–і–∞—З–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М —Б—В—А–µ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Я–Њ –Є–і–µ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П ¬Ђ–љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞¬ї XVII –≤. –†. –Я–∞–ї–∞—Б–Є–Њ—Б-–§–µ—А–љ–∞–љ–і–µ—Б–∞, –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ–Љ —Б—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–∞—А–∞—Г–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л вАУ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ —Ж–≤–µ—В–∞ –Ї–∞—Д—В–∞–љ–Њ–≤ –Є –ї–Є—Ж –Ї–∞—А–∞—Г–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –µ—Б—В—М —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л—Е, —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —П—Б–∞–Ї–Њ–≤ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–µ вАУ –њ–Њ–ї–Ї—Г –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А—П–і–∞ (–Ї–љ. –Ш.–Р. –•–Њ–≤–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ –Ї–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—В–µ–љ –Є —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ —А—П–і–∞ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П¬ї (–≥—Г—Б–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —А–µ–є—В–∞—А—Б–Ї–Є—Е, —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е). –Ы–µ—В–Њ–Љ 1664 –≥. –≥–Њ—А—Б—В—М –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е —Б—В—А–µ–ї—М—Ж–Њ–≤ —Б–Њ—А–≤–∞–ї–∞ –љ–Њ—З–љ–Њ–є —И—В—Г—А–Љ –ї–Є—В–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Э–µ–≤–ї—М, –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–≤ —Г –љ–Є—Е –≤ —В—Л–ї—Г ¬Ђ—А–Њ–Ј–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ —П—Б–∞–Ї–∞–Љ–Є¬ї –∞—А–Љ–Є–Є –Ї–љ—П–Ј—П –Ш.–Р. –•–Њ–≤–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ29. –Ы–Є—В–Њ–≤—Ж—Л –±—Л–ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—А–Њ—Б–Є—В—М ¬Ђ–њ—А–Є–Љ–µ—В¬ї вАУ –ї–Њ–і–Ї–Є —Б –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–Љ –і–ї—П –∞—В–∞–Ї–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞, –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Њ–±–Њ–Ј—Г –Є –Ј–∞–љ—П—В—М –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г. –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П —П—Б–∞–Ї, —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—Б—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї—Г, –Љ–Њ–≥ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –≤ –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ–± –∞—В–∞–Ї–µ —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ –µ–Љ—Г –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є —Б—В–∞—В—М –і–∞–ґ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –≤—А–∞–≥–∞.
–Я—А–∞–≤–Њ–≤—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П —П—Б–∞–Ї–Њ–≤. –Ф–Њ–ї–≥–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —П—Б–∞–Ї–Њ–≤, –Є—Е –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П —А–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Њ—Б–Њ–±—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –Є—Е –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Ј–∞ –Є—Е –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ. –Ю–і–Є–љ –Є –њ–µ—А–≤—Л—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ 1654 –≥. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ–і –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї –°—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, 9 –Є—О–љ—П, –Ї –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–µ –±–Њ—П—А–Є–љ—Г –Ї–љ. –Ь.–Ь. –Ґ–µ–Љ–Ї–Є–љ—Г-–†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –і–≤–∞ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї—М—Ж–∞ вАУ —Е–Њ–ї–Њ–њ—Л —А–µ–є—В–∞—А –Ш. –Я–Њ—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ф. –£–≤–∞—А–Њ–≤–∞. –Ш—Е –≤–Є–љ–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –ї–Њ–ґ–љ—Л–є –≤—Б–њ–Њ–ї–Њ—Е вАУ ¬Ђ–Ї—А–Є—З–∞–ї–Є —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤—Г –Ї–∞–Ј–љ—Г –≥—А–∞–±—П—В¬ї. –С—Л–ї –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ —Д–Є–≥—Г—А–∞–љ—В —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ вАУ —Е–Њ–ї–Њ–њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ —А–µ–є—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П –Т. –Ъ—А–µ—З–µ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–∞ –Х–≤–ї–∞–Љ–њ–Є–µ–≤ (¬Ђ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П—Б–∞–Ї–∞–Љ –Ї—А–Є—З–∞–ї¬ї), –љ–Њ —В–Њ—В —Б—Г–Љ–µ–ї –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В—М—Б—П: ¬Ђ–ѓ—Б–∞–Ї–Њ–Љ –і–µ –Њ–љ –љ–µ –Ї—А–Є—З–Є–≤–∞–ї, –∞ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –і–µ, —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –і–µ—В–Є–љ–∞, —З—В–Њ –Ї–∞–Ј–љ—Г –≥—А–∞–±—П—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤—Г. –Ш –Њ–љ –і–µ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –њ–Њ–Є–Љ–∞–≤, –њ–Њ–≤–µ–ї –Ї –±–Њ—П—А–Є–љ—Г –Є –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–µ –Ї–Њ –Ї–љ—П–Ј—О –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З—О –Ґ–µ–Љ–Ї–Є–љ—Г –†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –Є —В–Њ–≥–Њ –і–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ –∞—В–љ–µ–ї–Є —Б—В—А–µ–ї—Ж—Л¬ї. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –±–Њ—П—А–Є–љ –≤—Л–љ–µ—Б –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б—Г—А–Њ–≤—Л–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А: ¬Ђ–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –Я–Њ—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ—М–µ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Ї–ї–Є–Ї–∞–ї —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ, –±—Л–ї–Њ 40 —Г–і–∞—А–Њ–≤, –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –£–ї—М—П–љ–Є–љ–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ—М–µ –љ–∞ –Ї–Њ–Ј–ї–µ, –±–Є—В –Ї–љ—Г—В–Њ–Љ, –±—Л–ї–Њ 35 —Г–і–∞—А–Њ–≤¬ї30. –Ш–Ј —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —З—В–Њ –Ї—А–Є–Ї –Њ –≥—А–∞–±–µ–ґ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л (–≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –њ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л –°—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞) —П–≤–ї—П–ї—Б—П ¬Ђ—П—Б–∞–Ї–Њ–Љ¬ї вАУ –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є –љ–µ–Ї–Є–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є. –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, —Б–∞–Љ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Ј–≤—Г—З–∞–ї –Ї–∞–Ї ¬Ђ–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ—М–µ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Ї–ї–Є–Ї–∞–ї —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ¬ї, —В. –µ., –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ј–∞ –ї–Њ–ґ–љ—Г—О —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П—Б–∞—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ї–∞ –љ–µ –Ї –Љ–µ—Б—В—Г, —Б–Њ –Ј–ї—Л–Љ —Г–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ.
–Т —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Є –Њ —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–Љ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–Є –ґ–Є–ї—М—Ж–∞ –°–∞–≤–Є–љ–∞ –С—Г—А–Ї–Њ–≤–∞, –Ї—А–Є—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Є–Љ —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ –Ч—Г–±–Њ–≤–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –љ–∞ –Ї—Г–ї–∞—З–љ–Њ–Љ –±–Њ—О —Г –Ч–∞—З–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П (–≤ 1667 –≥.). –•–Њ—В—П —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ –Ј–∞ –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Ї—Г–ї–∞—З–љ–Њ–Љ –±–Њ—О, –Є–Ј –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–µ –≤ –°—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Є–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М, —З—В–Њ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Љ —П—Б–∞–Ї–∞ –љ–∞ –Ї—Г–ї–∞—З–љ–Њ–Љ –±–Њ—О –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Њ, –≤ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є —Б—В—А–µ–ї—М—Ж–Њ–≤ –Є —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –Њ—В—П–≥—З–∞—О—Й–Є–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ.
–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –Ї—А–Є—З–∞—В—М –°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Л–Љ —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—П—В–µ–ґ–∞ 1698 –≥. —П–≤–љ–Њ —А–∞—Б—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є –Ї–∞–Ї —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –і–µ–ї –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ —П—Б–∞—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ї–∞ –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е: –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ, –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л—Е –≥—Г–ї—П–љ–Є—П—Е –Є–ї–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є вАУ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ –њ—А–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–ї–µ–Ї –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ.
–Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ. –†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–і–µ—Б—М —Н–њ–Є–Ј–Њ–і—Л —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П —П—Б–∞–Ї–Њ–≤, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –±—Г–і—Г—В –Є –і–∞–ї—М—И–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—В—М—Б—П –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Є –љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л–≤–Њ–і—Л. –Т —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ —П—Б–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї вАУ —Н—В–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ, —З–µ–Љ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Ї–ї–Є—З. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —В–Њ–≥–Њ, —В–µ—А–Љ–Є–љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ (¬Ђ—П—Б–∞—З–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Љ—П¬ї) –Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤, –њ–Њ–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –Є –і–∞–ґ–µ –Њ—А—Г–і–Є—П–Љ–Є31. –Я–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –Є –Љ–∞–љ–µ—А–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П —П—Б–∞–Ї (–Ї–∞–Ї —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–є –Ї–ї–Є—З) –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ –Є–Ј —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Њ—А–і—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ —Б –љ–Є–Љ –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ 1300 –≥. –Я–µ—А–≤—Л–µ —П—Б–∞–Ї–Є –≤—Л–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–љ—П—В–Є–є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–µ–є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Ъ –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г –°–Љ—Г—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–±—Й–µ–≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–ї–Є—З–µ–Љ —Б—В–∞–ї ¬Ђ–¶–∞—А–µ–≤-—Ж–∞—А–µ–≤!¬ї, –Є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —П—Б–∞–Ї–Є —Б—В–∞–ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –њ–Њ –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г: –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М –і–≤–Њ–є–љ–Њ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є, –Ї–∞–Ї –Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б –°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Л–Љ —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ, –Ї–ї–Є—З –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: ¬Ђ–Ґ—Л —З–µ–є?¬ї (—В. –µ. –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –њ—А–Є—В—П–ґ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–ї–∞–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ). –Т –°–Љ—Г—В–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –љ–Њ–≤—Л—Е –Њ–±—Й–µ–≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —П—Б–∞–Ї–Њ–≤ вАУ —Б —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є —Ж–∞—А—П (¬Ђ–Ф–Љ–Є—В—А–Є–є!¬ї, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ш. –Ь–∞—Б—Б–µ), –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П вАУ ¬Ђ–°–µ—А–≥–Є–µ–≤!¬ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Ж–µ–ї—Л–є —Б–њ–µ–Ї—В—А –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е —П—Б–∞–Ї–Њ–≤ –Є —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —П—Б–∞–Ї–∞–Љ–Є. –Т–њ–Њ–ї–љ–µ –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ, —З—В–Њ –Ј–∞ –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ —Н—В–Є–Љ–Є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–ї–Є—З–∞–Љ–Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї –Є –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –ґ–µ –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ, —З—В–Њ —П—Б–∞—З–љ—Л–µ –Ї–ї–Є—З–Є вАУ —Н—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Ш–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–є —В–µ–Љ—Л —А–∞—Б—И–Є—А—П–µ—В –љ–∞—И–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї –Њ —А–∞—В–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, —В–∞–Ї –Є –Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є вАУ –Њ—В —Ж–∞—А–µ–є –Є –±–Њ—П—А –і–Њ —А—П–і–Њ–≤—Л—Е —Б—В—А–µ–ї—М—Ж–Њ–≤ –Є–ї–Є –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї—М—Ж–µ–≤.
1 –Ъ—Г—А–±–∞—В–Њ–≤ –Ю. –Р. –†–∞—В–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –њ—А–Є —Ж–∞—А–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–µ –≤ —Б–≤–µ—В–µ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є // –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є / –Ю—В–≤. —А–µ–і. –Т. –Ь. –Ы–∞–≤—А–Њ–≤. –Ь., 2009. –°–±. 8. –°. 22вАУ 38; –Ф–љ–µ–≤–љ–Є–Ї 1677вАУ1678 / –Я–∞—В—А–Є–Ї –У–Њ—А–і–Њ–љ; –њ–µ—А., —Б—В., –њ—А–Є–Љ–µ—З. –Ф. –У. –§–µ–і–Њ—Б–Њ–≤–∞; –Њ—В–≤. —А–µ–і. –Ь. –†. –†—Л–ґ–µ–љ–Ї–Њ–≤. –Ь., 2005 (–њ—А–Є–Љ. вДЦ 216).
2 –§–∞—Б–Љ–µ—А –Ь. –≠—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞: –≤ 4 —В. –Ш–Ј–і. 2-–µ. –Ь., 1987. –Ґ. 4 (–Ґ вАУ –ѓ—Й—Г—А). –°. 564.
3 ¬Ђ–Ш –µ—Й–µ –Ї —В–Њ–Љ—Г —В–Њ–≥–і–∞ –Є–љ—Г—О —Е–Є—В—А–Њ—Б—В—М –Є–Ј–Њ–Њ–±—А–µ—В–µ —Ж–∞—А—М –Ї–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–∞—Б [вА¶] –Ш–±–Њ —Г–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ–љ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є, —Б —В–µ–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ, –Є—Е –ґ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤–љ–µ –≥—А–∞–і–∞ –љ–∞ –ї–µ—Б–µ—Е, –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б –љ–Є–Љ–Є —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є–µ, –∞ –њ–Њ –Є—Е—К —П–Ј—Л–Ї—Г [—П—Б–∞–Ї]: –µ–≥–і–∞ –Є–Ј–љ–µ—Б—Г—В –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –≤–µ–ґ—Г –∞–±–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –≥—А–∞–і –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–µ –Љ–µ—Б—Ж–µ —Е–Њ—А—Г–≥–Њ–≤ –Є—Е –Ј–µ–ї–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї—Г—О –±—Г—Б–∞—А–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Є –љ–∞—З–љ—Г—В –µ—О –Љ–∞—Е–∞—В–Є, —В–Њ–≥–і–∞, –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—О, [–њ–Њ–љ–µ–ґ–µ –і–∞–ї–Њ—Б—П –љ–∞–Љ –Ј–љ–∞—В–Є] —Г–і–∞—А—П—В —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В—А–∞–љ —Б –ї–µ—Б–Њ–≤ –Ј–µ–ї–Њ –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ –Є –њ—А—Г—В–Ї–Њ –≤–Њ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—О –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –±—Г—Б—Г—А–Љ–∞–љ—Л –љ–∞ –њ–Њ–ї–Ї–Є —Е—А–Є—Б—В–Є—П–љ—Б–Ї–Є–µ. –Р –Њ—В –≥—А–∞–і–∞ –≤–Њ –≤—Б–µ –≤—А–∞—В–∞ –≤—Л—В–µ–Ї–∞–ї–Є –≤ —В–Њ—В –ґ–µ —З–∞—Б –љ–∞ –љ–∞—И–Є —И–∞–љ—Ж—Л –Є —В–∞–Ї –Ј–µ–ї–Њ –ґ–µ—Б—В–Њ—Ж–µ –Є —Е—А–∞–±—А–µ –љ–∞—Б–Ї–∞–Ї–∞–ї–Є, —П–Ї–Њ –Є –≤–µ—А–µ –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ¬ї (–Р–љ–і—А–µ–є –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Є–є. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Њ –і–µ–ї–∞—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ / –Ш–Ј–і. –њ–Њ–і–≥–Њ—В. –Ъ.–Ѓ. –Х—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ—Б–Ї–Є–є. –Я–µ—А. –Р.–Р. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞. –Ю—В–≤. —А–µ–і. –Ѓ.–Ф. –†—Л–Ї–Њ–≤. –Ь., 2015. –°. 30).
4 –§–ї–µ—В—З–µ—А, –Ф–ґ. –Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –Њ–±—А–∞–Ј –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П (–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А–µ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ). –°–Я–±., 1906. –°. 68, 69.
5 –Р–Ї—В—Л –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –°–Я–±., 1894. –Ґ. 2 (1635вАУ1659). –°. 422, 423.
6 ¬Ђ–Ш –љ–∞–і –≤—Б—П–Ї–Њ—О —Б–Њ—В–љ–µ—О —Г—З–Є–љ–µ–љ—Л –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л —Б–Њ—В–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј —Б—В–Њ–ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є–Ј –і–≤–Њ—А—П–љ, –∞ —Г –љ–Є—Е –њ–Њ—А—Г—В—З–Є–Ї–Є –Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ—И–Є–Ї–Є –Є—Б —В–µ—Е –ґ–µ —З–Є–љ–Њ–≤, –Љ–µ–љ—И–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –ї—О–і–Є. –Р —Е–Њ—А—Г–≥–≤–Є —Г –љ–Є—Е –±–Њ–ї—И–Є–µ, –Ї–∞–Љ—З–∞—В—Л–µ –Є —В–∞—Д—В—П–љ—Л–µ, –љ–µ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л –Ї–∞–Ї —А–µ–є—В–∞—А—Б–Ї–Є–µ; —В—А—Г–±–∞—З–µ–Є –Є –ї–Є—В–∞–≤—А—Й–Є–Ї–Є –Є—Е –ґ–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤ –і–≤–Њ—А–Њ–≤—Л–µ –ї—О–і–Є¬ї (–Ъ–Њ—В–Њ—И–Є—Е–Є–љ –У.–Ъ. –Ю –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–Є—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–≤–Є—З–∞. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Ъ–Њ—В–Њ—И–Є—Е–Є–љ–∞. –°–Я–±., 1884. –°. 147).
7 –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Ю—А–і—Л,–Ґ. I. –Ш–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Є–Ј —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є—Е / –†–µ–і. –Є –њ–µ—А. –Т. –Ґ–Є–Ј–µ–љ–≥–∞—Г–Ј–µ–љ–∞. –°–Я–±., 1884. –°. 114.
8 –Я—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є / –†–µ–і. –Р. –Э–∞—Б–Њ–љ–Њ–≤. –Ь.; –Ы., 1941. –Т—Л–њ. 1. –°. 86.
9 –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–∞—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –њ–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї—Г –Я.–Я. –Ф—Г–±—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ // –Я–Њ–ї–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ–є. –Ь., 2004. –Ґ. XLIII. –°. 196.
10 –У–µ–є–і–µ–љ—И—В–µ–є–љ –†. –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Њ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ. (1578вАУ1582) / –Я–µ—А. —Б –ї–∞—В. –Ш.–Ш. –Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤–∞. –°–Я–±., 1889. –°. 77.
11 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 210. –°—В–Њ–ї–±—Ж—Л –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞. вДЦ 589. –Ы. 17 (–њ—А–Є–Ї–∞–Ј–љ—Л–є —И–∞—В–µ—А –Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є—З–µ–≥–Њ –Є –і–≤–Њ—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤–Њ–µ–≤–Њ–і—Л –Т. –Т. –С—Г—В—Г—А–ї–Є–љ–∞).
12 –Т–Є—В–µ–±—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞—А–Є–љ–∞ / –°–Њ—Б—В. –Р. –°–∞–њ—Г–љ–Њ–≤. –Т–Є—В–µ–±—Б–Ї, 1888. –Ґ. 4. –Ю—В–і. 2. –°. 103, 104.
13 PamiƒЩtniki Samiela i Bogus≈Вawa Kazimierza Maskiewiczow (wiek XVII). Wroc≈Вaw, 1961. S. 297.
14 –Р–Ї—В—Л –Т–Є–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –і–ї—П —А–∞–Ј–±–Њ—А–∞ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –∞–Ї—В–Њ–≤. –Т–Є–ї—М–љ–∞, 1909. –Ґ. 34. –Р–Ї—В—Л, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ—Б—П –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤–Њ–є–љ—Л –Ј–∞ –Ь–∞–ї–Њ—А–Њ—Б—Б–Є—О. –°. 407, 408.
15 –Р–Ї—В—Л –Т–Є–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–ЄвА¶ –Ґ. 34. –°. 421.
16 –†–У–Р–Ф–Р. –§.210. –°—В–Њ–ї–±—Ж—Л –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞. вДЦ 620. –Ы. 15, 15 –Њ–±.
17 –Я—А–Є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї–Є –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–ї–Є –љ–µ ¬Ђ–¶–∞—А–µ–≤-—Ж–∞—А–µ–≤¬ї, –∞ ¬Ђ–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М-—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М¬ї, —З—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ–Њ: –Њ–±–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞ (–Є ¬Ђ—Ж–∞—А—М¬ї, –Є ¬Ђ—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М¬ї) –њ–Є—Б–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і —В–Є—В–ї–Њ–Љ, –Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—В—М ¬Ђ—Ж–∞—А–µ–≤¬ї –Є ¬Ђ—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М¬ї –љ–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ.
18 –Р–Ї—В—Л, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ—Б—П –Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –Є –Є–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ –Р—А—Е–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–µ–є. –°–Я–±., 1872. –Ґ. 7. –°. 95.
19 –С—Г—Б—Б–Њ–≤ –Ъ. –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–∞ 1584вАУ1613. –Ь.; –Ы., 1961. –°. 102, 227; –С–µ—А –Ь. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —Б 1584 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ 1612 // –°–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ–Ј–≤–∞–љ—Ж–µ. –°–Я–±., 1859. –І. 1. –°. 40.
20 –Я–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Ш—Б–∞–∞–Ї–∞ –Ь–∞—Б—Б—Л (–Ю –љ–∞—З–∞–ї–µ –≤–Њ–є–љ –Є —Б–Љ—Г—В –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є–Є / –Ш—Б–∞–∞–Ї –Ь–∞—Б—Б–∞. –Я–µ—В—А –Я–µ—В—А–µ–є. –Ь., 1997. –°. 86, 87).
21 –Я–∞–µ—А–ї–µ –У. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П –У–∞–љ—Б–∞ –У–µ–Њ—А–≥–∞ –Я–∞–µ—А–ї–µвА¶ // –°–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–Є –°–∞–Љ–Њ–Ј–≤–∞–љ—Ж–µ. –°–Я–±., 1859. –Ґ. 2. –°. 164.
22 –Я–∞–ї–Є—Ж—Л–љ –Р. –°–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Є—П –Я–∞–ї–Є—Ж—Л–љ–∞ // –Я–Њ–і —А–µ–і. –Ы.–Т. –І–µ—А–µ–њ–љ–Є–љ–∞. –Ь.; –Ы, 1955. –°. 152.
23 –Э–∞—Б–µ–і–Ї–∞ –Ш. –Ц–Є—В–Є–µ –Є –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞ –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—П. [–±. –Љ.], [–±. –≥.]. –°. 11; –°–Ї–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤ –Ф. –Ш. –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–є –Ч–Њ–±–љ–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є–µ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П (–љ—Л–љ–µ –Ы–∞–≤—А—Л). –Ґ–≤–µ—А—М, 1890. –°. 65.
24 –Р–Ј–∞—А—М–Є–љ –°. –Ъ–љ–Є–≥–∞ –Њ —З—Г–і–µ—Б–∞—Е –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П. –°–Я–±., 1888. –°. 38, 39.
25 –Ъ—Г—А–±–∞—В–Њ–≤ –Ю. –Р. ¬Ђ–Э–µ –љ–∞–і–µ–є—В–µ—Б—П –љ–∞ –Ї–µ—Б–∞—А–Є, –љ–∞ —Б—Л–љ—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—П, –≤ –љ–Є—Е –ґ–µ –љ–µ—Б—В—М —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П¬ї (–Я—Б. 145): ¬Ђ–Э–∞—Г–Ї–∞ –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞—В—М¬ї –¶–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ // www.sedmitza. ru (–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –љ–∞ —Б–∞–є—В–µ ¬Ђ–°–µ–і–Љ–Є—Ж–∞¬ї 1 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2004 –≥.).
26 –У–Њ—А–і–Њ–љ –Я. –Ф–љ–µ–≤–љ–Є–Ї 1677вАУ1678 / –Я–∞—В—А–Є–Ї –У–Њ—А–і–Њ–љ; –њ–µ—А.. —Б—В., –њ—А–Є–Љ–µ—З. –Ф.–У. –§–µ–і–Њ—Б–Њ–≤–∞; –Њ—В–≤. —А–µ–і. –Ь. –†. –†—Л–ґ–µ–љ–Ї–Њ–≤. –Ь., 2005. –°. 216, 217 (–њ—А–Є–Љ–µ—З. вДЦ 216).
27 –С—Г–≥–∞–љ–Њ–≤ –Т. –Ш. –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVII –≤–µ–Ї–∞. –Ь., 1969.
28 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 27. –Ю–њ. 1. вДЦ 338.
29 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 210. –°—В–Њ–ї–±—Ж—Л –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞. вДЦ 132. –Ы. 271.
30 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 210. –°—В–Њ–ї–±—Ж—Л –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞. вДЦ 589. –Ы. 710, 710 –Њ–±. ¬Ђ5-–є —П—Б–∞–Ї, —Б—В—А–µ–ї—П—В –≤–Њ–Ј–ї–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ —И–∞—В—А–∞ —В—А–Є–ґ–і—Л –Є–Ј –њ–Є—Й–∞–ї–Є вАУ —В–Њ, –Ј–∞ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М—О –С–Њ–ґ–Є–µ—О –Є –Я—А–µ—З–Є—Б—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –њ–Њ–±–µ–і–∞ –љ–∞ –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–≤¬ї (–Р–Ї—В—Л –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –°–Я–±., 1894. –Ґ. 2 (1635вАУ1659). –°. 422, 423).


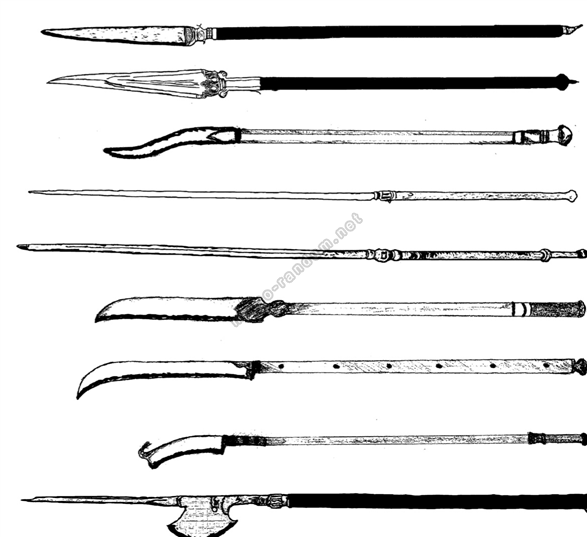
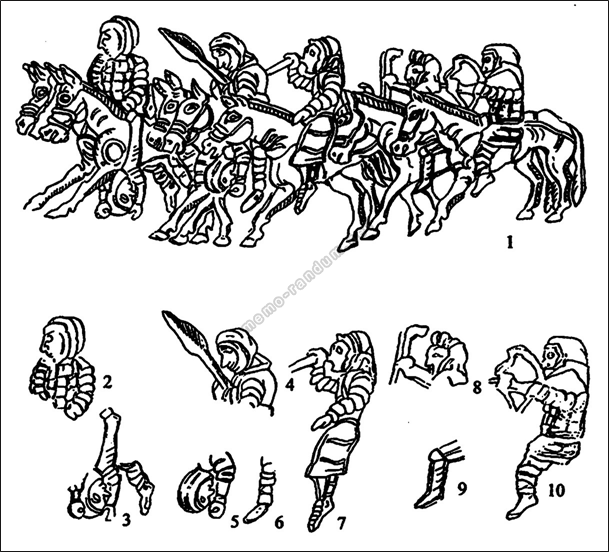

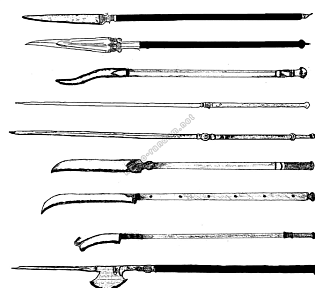
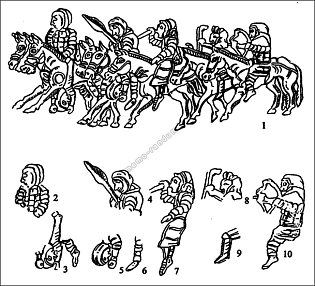



–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є