–Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є 1660вАУ1670-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –Ы–Њ–±–Є–љ –Р.–Э. (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥)
–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –Ґ—А–µ—В—М–µ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 16вАУ18 –Љ–∞—П 2012 –≥–Њ–і–∞
–І–∞—Б—В—М II–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥
–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2012
¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2012
¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2012
–Р–†–Ґ–Ш–Ы–Ы–Х–†–Ш–Ѓ XVII —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Љ–∞—Б—Б–Є–≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤ вАУ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ, –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–∞–Ј—А—П–і–љ–Њ–≥–Њ, –Ґ–∞–є–љ–Њ–≥–Њ, –°—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –љ–µ –і–Њ—И–µ–і—И–Є—Е –і–Њ –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є.
–Ф–∞–љ–љ–∞—П —Б—В–∞—В—М—П –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е, –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –Є –љ–µ—Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є —Б 1660-—Е –њ–Њ 1670-–µ –≥–≥. –Т—Л–±—А–∞–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–љ: –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є—П, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–∞—П –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–У—А–∞–љ–∞—В–љ—Л–є –і–≤–Њ—А –Ј–∞ –Э–Є–Ї–Є—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є¬ї. –Т 1659 –≥. –≤—Б–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ –У—А–∞–љ–∞—В–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А, ¬Ђ–≥—А–∞–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А¬ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—Б –С–∞—Г–Љ–∞–љ (¬Ђ–Ь–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –С–Њ–≤–Љ–∞–љ¬ї), –Ј–∞ –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–і–µ–ї–∞–≤—И–Є–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Ї—А—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Ї–∞—А—М–µ—А—Г –Њ—В –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –і–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞1. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ 1659 –≥. –µ–Љ—Г –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞, –≤—Б–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М ¬Ђ–Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є¬ї –У—А–∞–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞: –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ –С–µ–Ј–Љ–∞–љ, –ѓ–Ї–Њ–≤ –ѓ–љ—Ж–µ–љ, –ѓ–Ї–Њ–≤ –°—В–∞—А–Ї, –Ѓ—Б—В –§–∞–љ-–Ъ–µ—А–Ї–Њ–≤–µ–љ, –Р–љ–і—А–µ—П–љ –§–∞–љ-–Ъ–µ—А–Ї–Њ–≤–µ–љ, –У–Њ—В—Д–µ—А –У–µ—А–±—Б—В, –Р–і—А–Є–∞–љ –Ь–µ–ї–ї–µ—А, –§–µ–і–Њ—А –Ь–µ–є–µ—А, –Ъ–∞—А–ї –ѓ–≥–∞–љ, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –®–≤–∞—А—В, –Р–ї—М–±—А–µ—Е—В –®–љ–µ–≤–µ—Ж, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Д–Њ–љ –Ч–∞–ї–µ–љ –Є –і—А.2 –Ю—Б–Њ–±–Њ–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–µ–є —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –±—Л–ї–Є —Е–Є–Љ–Є–Ї–Є, –Є—Б–њ—Л—В–∞—В–µ–ї–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–≤ ¬Ђ–Њ–≥–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Љ–µ—Б–µ–є¬ї3. –°–∞–Љ –С–∞—Г–Љ–∞–љ –љ–µ —А–∞–Ј —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Ѓ.–Ш. –†–Њ–Љ–Њ–і–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ –≤ –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М –љ–Њ–≤—Л—Е —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1670 –≥. –Њ–љ –њ–Њ–і–∞–ї –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–µ–≤ –Ы. –Ы–Є–љ–µ–љ–±–µ—А–≥–∞4 –Є –Ш. –¶—Г–і–µ—А–ї–∞–љ–і–∞5 –і–ї—П ¬Ђ–Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–µ–ї¬ї –≤ —И—В–∞—В –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Є –У—А–∞–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞.
–І–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —А–Њ—Б–ї–∞: –µ—Б–ї–Є –≤ 1666 –≥. —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –і–≤–Њ—А–∞ –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –≤—Б–µ–≥–Њ 27, —В–Њ –Ї 1671-–Љ—Г —Г–ґ–µ 68 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї6. –Я–Њ —З–µ—А—В–µ–ґ–∞–Љ –Э. –С–∞—Г–Љ–∞–љ–∞ –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –У—А–∞–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ —Б 1659 –њ–Њ 1671 –≥–≥. –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –њ—Г—И–µ–Ї, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –љ–∞—И–ї–Є –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–µ—А–Є–є–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ. –Ь–∞—Б—В–µ—А–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ–≤—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П, –љ–Њ –Є –њ–µ—В–∞—А–і—Л (–≤–Њ—А–Њ—В–љ—Л–µ –Љ–Є–љ—Л), —Б–љ–∞—А—П–і—Л (—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–∞—В—Л)7, —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л—Е —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–є –Є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П8. –І–µ—А—В–µ–ґ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –і–ї—П –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –ї–Є—З–љ—Г—О –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є—О —Ж–∞—А—П вАУ –≤ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –Ґ–∞–є–љ—Л—Е –і–µ–ї. –Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П ¬Ђ—В–µ—В—А–∞–і–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Є—Б–∞–љ—Л –≥–ї–∞–≤—Л –≥—А–∞–љ–∞—В–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞–Љ, —В–µ—В—А–∞–і–Є –ґ –Њ –љ–∞—А—П–і–µ –Є –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Е–Є—В—А–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –Є –±—А–Њ—Б–∞—В—М –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ—ЛвА¶¬ї, ¬Ђ—З–µ—А—В–µ–ґ –≥—А–∞–љ–∞—В–µ, —З–µ—А—В–µ–ґ –±–Њ–Љ–±–∞–Љ, –≥—А–∞–љ–∞—В–∞–Љ, —З–µ—А—В–µ–ґ –Ї–Њ –∞–ї—В–Є–ї–µ—А–Є–Є, —З–µ—А—В–µ–ґ –Љ–Њ—А—В–Є—А–љ–Њ–є, вА¶ —З–µ—А—В–µ–ґ–Є –≤ —Б—В–Њ–ї–±—Ж–∞—Е –њ—Г—И–Ї–∞–Љ —Б–Њ —Б—В–∞–љ–Ї–∞–Љ¬ї –Є —В. –і.9
–°–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є ¬Ђ—Б –Ї–ї–Є–љ–µ–Љ –Є –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ¬ї
–Ш–і–µ—П –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А—Г–і–Є–є –±—Г–і–Њ—А–∞–ґ–Є–ї–∞ —Г–Љ—Л –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ь–∞—Б—В–µ—А–∞ –њ—Г—И–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є XVвАУXVII –≤–≤. –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —В–∞–Ї–Є–µ —В–Є–њ—Л –Њ—А—Г–і–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ–Ї –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤. –Т —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –Ї–∞–Ј–љ–Њ–Ј–∞—А—П–і–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є10. –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —А–Њ–і–µ –Є –Є–Љ–µ–µ—В —Б–≤–Њ–Є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В—Л —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞.
–Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –µ–і–Є–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є —Б –Ї–ї–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б—В–∞—А–∞–љ–Є—П–Љ –Э. –С–∞—Г–Љ–∞–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ї–Є—З–љ–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ–≤—Л—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є –њ—Г—И–µ–Ї. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї—Г —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –і–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –С–∞—Г–Љ–∞–љ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞–ї ¬Ђ–њ–Њ–ї–µ–≤—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є, –і–ї—П –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ—И–∞–і–Є, –њ—А–Є—З–µ–Љ –і–ї—П –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є—Е –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ–≥–Њ –і–≤–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥–Є. –Т–≤–Є–і—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Є –њ—Г—И–Ї–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–ї–Є—В—Л —Б –Ї–∞–Љ–µ—А–∞–Љ–Є –Є –Ј–∞—А—П–ґ–∞–ї–Є—Б—М —Б–Ј–∞–і–Є, –Є—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞—А—П–ґ–∞—В—М –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М –Є–Ј –љ–Є—Е –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Л –±—Л—Б—В—А–µ–µ, —З–µ–Љ —Н—В–Њ –Љ–Њ–≥ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б–∞–Љ—Л–є –ї–Њ–≤–Ї–Є–є —Б–Њ–ї–і–∞—В –њ—А–Є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ—Г—И–Ї–µ—В–∞¬ї11. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В —Б–ї–Њ–≤–∞ –Р. –†–Њ–і–µ. –°–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–Ј–љ–Њ–Ј–∞—А—П–і–љ—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞ (–≤ 3/4 —Д—Г–љ—В–∞) —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤. –Т 1660 –≥. –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г —Ж–∞—А—П –і–ї—П ¬Ђ—Б–Њ–ї–і–∞—В—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П –њ–Њ–ї–Ї—Г –Ь–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –С–Њ–і–Љ–∞–љ–∞ —Б–∞–ї–і–∞—В–∞–Љ –љ–∞ 1000 –љ–∞ 319 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ¬ї –Є–Ј –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ 8 ¬Ђ–њ—Г—И–µ—З–µ–Ї —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б –Ї–ї–Є–љ–µ–Љ¬ї –љ–∞ –ї–µ–≥–Ї–Є—Е —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е, ¬Ђ–і–∞ –њ–Њ–і –љ–Є–Љ–Є 16 –Ї–Њ–ї–µ—Б –љ–∞ 2 –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞вА¶¬ї12
–С–Њ–ї–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ ¬Ђ—Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є¬ї –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Ј–∞–≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є. –Я–Њ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–Є –Э. –С–∞—Г–Љ–∞–љ–∞ —З–µ—А–µ–Ј —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–≥–µ–љ—В–∞ –Ш–Њ–≥–∞–љ–љ–∞ —Д–∞–љ –У–Њ—А–љ–∞ –≤ –У–Њ–ї–ї–∞–љ–і–Є–Є –Є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є —Г –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—Б–∞ –Т–Є–Ј–µ –Є –У–µ—А–Љ–∞–љ–∞ –У–µ–љ–Є–љ–≥–∞ –±—Л–ї –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ –Ј–∞–Ї–∞–Ј –љ–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ 3-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є ¬Ђ–Љ–µ—А–Њ—О 2 –∞—А—И–Є–љ–∞¬ї. –Ш—Е –Ј–∞–Ї—Г–њ–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–∞ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –µ—Й–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Є –Њ—Б–≤–∞–Є–≤–∞—В—М –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Я—Г—И–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞. –Т 1660 –≥. –љ–Њ–≤—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–љ—Л –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О13. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: ¬Ђ–њ–Є—Й–∞–ї—М –Љ–µ–і–љ–∞—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–∞—П, –Љ–µ—А–Њ—О 2 –∞—А—И–Є–љ–∞, –≤–µ—Б—Г –≤ –љ–µ–є 10 –њ—Г–і. –Э–∞ –љ–µ–є –≤—Л–ї–Є—В –Њ—А–µ–ї –і–≤–Њ–µ–≥–ї–∞–≤–Њ–є, –∞ –љ–∞–і –≥–ї–∞–≤–∞–Љ–Є —Г –љ–µ–≥–Њ —В—А–Є –Ї–Њ—А—Г–љ—Л —Б –Ї—А–µ—Б—В–∞–Љ–Є, –∞ –≤ –њ—А–∞–≤–Њ–є –љ–Њ–≥–µ –і–µ—А–ґ–Є—В —П–±–ї–Њ–Ї–Њ —Б –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ, –∞ –≤ –ї–µ–≤–Њ–є –љ–Њ–≥–µ –і–µ—А–ґ–Є—В —Б–Ї–Є–њ–µ—В—А. –Э–∞ –љ–µ–є –ґ–µ –≤—Л–ї–Є—В—Л –њ–Њ –ї–∞—В—Л–љ–Є –Є–Љ–µ–љ–∞: вАЬ–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ь–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –С–∞—Г–Љ–∞–љ –і–∞ –ѓ–≥–∞–љ –§–∞–љ –У–Њ—А–µ–љвАЭ вАУ вАЬ–ї–µ—В–∞ 1660, –Љ–∞—Б—В–µ—А –У–µ—А–Љ–∞–љ –Х–љ–љ–Є–Є–љ–Ї, —Б–ї–Є—В–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –У–Њ—А–±—Г—А—М–ЄвАЭ. –Ъ –љ–µ–є 50 —П–і–µ—А, –≤–µ—Б–Њ–Љ –њ–Њ 3 –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є, —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ, –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞ –љ–µ–Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л¬ї –Є —В.–і.14
–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Г–ґ–µ —Б 1662 –≥. —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –љ–∞ –Я—Г—И–µ—З–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –і–µ–ї–∞—О—В –Њ—А—Г–і–Є—П —В–∞–Ї–Є—Е –ґ–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤. –Т –і–µ–ї–µ –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Њ —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –•. –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —З—В–Њ –ї–Є—В–µ–є—Й–Є–Ї ¬Ђ170-–Љ –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –ґ–µ –≤—Л–ї–Є–ї 2 –њ–Є—Й–∞–ї–Є —Б–Ї–Њ—А(–Њ)—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–µ, 6 –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ 3 –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є —П–і—А–Њ, –і–ї–Є–љ–Њ—О –њ–Њ 2 –∞—А—И–Є–љ–∞¬ї15. –Т ¬Ђ—А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Љ–µ–і–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞—А—П–і—Г, –њ—А–Є—Б–ї–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј –і–≤–Њ—А—Ж–∞¬ї, 1671 –≥. –Ј–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М—О –і—М—П–Ї–∞ –Ф. –Х—А—В—Г—Б–ї–∞–љ–Њ–≤–∞, —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л –≤ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ —И–µ—Б—В–Є —И—В—Г–Ї ¬Ђ–њ–Є—Й–∞–ї–Є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б –Ї–ї–Є–љ–Њ–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–є. вАУ –Р. –Ы.)¬ї –≤–µ—Б–Њ–Љ –Њ—В 10 –і–Њ 11 –њ—Г–і–Њ–≤ –Є –і–ї–Є–љ–Њ—О —З—Г—В—М –Љ–µ–љ–µ–µ 2 –∞—А—И–Є–љ–Њ–≤16.
–Э–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є —Б–љ–∞–±–ґ–∞–ї—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–µ–≥–Є–Љ–µ–љ—В –Э. –С–∞—Г–Љ–∞–љ–∞, –љ–Њ –Є –і–≤–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї—О–і–љ—Л—Е –≤—Л–±–Њ—А–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–∞. –Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1661 –≥. –Љ–∞–є–Њ—А –Є–Ј –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Р.–Р. –®–µ–њ–µ–ї–µ–≤–∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М ¬Ђ–ґ–µ–ї–µ–Ј–∞ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Ї–∞—А—В—Г–Ј—Л –Ї –њ—Г—И–Ї–∞–Љ 500 –ї–Є—Б—В–Њ–≤¬ї. –Ш–Ј –ґ–µ—Б—В–Є –і–µ–ї–∞–ї–Є ¬Ђ–≤–Ї–ї–∞–і–љ–Є¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–ґ–µ—Б—В—П–љ—Л–µ —В—А—Г–±–љ—Л–µ –Ї–∞—А—В—Г–Ј—Л¬ї17 –і–ї—П –Ј–∞—А—П–ґ–∞–љ–Є—П —Б –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є. –Ъ ¬Ђ–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—Г—И–Ї–∞–Љ¬ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є 1000 –≤–Ї–ї–∞–і–љ—Л—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—А—В—Г–Ј–Њ–≤18. –Т—Б–µ–≥–Њ –≤ 1660-—Е –і–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Ї –Є–Љ–µ–ї –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –і–Њ 14 –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є, –Є–Ј –љ–Є—Е —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–µ 3-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є19.
–Т –Ю—В–і–µ–ї–µ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є (–†–Э–С) —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П ¬Ђ—Б–њ–Є—Б–Њ–Ї —Б —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є, —З—В–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ї–љ—П–Ј—М –Ѓ—А—М–Є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –і–∞–ї–µ –і–µ–ї–∞—В—М, –∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б–≤–Њ–µ—О —А—Г–Ї–Њ—О¬ї. –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –і–∞—В—Л, –љ–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –≤ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–µ –Љ–µ–ґ–і—Г 1665 –Є 1675 –≥–≥. (–≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–љ—П–Ј—М –Ѓ.–Ш. –†–Њ–Љ–Њ–і–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є ¬Ђ—Б–Є–і–µ–ї¬ї –≤ –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ): ¬Ђ–Ч–і–µ–ї–∞—В—М 24 –њ—Г—И–µ–Ї —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л—Е (вА¶) –Ъ 24 –њ—Г—И–Ї–∞–Љ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є –і—А–Њ–±–љ—Л–Љ 150 –Ї–∞—А—В—Г–Ј –Ї –њ—Г—И–Ї–µ —Б —П–і—А–∞–Љ–Є –і–∞ –њ–Њ –њ–Њ–ї—В–∞—А–∞—Б—В–∞ –Ї–∞—А—В—Г–Ј –Ї –њ—Г—И–Ї–µ –і—А–Њ–±–Њ–≤—Л—Е, –Є –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї 24 —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—Г—И–Ї–∞–Љ —Б —П–і—А–∞–Љ–Є –Є –і—А–Њ–±–љ—Л—Е –Ї–∞—А—В—Г–Ј 3600 –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ.вА¶¬ї20
–Ш—В–∞–Ї, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞, –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–љ—П—В–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї –љ–∞ –і—А–Њ–±–Њ–≤—Л–µ –Є –љ–∞ –Ј–∞—А—П–ґ–∞–µ–Љ—Л–µ —П–і—А–∞–Љ–Є. –Ю–±—А–∞—В–Є–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ: –≤—Б—П —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї –ї–∞–Ї–Њ–љ–Є—З–љ–Њ–є —Д—А–∞–Ј–µ (¬Ђ–Ј–і–µ–ї–∞—В—М 24 –њ—Г—И–µ–Ї —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л—Е¬ї), –∞ –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А—Л –љ—Г–ґ–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є (–Ї–∞–ї–Є–±—А, –і–ї–Є–љ–∞, –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —В. –і.) –љ–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В—Б—П. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ—Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–µ¬ї –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ (—В. –µ. —В–Њ—В –ґ–µ –Ї–∞–ї–Є–±—А, –і–ї–Є–љ–∞ –Є —В. –і.). –Ш –µ—Б–ї–Є –і—М—П–Ї–Є –њ–Є—Б–∞–ї–Є –Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї, —В–Њ –Њ–љ–Є, –∞ —В–∞–Ї –ґ–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–≤—И–Є–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, —П—Б–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–µ–±–µ, —З—В–Њ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ–± –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є—П—Е —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞, —В–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤, –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Є—Е –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є–є, –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—П –Ј–∞–Ї–∞–Ј –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є —Д—А–∞–Ј–Њ–є: ¬Ђ–°–і–µ–ї–∞—В—М –њ–Њ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г¬ї.
–Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –і–ї–Є–љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –Ї–∞–Ј–љ–Њ–Ј–∞—А—П–і–љ—Л—Е —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є –±—Л–ї–∞ —Г–і–ї–Є–љ–µ–љ–∞ –і–Њ 4 –∞—А—И–Є–љ–Њ–≤, —З—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ–±—Й–µ–є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –і—Г–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ—А—Г–і–Є–є –≤ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Я–Њ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞–Љ –Њ–њ–Є—Б–Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є 1695 –≥., —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –Ї–Њ–њ–Є—П—Е –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞ –Ш.–•. –У–∞–Љ–µ–ї—П, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ—Л–є —В–Є–њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –Њ—В–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П —Б 1662 –њ–Њ 1671 –≥–≥. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –≤ 1669 –≥.21 –Э–Њ —В—А—Г–і–Њ–µ–Љ–Ї–∞—П —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ—В –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–љ–Њ—А–Њ–≤–Ї–Є. –Ф–∞–ґ–µ –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–Љ—Г –ї–Є—В–µ–є—Й–Є–Ї—Г –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Њ—А—Г–і–Є–µ —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–∞. –Т –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –љ–Њ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є 1671 –≥. –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ ¬Ђ—А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–Њ –њ–Є—Й–∞–ї—М —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Г—О —Б –Ї–∞—А—В—Г–Ј–Њ–Љ (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–є. вАУ –Р. –Ы.). –•–∞—А–Є—В–Њ–љ–Њ–≤–∞ –ї–Є—В—М—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ 3 –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є —П–і—А–Њ, –і–ї–Є–љ–∞ 4 –∞—А—И–Є–љ–∞, –≤–µ—Б—Г 32 –њ—Г–і–∞¬ї22.
–Э–µ—А–µ–і–Ї–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Њ—В–ї–Є—В—Л–µ –Ї–∞–Ј–љ–Њ–Ј–∞—А—П–і–љ—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –≤—Б—В—А–µ—З. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –њ—Г—И–Ї–Є –≤–Є–і–µ–ї –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –У. –Ю–Ї—Б–µ–љ—И–µ—А–љ—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В –Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –≠—А–Є–Ї –Я–∞–ї—М–Љ–Ї–≤–Є—Б—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —И–њ–Є–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В—З–µ—В–µ –Ї–Њ—А–Њ–ї—О –Ъ–∞—А–ї—Г XI –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї ¬Ђ—А–µ–і–Ї–Є–є –њ—А–Є–Љ–µ—А –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П, –Ј–∞—А—П–ґ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Б–Ј–∞–і–Є –Є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ј–∞—А—П–і–∞–Љ–Є, —З—В–Њ —Г—Б—В—А–∞–љ—П–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—И–Є–±–Ї–Є –њ—А–Є –њ–Њ—Б–њ–µ—И–љ–Њ–Љ –Ј–∞—А—П–ґ–∞–љ–Є–Є¬ї23.
–Э–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Є–Ј–љ–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –Є–Љ –Ј–∞–љ—П—В—М –љ–Є—И—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П¬ї.
–Ъ–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ, –Ї–Њ–љ–љ–Њ-–≤—М—О—З–љ—Л–µ –Є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–љ—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П
–Ъ–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–Љ –У—Г—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –Р–і–Њ–ї—М—Д–Њ–Љ –≤ –Ґ—А–Є–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –Ю–љ–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –Є–Ј —В–Њ–љ–Ї–Њ—Б—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–≤–Њ–ї–∞, —Б–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –Њ–±—А—Г—З–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Њ—Б–Љ–Њ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤–µ—А–µ–≤–Ї–Њ–є, –∞ —Б–≤–µ—А—Е—Г –Њ–±—И–Є—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ґ–µ–є. –°–љ–∞—А—Г–ґ–Є –љ–∞–і–µ–≤–∞–ї—Б—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –Њ–±—А—Г—З —Б –і–≤—Г–Љ—П —Ж–∞–њ—Д–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ–ґ–∞–љ–∞—П –њ—Г—И–Ї–∞ –≤–µ—Б–Є–ї–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ 3-4 –њ—Г–і–∞ –Є –ї–µ–≥–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –ї–∞—Д–µ—В–µ –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ—И–∞–і—М—О. –Э–Њ —Б—В—А–µ–ї—П—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ ¬Ђ—З—Г–і–Њ-–Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї –Љ–Њ–≥–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞—А—В–µ—З—М—О; –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–ї–Њ—Е–Њ–є —В–µ–њ–ї–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤–µ—А–µ–≤–Њ–Ї —Б—В–≤–Њ–ї –њ–µ—А–µ–≥—А–µ–≤–∞–ї—Б—П –Є –Љ–Њ–≥ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П. –Т 1630-—Е –≥–≥. –љ–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Я—Г—И–µ—З–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А –Ѓ–ї–Є—Г—Б –Ъ–Њ–µ—В –і–µ–ї–∞–ї –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є –њ–Њ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г. –Я–Њ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Є–Ј –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞, 16 –Є—О–љ—П 1632 –≥. ¬Ђ–љ–µ–Љ—З–Є–љ –Х–ї–Є—Б–µ–є –Ъ–Њ–µ—В¬ї –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ —Б—Г–Ї–љ–Њ–Љ ¬Ђ–Ј–∞ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Г, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–µ—А–µ–і –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ —Б—В—А–µ–ї—П–ї –љ–∞ –ї—Г–≥—Г –Є–Ј –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є –Є—О–љ—П –≤ 13 –і–µ–љ—М¬ї24. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –≤ 1634 –≥. –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Њ—А—Г–і–Є–є –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Њ.
–Ъ 1660-–Љ –≥–≥. –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ—Л –љ–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ 1630-—Е –≥–≥. –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—З–љ—Л–Љ–Є —Б—В–≤–Њ–ї–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞—А—В–µ—З—М—О, –љ–Њ –Є —П–і—А–∞–Љ–Є. –Т –Є—О–љ–µ 1661 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —А–∞–Ј–≥–∞—А–µ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–є–љ–∞ —Б –†–µ—З—М—О –Я–Њ—Б–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–є, –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–µ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А—П–і–∞ –Ш–≤–∞–љ—Г –•–Њ–≤–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Њ ¬Ђ50 –Ј–∞–і—Г–±–љ—Л—Е –Ї–Њ–ґвА¶ –∞ –≤–µ–ї–µ–љ–Њ –Є–Ј —В–µ—Е –Ї–Њ–ґ –і–µ–ї–∞—В—М –њ—Г—И–Ї–Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—П¬ї. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Ї–Њ–ґ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ—А–Њ—З–Є–Љ–Є –њ—А–Є–њ–∞—Б–∞–Љ–Є, –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї: ¬ЂвА¶–∞ –Є–Ј –Ј–∞–і—Г–±–љ—Л—Е –Ї–Њ–ґ –≤–µ–ї–µ–ї —П –њ—Г—И–Ї–Є –і—А–Њ–±–Њ–≤—Л—П –і–µ–ї–∞—В—М —Б–Њ –≤—Б—П–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ¬ї25. –Э–Њ —А—П–і –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є —Г –•–Њ–≤–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–µ —А–∞–љ–µ–µ. –Ґ–∞–Ї, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—П —В—А–Њ—Д–µ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –±–Є—В–≤—Л –њ–Њ–і –Я–Њ–ї–Њ–љ–Ї–Њ–є 1660 –≥., –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і—Л –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А—П–і–∞ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В ¬Ђ17 –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Љ–µ–і–љ—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л—Е¬ї26. –Т –Њ–њ–Є—Б—П—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Ґ–∞–є–љ—Л—Е –і–µ–ї —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л 1660вАУ1661 –≥–≥., —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –ї–µ–≥–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є: ¬Ђ–У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –≥—А–∞–Љ–Њ—В–∞ –Ї –љ–µ–Љ—Г –ґ (–Ї–љ. –Ш. –•–Њ–≤–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г. вАУ –Р. –Ы.) —Б –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–ї–Є–≤—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤—Л–Љ—Л—Б–ї–Є–ї –і–µ–ї–∞—В—М –њ—Г—И–Ї–Є –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ –Є –≤–њ—А–µ–і—М –µ–Љ—ГвА¶ —В–∞–Ї–Є–µ –ґ –њ—Г—И–Ї–Є –≤–µ–ї–µ–љ–Њ –і–µ–ї–∞—В—М¬ї27. –Ф—А—Г–≥–∞—П –Њ–њ–Є—Б—М —Г–≤–µ–і–Њ–Љ–ї—П–µ—В, —З—В–Њ –≥—А–∞–Љ–Њ—В–∞ ¬Ђ—Б –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–ї–Є–≤—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –Ј–∞ –њ—Г—И–µ—З–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ґ–∞–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ¬ї –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–∞ 29 –∞–њ—А–µ–ї—П 1661 –≥.28 –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ 1661 –≥. –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞ –С.–Р. –†–µ–њ–љ–Є–љ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Њ—В–њ–Є—Б–Њ–Ї –≤ –†–∞–Ј—А—П–і–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї, —З—В–Њ –Є–Ј –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї –±—Л–ї–Є –њ—А–Є—Б–ї–∞–љ—Л –і–≤–µ ¬Ђ–њ—Г—И–Ї–Є –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л—Е, –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ¬ї –Є, —З—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤ –Ї –љ–Є–Љ вАФ –љ–µ –Ї–∞—А—В–µ—З—М, –∞ ¬Ђ—П–і—А–∞ –њ—Г—Б—В—Л–µ¬ї29.
–Ъ–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –і–µ–ї–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Я—Г—И–µ—З–љ—Л—Е –і–≤–Њ—А–∞—Е –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є 1660-—Е –≥–≥. –Я–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Њ—А—Г–і–Є–є –≤ –±–Њ—П—Е —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–љ–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—О—В –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е, –љ–Њ –Є —Б—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤. –£–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–∞ –Ш. –Ъ–Є–ї—М–±—Г—А–≥–µ—А–∞, –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤ 1674 –≥.: ¬Ђ–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і —Г–Љ–µ—А –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ—Ж, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є вА¶ –њ—Г—И–Ї–Є —Г–Љ–µ–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ–±—В—П–≥–Є–≤–∞—В—М –Њ–±—А—Г—З–∞–Љ–Є. –Ш–Ј —В–∞–Ї–Є—Е —П –≤–Є–і–µ–ї –µ—Й–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —Б—А–µ–і–Є —Б—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –Њ–±—В—П–љ—Г—В—Л 18-—О –Њ–±—А—Г—З–∞–Љ–Є. –Э–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ—В –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ, –Ї—В–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В —В–∞–Ї–Є–Љ —Г–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ¬ї30. –°–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Њ—А—Г–і–Є–є –љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є—Е —В–Њ–≥–і–∞ –≤ –њ–Њ–ї–Ї–∞—Е –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А—П–і–∞. –Я—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–µ, –∞ —В–Њ—В –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Ж–∞—А—П, –ї—О–±–Є—В–µ–ї—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–Њ–≤–Є–љ–Њ–Ї.
–Т –і–µ–ї–∞—Е –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М ¬Ђ—А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—О, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О –≤ –њ–Њ–і–љ–Њ—Б –љ–∞ –Я–∞—Б—Е—Г¬ї (1660), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г—О—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Њ—А—Г–і–Є—П: ¬Ђ–Ъ–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ: –њ—Г—И–Ї–∞ —П–і—А–Њ–Љ –≤ 3 –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –њ–µ—И–µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—О, –њ—Г—И–Ї–∞ —П–і—А–Њ–Љ –≤ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї—Г –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П —А–µ–є—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—О. –Ф–ї–Є–љ–љ–Њ—О –Њ–±–µ –њ–Њ 2 –∞—А—И–Є–љ–∞. –Ф–µ–ї–∞–ї –Њ–±–µ –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–µ—Ж –ѓ–≥–∞–љ –§–∞–љ—Б—В–Њ–ї–њ–µ—А¬ї. –Я–Њ–Љ–µ—В–∞ ¬Ђ–Ф–∞—В—М —Б—Г–Ї–љ–Њ –і–∞ —В–∞—Д—В—Г¬ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –љ–∞–≥—А–∞–і–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Г –Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г. –Э–Є–ґ–µ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П—О—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ ¬Ђ–њ—Г—И–Ї–∞ –Ї–Њ–ґ–µ–љ–∞—П –Љ–∞–ї–∞—П –љ–∞ —А–µ–Љ–љ—П—Е¬ї, ¬Ђ–њ—Г—И–Ї–∞ –Ї–Њ–ґ–∞–љ–∞—П –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г¬ї, –∞ –і–≤–µ ¬Ђ–њ—Г—И–Ї–Є –Ї–Њ–ґ–µ–љ—Л–µ¬ї –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –≤–≤–µ—А—Е—Г¬ї31. –Э–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ–≥–Ї–∞—П –њ–µ—Е–Њ—В–љ–∞—П, –љ–Њ –Є –Ї–Њ–љ–љ–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П вАУ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є ¬Ђ—А–µ–є—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—О¬ї. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ–љ–Њ-–≤—М—О—З–љ—Л—Е (¬Ђ–љ–∞ —А–µ–Љ–љ—П—Е¬ї) –њ—Г—И–µ–Ї. –Ґ–∞–Ї, –≤ –і–µ–ї–µ –њ—Г—И–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –•. –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ 1661 –≥. –Њ–љ –Њ—В–ї–Є–ї ¬Ђ–≤ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –С–Њ–ї—И–Њ–≥–Њ [–і–≤–Њ—А—Ж–∞] 14 –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є, —З—В–Њ —Б –ї–Њ—И–∞–і–µ–є —Б—В—А–µ–ї—П—О—В¬ї32.
–Т 1660вАУ1670-—Е –≥–≥. –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —И—В—Г–Ї ¬Ђ—Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є¬ї –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –≤ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є. –Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –†–∞–Ј—А—П–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –µ—Б—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤ —И—В–∞—В–∞—Е —А–µ–є—В–∞—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В—А–µ–ї—М–± –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Є –Ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Њ—А—Г–і–Є—П–Љ33.
–Я–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е ¬Ђ–Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї —А–µ–є—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—О¬ї –≤ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є –±—Л–ї–Њ –ї–Є—И—М —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–Љ, –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Њ–є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є.
–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ –љ–Њ–≤—Л—Е –≤–Є–і–∞—Е –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є —З–∞—Б—В–Њ –і–∞–≤–∞–ї–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є–Љ —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞–Љ –≤–µ—А–±–Њ–≤–∞—В—М ¬Ђ–Є–љ–ґ–µ–љ–Є–Њ—А–Њ–≤¬ї –Є ¬Ђ–Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤¬ї. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ 1660 –≥., –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ–± –Њ–њ—Л—В–∞—Е –≤ –Ы—О–±–µ–Ї–µ –њ–Њ –Љ–µ—В–∞–љ–Є—О –Є–Ј –Љ—Г—И–Ї–µ—В–Њ–≤ –Љ—Г—И–Ї–µ—В–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–∞—В (¬Ђ–∞ –≥—А–∞–љ–∞—В—Л –і–µ –Є–Ј –Љ—Г—И–Ї–µ—В–∞ –ї–µ—В–∞–ї–Є –љ–∞ 80 —Б–∞–ґ–µ–љ—М –Љ–µ—А–љ—Л—Е¬ї), —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –∞–≥–µ–љ—В—Г –Ш–Њ–≥–∞–љ–љ—Г —Д–∞–љ –У–Њ—А–љ—Г –±—Л–ї–Њ –і–∞–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ–± –Њ–љ –Ј–∞–≤–µ—А–±–Њ–≤–∞–ї –Є –≤—Л—Б–ї–∞–ї –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ ¬Ђ—Б –≥—А–∞–љ–∞—В–љ—Л–Љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л¬ї34. –°–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —А–µ—З—М —И–ї–∞ –Њ –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–∞—Б–∞–і–Ї–∞—Е –љ–∞ –Љ—Г—И–Ї–µ—В—Л, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –Љ–µ—В–∞–љ–Є–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е —А—Г—З–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–∞—В.
–Т –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –ї–µ–≥–Ї–Є–µ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–љ—Л–µ –Љ–Њ—А—В–Є—А–Ї–Є, —Б—В—А–µ–ї—П–≤—И–Є–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є —А–∞–Ј—А—Л–≤–љ—Л–Љ–Є —Б–љ–∞—А—П–і–∞–Љ–Є. –Ъ 1670-–Љ –≥–≥. –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ—Л —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ —А—Г—З–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–∞—В–Њ–Љ–µ—В—Л, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Ї–∞–Ї ¬Ђ–≤–µ—А—Е–Њ–≤—Л–µ –њ—Г—И–µ—З–Ї–Є —Б –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ¬ї, ¬Ђ–њ—Г—И–µ—З–Ї–Є —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї—М–љ—Л–µ¬ї, ¬Ђ—Б—В–≤–Њ–ї—Л –Љ—Г—И–Ї–µ—В–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–∞—В–љ—Л–µ¬ї. –£–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –љ–Є—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М –≤ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е –Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –Њ–њ–Є—Б—П—Е 1670вАУ1680-—Е –≥–≥. –Ґ–∞–Ї, –≤ –њ–µ—А–µ—З–љ–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –°—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ъ–∞—А–∞–љ–і–µ–µ–≤–∞ (–Њ–Ї. 1678), –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –≥—А–∞—Д–µ ¬Ђ–Я—А–Є–њ–∞—Б—Л¬ї —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ, –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≥—А–∞–љ–∞—В–Њ–Љ–µ—В –і–ї—П –Љ–µ—В–∞–љ–Є—П 5-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е –≥—А–∞–љ–∞—В (–Љ–∞—Б—Б–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–∞ вАУ 40 –Ї–≥, —Б—В–∞–љ–Ї–∞ вАУ 32 –Ї–≥, –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–µ 92 ¬Ђ—П–і—А–∞ —В–Њ—Й–Є—Е¬ї): ¬Ђ–Я–Њ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А—Г –≤ —В–µ—Е –њ—А–Є–њ–∞—Б–µ—Е –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–і–љ–∞ –њ–Є—Й–∞–ї—М –Љ–µ–і–љ–∞—П –≤–µ—А—Е–Њ–≤–∞—П —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–љ–∞—П –≤–µ—Б–Њ–Љ –њ–Њ–ї—В–µ—А—В—М—П –њ—Г–і–∞ –љ–∞ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ —Б —З–µ—В–≤–µ—А–Љ–∞ –Ї–Њ–ї—М—Ж—Л, —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –≤–µ—Б–Њ–Љ –і–≤–∞ –њ—Г–і–∞¬ї35. –°–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–љ–∞—П –Љ–Њ—А—В–Є—А–Ї–∞ —Б –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–љ—Л–Љ —Б—В–∞–љ–Ї–Њ–Љ. –°—Г–і—П –њ–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї 1670-–Љ –≥–≥. –љ–∞ –Я—Г—И–µ—З–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ —Б—В–∞–ї–Є –і–µ–ї–∞—В—М —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А—В–Є—А–Ї–Є –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–Љ –≤ 4, 5, 6 –Є –і–∞–ґ–µ 10 —Д—Г–љ—В–Њ–≤. –Т —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї–љ—П–Ј—П –Ѓ.–Ш. –†–Њ–Љ–Њ–і–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Я—Г—И–µ—З–љ—Л–є –і–≤–Њ—А –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П: ¬Ђ–Ј–і–µ–ї–∞—В—М вА¶ 10 –њ—Г—И–µ–Ї –≤–µ—А—Е–Њ–≤—Л—Е, 4 –њ—Г—И–µ–Ї –њ–Њ 4 —Д—Г–љ—В–Њ–≤ –≤ –≥—А–∞–љ–∞—В–µ –њ–Њ –њ–Њ—А–Њ—Е—Г, –≤ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –њ—Г—И–Ї–∞—Е –њ–Њ —И—В–Є —Д—Г–љ—В–Њ–≤ –≤ –≥—А–∞–љ–∞—В –њ–Њ—А–Њ—Е—Г, –≤ –і–≤—Г –њ—Г—И–Ї–∞—Е –њ–Њ –і–µ—Б—П—В–Є —Д—Г–љ—В–Њ–≤ –≤ –≥—А–∞–љ–∞—В –њ–Њ—А–Њ—Е—Г. –Ъ –≤–µ—А—Е–Њ–≤—Л–Љ –Ї –і–µ—Б—П—В–Є –њ—Г—И–Ї–∞–Љ —З–µ—В–≤–µ—А–Њ —Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е –Є —И—В–Є —Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е –Є –і–µ—Б—П—В—М —Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е –≥—А–∞–љ–∞—В –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ 2000вА¶¬ї36 –Ь–∞–ї—Л–µ –Љ–Њ—А—В–Є—А–Ї–Є –≤ –Њ–њ–Є—Б—П—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XVII –≤. –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Б—В–≤–Њ–ї—Л –≥—А–∞–љ–∞—В–љ—Л–µ¬ї, –Є–ї–Є ¬Ђ—Б—В–≤–Њ–ї—Л –Љ—Г—И–Ї–µ—В–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–∞—В–љ—Л–µ¬ї. –Ґ–∞–Ї, –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є –°–µ–≤—Б–Ї–∞ 1670-—Е –≥–≥. —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П ¬Ђ–њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В —З–µ—В—Л—А–µ —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–∞—В–љ—Л—Е¬ї37, –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ —З–Є—Б–ї–Є–ї–Є—Б—М ¬Ђ—И–µ—Б—В–љ–∞—В—Ж–∞—В—М —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ –Љ—Г—И–Ї–µ—В–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–∞—В–љ—Л—Е –≤ –і–Њ—Б–Ї–∞—Е –Є —Б —И–Њ–Љ–њ–Њ–ї–∞–Љ–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є¬ї38. –Т—Б–µ —Н—В–Є –≥—А–∞–љ–∞—В–Њ–Љ–µ—В—Л, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –њ–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —З–µ–Љ-—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–µ –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ ¬Ђ–Љ–Њ—А—В–Є—А–Ї–Є¬ї, —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А—Л –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е39.
–Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –±—Л–ї–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Њ–±—Й–Є–Љ–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П–Љ–Є –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л вАУ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ—В–љ—Г—В—М –ї–µ–≥–Ї–Є–є —А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ–є —Б–љ–∞—А—П–і –љ–∞ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О, –љ–µ–і–Њ—Б—П–≥–∞–µ–Љ—Г—О –±—А–Њ—Б–Ї–Њ–Љ —А—Г–Ї–Є40.
–Ф–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –Є –Ј–µ–Љ–ї—П–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є
–Ю–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–µ –љ–µ–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—А—Г–і–Є—П, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–Њ–і –Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±–Њ–є–Љ–∞–Љ–Є, –≤ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М –ї–Є—И—М –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е –Ї—А–∞–є–љ–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е41. –Ґ–∞–Ї–Є–µ –Љ–µ–ї–Ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–±–µ—А–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Н—А–Ј–∞—Ж-–Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Є—Е –ґ–Є–≤—Г—З–µ—Б—В—М, –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М –Є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –±—Л–ї–Є –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –ї—О–±–Њ–є —Г–≤–∞–ґ–∞—О—Й–Є–є —Б–µ–±—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Г–Љ–µ—В—М –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ.
–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Њ–± –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ ¬Ђ–і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є¬ї, –Є–ї–Є ¬Ђ–Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Њ–є¬ї, –њ—Г—И–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Љ–Њ–≥–ї–∞ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞—В—М –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Ї–∞–ї–Є–±–µ—А–љ—Л–µ –њ—Г—И–µ—З–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–∞—В—Л, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–∞ –љ–∞ –і–µ—В–µ–Ї—В–Є–≤. –Т 1670 –≥. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—Б –С–∞—Г–Љ–∞–љ, –љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є–є –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞, –і–Њ–±–Є–ї—Б—П —Г —Ж–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –Ф–∞–љ–Є—О. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ–µ –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї—Л–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–µ–≤–Њ—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ. –Ю–љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –Є –У–Њ–ї–ї–∞–љ–і–Є–Є, –љ–Њ –≤–µ–Ј–і–µ –Ї –µ–≥–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞–Љ –Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М —Б–Ї–µ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є вАУ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ–∞—В–µ–љ—В, –≤—Л–і–∞–љ–љ—Л–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –∞—А–Љ–Є—П—Е. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Ї –С–∞—Г–Љ–∞–љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–Љ –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї–Њ–Љ –Ш–Њ–≥–∞–љ–љ–Њ–Љ-–Ч–Є–≥–Љ—Г–љ–і–Њ–Љ –С—Г—Е–љ–µ—А–Њ–Љ –Є –њ–Њ–≤–µ–і–∞–ї –µ–Љ—Г —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –њ—А–Њ ¬Ђ–Ј–µ–Љ–ї—П–љ—Г—О –њ—Г—И–Ї—Г¬ї, —Б–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —В—А–∞–Ї—В–∞—В–µ ¬Ђ–Ґ–µ–Њ—А–Є—П –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є¬ї (¬Ђet praxis artilleriae¬ї) 1682 –≥. –С—Г—Е–љ–µ—А –њ—А–Є–≤–µ–ї —Н—В–Њ—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –њ–Њ–±—Л–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞. –Х–≥–Њ —Б—Г—В—М —В–∞–Ї–Њ–≤–∞. –Ю–і–Є–љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Є –Њ–±–µ—А-–Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –њ–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –У–µ—В–Ї–∞–љ—В ¬Ђ–Є–Ј–Љ—Л—Б–ї–Є–ї —Б–љ–∞—А—П–і—Л –Є–Ј –Ј–µ–Љ–ї–Є –±—А–Њ—Б–∞—В–Є¬ї –љ–∞ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –±–Њ–ї–µ–µ 1000 —И–∞–≥–Њ–≤. –Я–µ—А–µ–і —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Љ–µ—А—В—М—О –У–µ—В–Ї–∞–љ—В –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–Њ—З–µ—А–Є —Б–ґ–µ—З—М –≤—Б–µ —З–µ—А—В–µ–ґ–Є —З—Г–і–Њ-–Њ—А—Г–ґ–Є—П, –∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –њ–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Ґ–∞–Љ—Б–Њ–љ ¬Ђ–Ї–ї—П—В–≤–Њ—О –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –Њ–±–µ—Й–∞—В–Є –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–љ–∞–≥–Њ –≤—Б–Ї—А—Л—В—М, –љ–Њ —Б —Б–Њ–±–Њ—О –≤ –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г –≤–Ј—П—В–Є–Є¬ї –Я–Њ–Ј–ґ–µ –Ґ–∞–Љ—Б–Њ–љ –Ј–∞–≤–µ—А–±–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ ¬Ђ–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є¬ї –њ–Њ–ї–Ї –С–∞—Г–Љ–∞–љ–∞. –С—Л–≤—И–Є–є —Б–ї—Г–≥–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –њ—А–Њ–±–Њ–ї—В–∞–ї—Б—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Е—А–∞–љ–Є—В —В–∞–є–љ—Г ¬Ђ–Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є¬ї. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—М —Б–µ–Ї—А–µ—В —Б–Є–ї–Њ–є вАУ ¬Ђ–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–є –Ґ–∞–Љ—Б–Њ–љ –Ї–∞–Ї –љ–Є –Њ—В–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї—Б—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ–ґ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–∞—Б–Є–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Љ–Њ–≥ —Г—З–Є–љ–Є—В—М¬ї. –Э–∞ –Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞—Е –≤ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –С–∞—Г–Љ–∞–љ–∞ –Њ–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–ї –Є–Ј –Ј–µ–Љ–ї–Є –≥—А–∞–љ–∞—В—Л –Є –Ї–∞–Љ–љ–Є, –Ј–∞ —З—В–Њ –±—Л–ї –Њ–і–∞—А–µ–љ –њ–Њ–і–∞—А–Ї–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є —З–Є–љ42. –≠—В–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –њ–Њ—Е–Њ–ґ–∞ –љ–∞ –ї–µ–≥–µ–љ–і—Г, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –і–µ–ї–∞–Љ –†–∞–Ј—А—П–і–љ–Њ–≥–Њ, –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ґ–∞–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –љ–∞–є—В–Є —А—П–і –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–є –Є —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Г –Ш.-–Ч. –С—Г—Е–љ–µ—А–∞.
–Я–Њ–Є—Б–Ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ –У—А–∞–љ–∞—В–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ —Г –Э. –С–∞—Г–Љ–∞–љ–∞, –≤—Л–≤–µ–ї –љ–∞ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О ¬Ђ–≥—А–∞–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –У–∞–љ—Ж–∞ –Ґ–Є–Љ—Б–Њ–љ–∞¬ї43. –Ґ–Є–Љ—Б–Њ–љ (–Ґ–∞–Љ—Б–Њ–љ) –±—Л–ї —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –§—А–Є–і—А–Є—Е–∞ –У–µ—В–Ї–∞–љ—В–∞ (artillerieleutnant Friedrich Getkant, 1600вАУ1666), –љ–µ–Љ—Ж–∞ –њ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О, –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї–∞ —Д–Њ—А—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Є. –У–µ—В–Ї–∞–љ—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –≤ –Я–Њ–ї—М—И–µ, —Б—В—А–Њ–Є–ї —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ –Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ. –Х–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–Љ –∞—Б–њ–µ–Ї—В–∞–Љ, –±—Л–ї–Є —Г—В—А–∞—З–µ–љ—Л –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ –≤–Њ –Ы—М–≤–Њ–≤–µ –≤ 1662 –≥.44 –°–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –У. –Ґ–Є–Љ—Б–Њ–љ (–Є–ї–Є –Ґ–∞–Љ—Б–Њ–љ) –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –У–µ—В–Ї–∞–љ—В–∞, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –ї—М–≤–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞. –Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Ґ–∞–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –µ–≥–Њ –Є–Љ—П —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г–µ—В —Б –Њ—Б–µ–љ–Є 1663 –≥.: ¬Ђ–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ –У–∞–љ—Ж—Г –Ґ–Є–Љ—Б–Њ–љ—Г –і–∞ –±—А–∞—В—Г –µ–≤–Њ –Њ—В—О—В–∞–љ—В—Г –§—А–µ–і—А–Є–Ї—Г¬ї –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Б—Г–Љ–Љ–∞ ¬Ђ–љ–∞ –њ–Њ–і—К–µ–Љ¬ї вАУ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 400 —А—Г–±–ї–µ–є!45 –Т 1668вАУ1670 –≥–≥. ¬Ђ–Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –Љ–∞—Б—В–µ—А –У–∞–љ—Ж –Ґ–Є–Љ—Б–Њ–љ¬ї –±—Л–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ —Б –њ—Г—И–Ї–∞–Љ–Є –≤ –У–ї—Г—Е–Њ–≤ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –∞—А–Љ–Є—О –Ї–љ—П–Ј—П –Я.–Р. –Ф–Њ–ї–≥–Њ—А—Г–Ї–Њ–≤–∞46. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –≤–µ—Б–љ—Л 1671 –≥. –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є –≤ –Ъ—Г—А—Б–Ї, –≤ –њ–Њ–ї–Ї –±–Њ—П—А–Є–љ–∞ –У.–У. –†–Њ–Љ–Њ–і–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ 13 –Љ–∞—А—В–∞ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ –Ґ–Є–Љ—Б–Њ–љ—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–Є —Г–µ—Е–∞—В—М –≤ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Б–µ–±—П –±—А–∞—В–∞ –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї–∞47.
–Т –∞—А—Е–Є–≤–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є (–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°) —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–є—В–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З–µ–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≥—А–∞–љ–∞—В–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–µ—А –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б –Љ–∞—П –њ–Њ –Є—О–љ—М 1671 –≥. –≠—В–Њ —З–µ—А–љ–Њ–≤—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ш.–Т. –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –Ы–∞—А–Є–Њ–љ–Њ–≤—Г, –Ь.–У. –Ѓ—А–µ–љ–µ–≤—Г, –С. –Х—А—В—Г—Б–ї–∞–љ–Њ–≤—Г –Є –Я.–С. –°—В—А–Њ–µ–≤—Г –Є ¬Ђ—А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –Є –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –У–∞–љ—Ж–∞ –Ґ–Є–Љ—Б–Њ–љ–∞, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ –Ї –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –≤–µ—А—Е–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–µ –≥—А–∞–љ–∞—В –Є –≥—А–∞–љ–∞—В–љ—Л—Е —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–≤ (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–є. вАУ –Р. –Ы.)¬ї. –Ґ–Є–Љ—Б–Њ–љ—Г –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞–Љ, –≥—А–∞–љ–∞—В—З–Є–Ї–∞–Љ –Т. –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Г –Є –У. –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ—Г –Є –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж—Г –≠–ї–Љ–∞–љ—Г, –і–ї—П –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –±—Л–ї–Њ –≤—Л–і–∞–љ–Њ: 100 –≥—А–∞–љ–∞—В ¬Ђ—А–Њ–Ј–љ—Л—Е —Б—В–∞—В–µ–є¬ї, –њ–Њ–ї–њ—Г–і–∞ ¬Ђ—Б–µ–ї–Є—В—А—Л –ї—О—В—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є¬ї, 12 –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї —Б–µ—А—Л, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—Г–і–Њ–≤ –њ–Њ—А–Њ—Е–∞, —Б–Љ–Њ–ї—Л, ¬Ђ–Ї–Њ—В–µ–ї –Љ–µ–і–љ–Њ–є —Б–Љ–Њ–ї—П–љ–Њ–є¬ї, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 100 –і—Г–±–Њ–≤—Л—Е –Є —Б–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л—Е –±—А—Г—Б–Њ–≤ –і–ї–Є–љ–Њ–є –Њ—В 0,5 –∞—А—И–Є–љ–∞ –і–Њ 3,5 —Б–∞–ґ–µ–љ–µ–є, ¬Ђ–±—Г–Љ–∞–≥–Є –љ–∞ –Ї–∞—А—В—Г–Ј—Л¬ї, –±–Њ–ї–µ–µ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є –Њ–±—А—Г—З–µ–є ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Є –Љ–µ–љ—М—И–Є—Е¬ї –Є –і—А. –°–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є –Њ—А—Г–і–Є–µ 25 –±–Њ—З–∞—А–Њ–≤, –њ–ї–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —В–Њ–Ї–∞—А–µ–є48.
–°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —Б–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г –Ґ–Є–Љ—Б–Њ–љ–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е. –Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П ¬Ђ–і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—А–Є –Њ—Б–∞–і–µ –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≤ 1674вАУ1676 –≥–≥.49 –Я–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Є—Е ¬Ђ—Н–Ї—Б—В—А–∞–Њ—А–і–Є–љ–∞—А–і–љ—Л—Е¬ї –Њ—А—Г–і–Є–є –њ–Њ–і –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–Љ –і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ–Є —В–µ—Е –Ї—А–∞–µ–≤. –Ґ—П–ґ–µ–ї—Л–µ –Љ–Њ—А—В–Є—А—Л –≤ —Б–Є–ї—Г —А—П–і–∞ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є—В—М –Ї –Њ—Б–∞–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≥—А–∞–љ–∞—В–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є —Г–ґ–µ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ. –Ъ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–µ –Ш. –Ь–µ—Й–µ—А–Є–љ–Њ–≤—Г –±—Л–ї–Є ¬Ђ–њ–Њ—Б–ї–∞–љ—Л –≥—А–∞–љ–∞—В—З–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г –љ–∞–≤—Л—З–љ—Л –Є —Г—З–Є–ї–Є—Б—М —Г –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–µ–≤¬ї. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—О –≤–Њ–µ–≤–Њ–і—Л –Њ—В 6 –Є—О–љ—П 1675 –≥. –≤ –°—Г–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—Б—В—А–Њ–≥–µ –Њ–љ ¬Ђ–њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ј–і–µ–ї–∞—В—М –≥—А–∞–љ–∞—В–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ —И–µ—Б—В—М –њ—Г—И–µ–Ї –і–µ—А–µ–≤—П–љ—Л—Е –Є, –Ј–і–µ–ї–∞–≤, –њ—А–Є–≤–µ–Ј –љ–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є –Њ—Б—В—А–Њ–≤ <...> –≤–µ–ї–µ–ї <...> —В–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є –≤–Ї–Њ–њ—Л–≤–∞—В—М –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–є. вАУ –Р. –Ы.)¬ї. –Т –і—А—Г–≥–Њ–є –Њ—В–њ–Є—Б–Ї–µ –Ь–µ—Й–µ—А–Є–љ–Њ–≤ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–ї —Б–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є—Е —Б–Є–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ ¬Ђ–Є–Ј –і–≤—Г—Е –Љ–µ–і–љ—Л—Е –і–∞ –Є–Ј –і–µ—А–µ–≤—П–љ—Л—Е —З–µ—В—Л—А–µ—Е –≥—А–∞–љ–∞—В–љ—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї –≥—А–∞–љ–∞—В–љ—Л–Љ–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –Є –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —П–і—А–∞–Љ–Є (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–є. вАУ –Р. –Ы.)¬ї50. –Я–Њ –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Б–∞–і—Л —А–∞—В–љ—Л–µ –ї—О–і–Є ¬Ђ–Є —И–∞–љ—Ж—Л, –Є —А–≤—Л, –Є –њ–Њ–і–Ї–Њ–њ—Л –Ї–Њ–њ–∞–ї–Є, –Є —В—Г—А—Л –Є –ї–µ—Б—В–≤–Є—Ж—Л —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є, –Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ—Л–µ –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О –њ—Г—И–Ї–Є —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–є. вАУ –Р. –Ы.)¬ї51. –Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ-–Ј–µ–Љ–ї—П–љ—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Љ–Њ–≥–ї–Њ –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–µ—А–µ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В –Њ—Б–∞–і–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Ј–µ–Љ–ї—П–љ–∞—П –њ—Г—И–Ї–∞ –≤ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –С—Г—Е–љ–µ—А–∞ –Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–∞—П –њ—Г—И–Ї–∞ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –∞–Ї—В–∞—Е вАУ –Њ–і–љ–Њ –Є —В–Њ –ґ–µ. –Ґ–Є–Љ—Б–Њ–љ (–Ґ–Њ–Љ—Б–Њ–љ) –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–µ–ї–∞–ї –љ–µ–Ї–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—А—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О. –Э–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –С—Г—Е–љ–µ—А –Є–ї–Є –µ–≥–Њ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А —П–≤–љ–Њ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —З—Г–і–Њ-–Њ—А—Г–ґ–Є—П: –±—Г–і—В–Њ –±—Л ¬Ђ–Ј–µ–Љ–ї—П–љ–∞—П –њ—Г—И–Ї–∞¬ї –Љ–Њ–≥–ї–∞ –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є—В—М –і–Њ 40 ¬Ђ–≤–Њ–Ј–Њ–≤ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М—П¬ї! –Ш–Ј ¬Ђ—А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –У–∞–љ—Ж–∞ –Ґ–Є–Љ—Б–Њ–љ–∞¬ї 1671 –≥. —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –Њ—А—Г–і–Є–µ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–ї–Њ –њ—Г—И–µ—З–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–∞—В—Л ¬Ђ—А–Њ–Ј–љ—Л—Е —Б—В–∞—В–µ–є¬ї, —В. –µ. –Љ–Њ—А—В–Є—А–љ—Л–µ –±–Њ–Љ–±—Л –≤–µ—Б–Њ–Љ –≤ 1, 2 –Є 3 –њ—Г–і–∞.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤ —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Є –Њ—В–ї–Є—В—Л –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А—В–Є—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –≥–∞–±–∞—А–Є—В–Њ–≤ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—А—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О. –≠. –Я–∞–ї—М–Љ–Ї–≤–Є—Б—В –≤ –Њ—В—З–µ—В–µ 1674 –≥. –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї —З–µ—А—В–µ–ґ ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—В–Є—А, –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–Љ –≤ 2 –ї–Њ–Ї—В—П, –і–ї–Є–љ–Њ—О 4 –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞, —Б –Ї–∞–Љ–µ—А–Њ–є –≤ –і–≤–∞ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞. –Я–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–µ –Є —В—П–ґ–µ—Б—В–Є —Н—В–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –Є—Е —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—О—В –±–µ–Ј –ї–∞—Д–µ—В–Њ–≤, –≤—А—Л–≤–∞—П –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –Ј–µ–Љ–ї—ОвА¶ –Ш–Ј —Н—В–Є—Е –Љ–Њ—А—В–Є—А —Б—В—А–µ–ї—П—О—В –Є–ї–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є —Б–љ–∞—А—П–і–∞–Љ–Є, –Є–ї–Є –ґ–µ –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ –±–Њ—З–Њ–љ–Ї–∞–Љ–ЄвА¶¬ї52 –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ 1668вАУ1669 –≥–≥. –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–≤–µ—А—Е–Њ–≤—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї¬ї, —Б—В—А–µ–ї—П–≤—И–Є—Е –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є –≥—А–∞–љ–∞—В–∞–Љ–Є –і–Њ 13 –њ—Г–і–Њ–≤ (208 –Ї–≥) –≤–µ—Б–Њ–Љ53. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —З–µ—А—В–µ–ґ–Є –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ—А—В–Є—А—Л, —Б—В–≤–Њ–ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–ї—Б—П –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б—В–µ–є54.
–Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞—О—В –≤—Б–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є, –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —В–Њ–≥–і–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –≠–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В—Л –Э. –С–∞—Г–Љ–∞–љ–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –У—А–∞–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ–ї–љ—Г—О –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –ґ–µ–ї–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ—В—М –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –∞—А–Љ–Є–Є —Б–∞–Љ—Л–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ —Г–і–∞—З–љ—Л–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л –±—Л–ї–Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ —Б–µ—А–Є–є–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ. –•–Њ—В—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–њ–µ—А–µ–ґ–∞–ї–Є –≤—А–µ–Љ—П, –љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Е –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П, —З—А–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–∞—П –Ј–∞—В—А–∞—В–љ–Њ—Б—В—М, –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В—М –љ–Њ–≤—Л–µ –Є–і–µ–Є –і–∞–ї—М—И–µ. –Ъ–∞–Ј–љ–Њ–Ј–∞—А—П–і–љ—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П —Б–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–µ–є —Г—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Љ–µ—Б—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ –і—Г–ї—М–љ–Њ–Ј–∞—А—П–і–љ—Л–Љ –њ–Є—Й–∞–ї—П–Љ, –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Њ –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–Њ –Ї 1670-–Љ –≥–≥.; –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е –Є —А–µ–є—В–∞—А—Б–Ї–Є—Е –њ—Г—И–µ–Ї –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Њ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ —Б–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М—О –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –љ–µ —Б—Г–Љ–µ–≤—И–µ–≥–Њ (–Є–ї–Є –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–≤—И–µ–≥–Њ) –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –Њ–њ—Л—В —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ; –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л...
1 –Ы–Њ–±–Є–љ –Р.–Э. ¬Ђ–Я—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–і—А—Г–≥–Њ–≤ —Б—В–Њ—П–ї –Є –±–Є–ї—Б—П –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–ЊвА¶¬ї // –†–Њ–і–Є–љ–∞. –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї. 2006. вДЦ 11. –°. 90вАУ93; –С–∞–±—Г–ї–Є–љ –Ш.–С. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –С–∞—Г–Љ–∞–љ –Є –µ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є XVII –≤–µ–Ї–∞ // –†–µ–є—В–∞—А. 2005. вДЦ 7 (19). –°. 57вАУ86.
2 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 1470 (–Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј). –Ю–њ. 1. –Ф. 263. –Ы. 45вАУ80 (–љ–∞ —Н—В–Њ—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –Љ–љ–µ –ї—О–±–µ–Ј–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –°.–Я. –Ю—А–ї–µ–љ–Ї–Њ); –Ю–† –†–Э–С. –§. 532 (–Ю–°–Р–У). вДЦ 1359, 1780; –Т–Є–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –Р. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥ –Є –±—Г–Љ–∞–≥ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤. –Ь., 1883. –Т—Л–њ. 2 (1613вАУ1725). –°. 565.
3 –Т —И—В–∞—В–µ –і–≤–Њ—А–∞ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–∞–ї—Е–Є–Љ–Є—Б—В¬ї –Ь–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т–Є–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –У—А–µ—З–µ–љ–Є–љ. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –≤ —И—В–∞—В–µ –У—А–∞–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ —З–Є—Б–ї–Є–ї–Є—Б—М ¬Ђ–ї–∞—В–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А –Э–∞–Ј–∞—А –С–ї–Є–Ј–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є¬ї, ¬Ђ–У—А–∞–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –Ј–µ—А—Ж–∞–ї–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ —Б–±–Њ—А—Й–Є–Ї¬ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ґ–∞—А–∞–Ї–∞–љ–Њ–≤, –Љ–∞—Б—В–µ—А –њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ—Л—Е –і–µ–ї –У—А–∞–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞¬ї –Ь–∞—В–Є–∞—Б –ѓ–љ—Ж—Л–љ, ¬Ђ—Б–µ–і–µ–ї—М–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–µ—А –Ь–∞—А–Ї—Г—Б –Т–Є–љ¬ї, ¬Ђ–ї–∞—В–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А –ѓ–љ –Ъ–Њ—А–µ—В¬ї, ¬Ђ—З–∞—Б–Њ–≤—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –У—А–∞–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞¬ї –†–Њ–±–µ—А—В –Ф–ґ–∞—А–Є—В –Є –Р–і—А–Є–∞–љ –Ъ—А–Є–Ї (–Т–Є–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –Р. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥ –Є –±—Г–Љ–∞–≥ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤. –°. 565; –Ю–† –†–Э–С. –§. 532 (–Ю–°–Р–У). вДЦ 1824, 1839; –†–У–Р–Ф–Р. –§. 1470 (–Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј). –Ю–њ. 1 –Ф. 263 (–Ф–µ–ї–∞ –Њ –≤—Л–і–∞—З–µ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М—П –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–∞–Љ). –Ы. 80; –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞ (–†–Ш–С). –°–Я–±., 1907. –Ґ. 21. –Ъ–љ. 1. –°. 967, 1211)
4 –Я–Њ–і–њ–Є—Б—М ¬ЂLinnenberg¬ї (–Ю–† –†–Э–С. –§. 532. вДЦ 1792).
5 –Я–Њ–і–њ–Є—Б—М ¬ЂZuderlandt¬ї (–Ю–† –†–Э–С. –§. 532. вДЦ 1793).
6 –Т 1670 –≥. ¬Ђ–≥–Њ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ь–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї—Г –С–Њ–і–Љ–∞–љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ –ї—О–і–µ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ –Є –њ–Њ—А—Г—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –Є –њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Є –У—А–∞–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤—Л–Љ –ї—О–і–µ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –Є –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–Њ–Љ¬ї –≤—Л–і–∞–љ–Њ –љ–∞ 68 —З–µ–ї. (–Ю–† –†–Э–С. –§. 532. вДЦ 1920).
7 –Ъ –Њ–Ї—В—П–±—А—О 1669 –≥. –љ–∞ –Ґ—Г–ї—М—Б–Ї–Њ-–Ъ–∞—И–Є—А—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–∞—Е –Ь–∞—А—Б–µ–ї–Є—Б–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ–њ—Г—И–µ—З–љ—Л–µ —П–і—А–∞ –Є –≥—А–∞–љ–∞—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–ї—П –њ–Њ—Б—Л–ї–Њ–Ї –≤ –њ–Њ–ї–Ї–Є –Є –њ–Њ —З–µ—А—В–µ–ґ–µ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ь–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –С–Њ–≤–Љ–∞–љ–∞ –Ј–і–µ–ї–∞–љ—Л (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–є. вАУ –Р. –Ы.)¬ї. (–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–∞—П –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А–∞. –Ь., –Ы., 1930. –І. 1. –°. 386).
8 –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1668 –≥. –љ–∞ –Ґ—Г–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Є –Ъ–∞—И–Є—А—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–∞—Е ¬Ђ–≤–µ–ї–µ–љ–Њ –Ј–і–µ–ї–∞—В—М 2000 –±–µ—А–і—Л—И–µ–є —Б —Г–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ —Б–∞–Љ—Л—Е –і–Њ–±—А—Л—Е –њ–Њ —З–µ—А—В–µ–ґ—О, –Ї–∞–Ї–Њ–≤ —З–µ—А—В–µ–ґ –њ–Њ–і–∞–ї–Є –≤ –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ь–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї—Г –С–Њ–≤–Љ–∞–љ–∞ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Є –Р–ї—М–±—А–µ—Е—В –®–љ–µ–≤–µ–љ—Ж –і–∞ –Ь–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –§–∞–љ–Ј–∞–ї–µ–љ¬ї (–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–∞—П –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А–∞. –°. 368). –С–µ—А–і—Л—И–Є ¬Ђ–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞¬ї –±—Л–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л, –Њ —З–µ–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї –Я. –Ь–∞—А—Б–µ–ї–Є—Б, ¬Ђ–Є —Б—В–∞–ї—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–∞—П –љ–∞ –љ–Є—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Ї–∞–Ї –≤–µ–і–µ—В—Ж–∞¬ї (–Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 389).
9 –†–Ш–С. –°–Я–±., 1907. –Ґ. 21. –Ъ–љ. 1. –°. 174; –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –°–Я–±., 1861. –Ґ. 2. –°. 27вАУ28.
10 –Э–∞–њ—А., –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –Ї–∞–Ј–љ–Њ–Ј–∞—А—П–і–љ–Њ–є –њ–Є—Й–∞–ї–Є —Б –Ј–∞—В–≤–Њ—А–Њ–Љ —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –Ш–љ–≤. вДЦ 1/12.
11 –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –і–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Є–Ї–∞ –У–∞–љ—Б–∞ –Ю–ї—М–і–µ–ї–∞–љ–і–∞ –≤ 1659 –≥–Њ–і—Г, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А–µ–Љ –Р–љ–і—А–µ–µ–Љ –†–Њ–і–µ // –£—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є. –Ь., 1997. –°. 25вАУ26. –Ю –Э. –С–∞—Г–Љ–∞–љ–µ —Б–Љ.: –Ы–Њ–±–Є–љ –Р. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З.
12 –Ю–† –†–Э–С. –§. 532. вДЦ 1379; –†–У–Р–Ф–Р. –§. 210 (–†–∞–Ј—А—П–і–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј). –Ъ–љ. –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞. –Ъ–љ. 152. –Ы. 296. –Ю—А—Г–і–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, —Б –і–ї–Є–љ–Њ–є —Б—В–≤–Њ–ї–∞ 1,5вАУ2 –∞—А—И–Є–љ–∞ –Є –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–Љ –≤ 3/4 —Д., –Є–Ј —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ ¬Ђ—Б–Њ–ї–і–∞—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞—А—П–і—Г¬ї –±—Л–ї–Є –њ—А–Є—Б–ї–∞–љ—Л –≤ –Я–µ—А–µ—Б–ї–∞–≤–ї—М-–†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є –≤ 1661вАУ1662 –≥–≥. (–Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ї –Р–Ї—В–∞–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ (–Ф–Р–Ш). –°–Я–±., 1867. –Ґ. 10. –°. 238).
13 –Ф–Р–Ш. –°–Я–±., 1853. –Ґ. 5. –°. 379.
14 –Ф–Р–Ш. –°–Я–±., 1859. –Ґ. 7. –°. 675вАУ676.
15 –Р–°–Я–±–Ш–Ш –†–Р–Э. –§. 175 (–Ш.–•. –У–∞–Љ–µ–ї—П). –Ю–њ. 1. –Ф. 248. –Ы. 2 (–ї–Є—Б—В—Л 1 –Є 2 –њ–µ—А–µ–њ—Г—В–∞–љ—Л –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є).
16 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 1 (–Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј). вДЦ 328. –°—В. 1.
17 –Ю–† –†–Э–С. –§. 532 (–Ю–°–Р–У). вДЦ 1359.
18 –Ь–∞–ї–Њ–≤ –Р.–Т. –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –≤—Л–±–Њ—А–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П –≤ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б–≤–Њ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є 1665вАУ1671 –≥–≥. –Ь., 2006. –°. 299.
19 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 311.
20 –Ю–† –†–Э–С. –§. 532. вДЦ 1923.
21 –Р–°–Я–±–Ш–Ш –†–Р–Э. –§. 175. –Ю–њ. 1. вДЦ 465; –Ы–Њ–±–Є–љ –Р.–Э. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є XVII –≤. –Ф–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—П –љ–∞ —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞–љ–Є–µ —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Ї.–Є.–љ. –°–Я–±., 2004. –Ґ–∞–±–ї. 14.
22 –Ы–Њ–±–Є–љ –Р.–Э. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є XVII –≤. –Я—А–Є–ї–Њ–ґ. II. вДЦ 7. –°. 181.
23 –Я–∞–ї—М–Љ–Ї–≤–Є—Б—В –≠—А–Є–Ї. –Ч–∞–Љ–µ—В–Ї–Є –Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є // –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є. –Я–≥., 1914. –Т—Л–њ. 53. –°. 80.
24 –Ю –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л—Е –њ—Г—И–Ї–∞—Е –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–Љ.: –Ы–Њ–±–Є–љ –Р.–Э. 1) –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –≤ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ (1613вАУ1645) // –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –†—Г—Б–Є. –Ъ 80-–ї–µ—В–Є—О –Ѓ—А–Є—П –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞. –Ь.-–°–Я–±., 2006. –°. 387; 2) –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П 1630вАУ1660 –≥–≥. –њ–Њ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г. –Ъ–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є –Є ¬Ђregementsrycke¬ї // –Р—А–Љ–Є–Є –Є –±–Є—В–≤—Л. –Р–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е. 2009. вДЦ 12. –°. 11вАУ15.
25 –Р–Ї—В—Л –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –°–Я–±., 1901. –Ґ. III. –°. 356вАУ357. вДЦ 390.
26 –Т–Є—В–µ–±—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞—А–Є–љ–∞. –Т–Є—В–µ–±—Б–Ї, 1885. –Ґ. IV. –°. 376.
27 –Ф–µ–ї–∞ –Ґ–∞–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ // –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞. –°–Я–±., 1907. –Ґ. 21. –Ъ–љ. 1. –°. 927.
28 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 986.
29 –Х–њ–Є—Д–∞–љ–Њ–≤ –Я. –Я. –Ю—А—Г–ґ–Є–µ // –Ю—З–µ—А–Ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л XVII –≤–µ–Ї–∞. –Ь., 1978. –І. 1. –°. 277.
30 –Ъ—Г—А—Ж –С. –Ъ. –°–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Ъ–Є–ї—М–±—Г—А–≥–µ—А–∞ –Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ –≤ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞. –Ъ–Є–µ–≤, 1915. –°. 166.
31 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 1. –Ф. 8725. –Ы. 1вАУ18.
32 –Р—А—Е–Є–≤ –°–Я–±–Ш–Ш –†–Р–Э. –§. 175. –Ю–њ. 1. –Ф. 248. –Ы. 1.
33 –Э–∞–њ—А.: –†–У–Р–Ф–Р. –§. 210. –°—В. –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞. –°—В. 1210. –Ы. 193вАУ194 (–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Є –≥—А–∞–љ–∞—В–љ—Л—Е –і–µ–ї —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –≤ —А–µ–є—В–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї –ѓ. –Ю–і–Њ–≤—А–Є–љ–∞, 1672 –≥.).
34 –Ы–Њ–±–Є–љ –Р. –†–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –Ш–≤–∞–љ –У–µ–±–і–Њ–љ // –†–Њ–і–Є–љ–∞. –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї. 2003. вДЦ 5/6. –°. 29.
35 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 210. (–†–∞–Ј—А—П–і–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј). –Ъ–љ. –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞. –Ъ–љ. 98. –Ы. 57.
36 –Ю–† –†–Э–С. –§. 532. (–Ю–°–Р–У). вДЦ 1923. –Ю—В—А—Л–≤–Њ–Ї –љ–∞ 1 —Б—Б—В.
37 –Ъ–љ–Є–≥–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–љ–∞—П –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г –љ–∞—А—П–і—Г –Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–Є–њ–∞—Б–∞–Љ –≥. –°–µ–≤—Б–Ї–∞ // –†–У–Р–Ф–Р. –§. 210. (–†–∞–Ј—А—П–і–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј). –Ъ–љ–Є–≥–Є –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞. –Ъ–љ. 98. –Ы. 125.
38 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 210. (–†–∞–Ј—А—П–і–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј). –Ъ–љ. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞. –Ъ–љ. 66. –Ы. 137.
39 –Ь–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ы.–Ъ. –†—Г—З–љ–Њ–µ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XIVвАУXVIII –≤–≤. –Ъ–∞—В–∞–ї–Њ–≥. –Ь., 1990. –°. 185вАУ188.
40 –Ґ–∞–Ї, –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ –°–∞–љ-–†–µ–Љ–Є 1697 –≥–Њ–і–∞ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–≥–Њ ¬Ђ–≥—А–∞–љ–∞—В–Њ–Љ–µ—В–∞¬ї, —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –≥—А–∞–љ–∞—В–∞–Љ–Є –њ–Њ–і —Г–≥–ї–Њ–Љ –≤ 45¬∞ (SurireydeSt. Remy. Memoires dвАЩArtillerie. Paris. 1697. P. 232). –Т–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVII вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ XVIII –≤–≤. –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –Љ–Њ—А—В–Є—А—Л-¬Ђ–Ї—Г—А–Њ–њ–∞—В–Ї–Є¬ї, —Б—В–≤–Њ–ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В—М—О –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–Љ–Є 3-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –Љ–Њ—А—В–Є—А–Ї–∞–Љ–Є. –Я—А–Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–µ —А—Г—З–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–∞—В—Л —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≥—А–∞–љ–∞—В–Њ–є, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ ¬Ђ—Б—В–∞–µ –Ї—Г—А–Њ–њ–∞—В–Њ–Ї¬ї (Le Blond. Treatise of Artillery: or of the Arms and MachinesвА¶ London, MDCCXLVI. IX. Fig. 5вАУ6).
41 –Ю –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –њ—Г—И–Ї–∞—Е –≤ XVI –≤. —Б–Љ.: –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р.–Э. –Ь–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є (–Ш–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П VIвАУXV –≤–≤.) // –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –°–°–°–† (–Ь–Ш–Р). 1958. вДЦ 77. –°. 25.
42 –С—Г—Е–љ–µ—А –Ш.–Ч. –£—З–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –∞—А—В–Є–ї–µ—А–Є–Є, –Є–ї–Є –≤–љ—П—В–љ–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –≤ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—О—Й–Є—П—Б—П –∞—А—В–Є–ї–µ—А–Є–Є. –Ь., 1711. –І. 2. –°. 187вАУ188.
43 –Ю–† –†–Э–С. –§. 532 (–Ю–°–Р–У). вДЦ 1811.
44 –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –Ї–∞—А—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—В–ї–∞—Б –У–µ—В–Ї–∞–љ—В–∞ ¬ЂTopographica practika conscripta et recognita per Fridericum Getkant Mechanicum. Anno 1638¬ї (K. Beauplaniana. Warszawa, 1934. S. 7вАУ14).
45 –†–Ш–С. –°–Я–±., 1904. –Ґ. 23. –Ъ–љ. 1. –°. 407, 419, 430, 437.
46 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 210 (–†–∞–Ј—А—П–і–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј). –°—В. –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞. –°—В. 623. –Ы. 356, 357.
47 –Ю–† –†–Э–С. –§. 532 (–Ю–°–Р–У). вДЦ 1886. –Ы. 1.
48 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 1 (–Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј). вДЦ 348. –°—В. 1вАУ4.
49 –Ю–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –Ї —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ ¬Ђ–Ї –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ –њ—Г—И–Ї–∞–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–љ—Л—Е –≥–≤–Њ–Ј–і–µ–є —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ, –і–∞ —Б–Ї–Њ–±—Л –Є –Ї—А—О–Ї–Є —В–Њ–ґ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ¬ї. (–Р–Ї—В—Л, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ—Б—П –Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–љ—В–∞ // –І—В–µ–љ–Є—П –≤ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е. –Ъ–љ. IV. 1883. –°. 76вАУ77).
50 –Ѓ—Е–Є–Љ–µ–љ–Ї–Њ –Х.–Ь. –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ 1668вАУ1676 –≥–≥. –Є —Б—В–∞—А–Њ–Њ–±—А—П–і—З–µ—Б–Ї–∞—П ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Њ –Њ—В—Ж–∞—Е –Є —Б—В—А–∞–і–∞–ї—М—Ж–∞—Е —Б–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є—Е¬ї // –Р—А—Е–Є–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Ь., 1992. –Т—Л–њ. 2. –°. 84.
51 –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–∞—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М // –Я–°–†–Ы. –Ы., 1977. –Ґ. 33. –°. 219.
52 –Я–∞–ї—М–Љ–Ї–≤–Є—Б—В –≠. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 80.
53 –І–µ—А–љ–Њ–≤ –Р.–Т. –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤ XVвАУXVII –≤–≤. –Ь., 1954. –°. 176.
54 –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –і–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Є–Ї–∞ –У–∞–љ—Б–∞ –Ю–ї—М–і–µ–ї–∞–љ–і–∞ –≤ 1659 –≥–Њ–і—Г, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А–µ–Љ –Р–љ–і—А–µ–µ–Љ –†–Њ–і–µ. –°. 25вАУ26. –Я–µ—А–≤—Л–є —Б–ї—Г—З–∞–є –Њ—В–ї–Є–≤–Ї–Є —А–∞–Ј–±–Њ—А–љ–Њ–є, –Є–ї–Є ¬Ђ—Б–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–є¬ї, –Љ–Њ—А—В–Є—А—Л —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1692 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ь. –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤ –Њ—В–ї–Є–ї ¬Ђ–њ—Г—И–Ї—Г –≤–µ—А—Е–Њ–≤—Г—О —Б–Ї–ї–∞–і–љ—Г—О –≥—А–∞–љ–∞—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г–њ—Г–і–Њ–≤—Г—О¬ї (–Ъ–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤ –Х.–Х. –†–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVII –≤–µ–Ї–∞ // –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є. –Ґ. 1. 1962. –°. 266), –Ј–∞ —З—В–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї ¬Ђ–њ–Њ—А—В–Є—Й–µ —Б—Г–Ї–љ–∞ –Ї–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ—Г, –Љ–µ—А–Њ—О 5 –∞—А—И–Є–љ¬ї (–Х—Б–Є–њ–Њ–≤ –У.–Т. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –≤—Л–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є–Ј –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л—Е –±—Г–Љ–∞–≥ –Њ –Я–µ—В—А–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ. –Ь., 1872. –Ґ. 1. –°. 310).


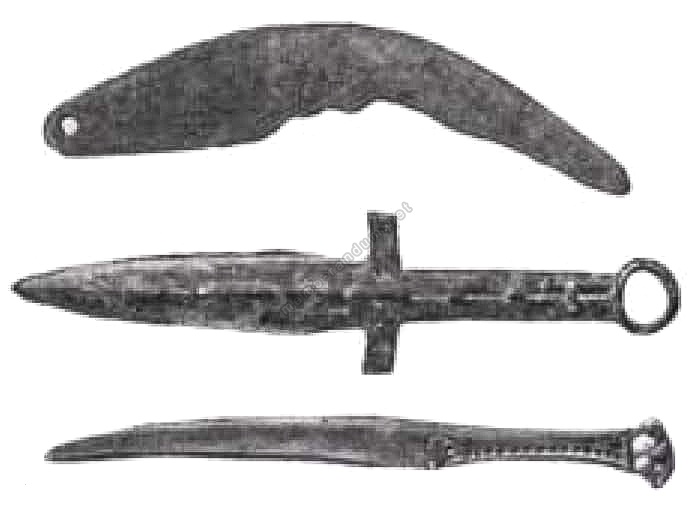


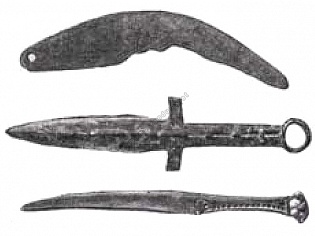



–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є