–Ь–Њ–і–µ–ї–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –Ы—Л—Б–Њ–≤ –Ь.–Ѓ. (–С–∞—А–љ–∞—Г–ї)
–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –Ґ—А–µ—В—М–µ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 16вАУ18 –Љ–∞—П 2012 –≥–Њ–і–∞
–І–∞—Б—В—М II–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥
–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2012
¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2012
¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2012
–Т–Ю–Ю–†–£–Ц–Х–Э–Ш–Х –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞—В—М—П—Е –Є —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –Њ–±–Њ–±—Й–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞1. –Ч–∞—З–∞—Б—В—Г—О –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—В –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є, –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –≤—Б—О —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П –і–∞–љ–љ—Л—Е. –Т –љ–∞—И–µ–є —Б—В–∞—В—М–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –≤–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –љ–∞—Г—З–љ—Л–є –Њ–±–Њ—А–Њ—В –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤, —З—В–Њ –і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–∞—В—М –Є—Е –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Ї –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–≤, –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Р–ї—В–∞—П –≤ —Б–Ї–Є—Д–Њ-—Б–∞–Ї—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Љ–µ–ї–Њ —В—А–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –≤–Є–і–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є—П вАУ –ї—Г–Ї —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є, –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї—Л –Є —З–µ–Ї–∞–љ—Л, —З—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Г –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —О–ґ–љ–Њ-—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–∞-–ї—Г—З–љ–Є–Ї–∞. –Ы–µ–≥–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞ ¬Ђ–њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Ж–µ–≤¬ї –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ –љ–∞–±–Њ—А–Њ–Љ –і–ї—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—П (–ї—Г–Ї –Є —Б—В—А–µ–ї—Л), –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –±–Њ—П –≤ –Ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Є –њ–µ—И–µ–Љ —Б—В—А–Њ—О (—З–µ–Ї–∞–љ—Л) –Є —А—Г–Ї–Њ–њ–∞—И–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—П –≤ —Б–њ–µ—И–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б—В—А–Њ—О (–Ї–Є–љ–ґ–∞–ї—Л)2.
–Ф–ї—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤–Њ—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Я–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–Њ–і–µ–ї—П–Љ–Є, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –і–ї—П –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А—П–і–∞. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ –≤ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Є —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П.
–Я–Њ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ—Б—П –і–∞–љ–љ—Л–Љ, –љ–∞ –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞—О—Й–µ–є —Б –Ј–∞–њ–∞–і–∞ –Ї –Р–ї—В–∞—О —А–∞–≤–љ–Є–љ–µ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б —Б–∞–Ї—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є—А–Њ–Љ, –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї—Л –Є —З–µ–Ї–∞–љ—Л –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞ —Г–ґ–µ –љ–∞ —Д–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –∞—А–ґ–∞–љ–Њ-–Љ–∞–є—Н–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Т —А–∞–љ–љ–Є—Е –Ї–∞–Љ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –±—Л—Б—В—А—П–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А—Л3. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ–±–Є–ї–Є–µ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л—Е –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–≤, —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–є.
–Т –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–≤ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ 110 –Є–Ј 177 –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –≠—В–Њ —Ж–µ–ї—М–љ—Л–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –Є –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–µ –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—Е –≤–Њ—В–Є–≤–љ—Л–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –±—А–Њ–љ–Ј—Л, —А–Њ–≥–∞ –Є –і–µ—А–µ–≤–∞. –°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–± 11 –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞—Е –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ—Л –≤ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –°–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—П—В–Є —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –і–∞—В—М –Є–Љ –њ–Њ–ї–љ—Г—О —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї—Г.
–Я—А–Є –Љ–Њ—А—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –≤–µ—Й–µ–є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —В–∞–Ї–Є–Љ –Љ–∞—А–Ї–µ—А–Њ–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є—В —А–∞–Ј–Љ–µ—А. –Ф–ї–Є–љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В–Є –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л—Е –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є–є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–µ–±–ї–µ—В—Б—П –Њ—В 19 –і–Њ 22,5 —Б–Љ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П –Ї–∞–Ї –Љ–µ–љ—М—И–Є—Е, —В–∞–Ї –Є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Э–∞–ї–Є—З–Є–µ –Є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–є –Є –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–є —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–∞. –£ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–Њ—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є–Ј–і–µ–ї–Є–є —Н—В–Є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –ї–Є—И—М –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є, –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–Љ–Є, —З–∞—Б—В–Њ –∞—Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ—Л–Љ–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–Љ–Є.
–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –Љ–∞—Б—Б–∞ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л—Е –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–≤, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П—Е, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є–Є –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–Њ–≤. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–Њ–њ–Є–Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Є–Ј –љ–Њ–ґ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞—В–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Є —Б–љ–∞–±–ґ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ–Љ (–Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ)4.
–Ъ –≥—А—Г–њ–њ–µ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ–Є–є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В –≤—Б–µ –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є–Є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–≤ –і–ї–Є–љ–Њ–є 16вАУ20 —Б–Љ. –Ф–ї—П –љ–Є—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞ –≥—А—Г–±–∞—П –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –ї–Є—В—М—П, –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–µ, –љ–µ –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–µ –Є –љ–µ –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є. –Э–∞–≤–µ—А—И–Є–µ –Є –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В—М–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ —П—Б–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ—Л, —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ–і–њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Є –±—А—Г—Б–Ї–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л, —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П —В—Г–њ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Є ¬Ђ–±–∞–±–Њ—З–Ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л–µ¬ї –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В—М—П. –Я—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї –Є–Ј –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –£–ї–∞–љ–і—А—Л–Ї-II, –Ї. 75. –≠—В–Њ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–њ–Є—П —Б —В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ –њ–Њ–і–њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ–Љ —Б–Њ —Б–Ї—А—Г–≥–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Г–≥–ї–∞–Љ–Є, –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ–є —А—Г–±—З–∞—В–Њ–є —А—Г—З–Ї–Њ–є, ¬Ђ–±–∞–±–Њ—З–Ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л–Љ¬ї –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В—М–µ–Љ, —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ –Ї–Є–ї–µ–≤–Є–і–љ—Л–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ —Б –њ—А–Њ—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–Љ —А–µ–±—А–Њ–Љ –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ—Б—В–Є. –Ю–љ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ–Є –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А–∞–Љ–Є: –Њ–±—Й–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ вАУ 21 —Б–Љ, –і–ї–Є–љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ вАУ 12 —Б–Љ, –і–ї–Є–љ–∞ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є вАУ 9 —Б–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ вАУ 2,2 —Б–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ —З–µ—А–µ–љ–∞ вАУ 1,8 —Б–Љ, –і–ї–Є–љ–∞ —З–µ—А–µ–љ–∞ вАУ 6 —Б–Љ. –Ь–∞–ї–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ —З–µ—А–µ–љ–∞, –љ–µ–Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–µ –Є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–µ –і–µ—В–∞–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Ї –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–∞–Љ –Є–ї–Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї –љ–Є–Љ –Ї–Њ–њ–Є—П–Љ.
–Ъ –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–љ—Л–Љ –Ї–Њ–њ–Є—П–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –≤—Б–µ –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є–Є –і–ї–Є–љ–Њ–є –і–Њ 15вАУ16 —Б–Љ. –Ю–±—Л—З–љ–Њ —Н—В–Њ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—З–∞—В—Л–µ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П, —Б–Њ —Б–ї–∞–±–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ–Љ –Є –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В—М–µ–Љ, –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –ї–Є—И—М –≤ –≤–Є–і–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е, —З–∞—Б—В–Њ –∞—Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В—Г–њ–Њ–≤, –±–µ–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–ї–Є—В–µ–є–љ–Њ–є –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є. –Я—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є–Є –Є –±–∞–ї–∞–љ—Б –≤ —В–∞–Ї–Є—Е –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П—Е —Б–Є–ї—М–љ–Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ—Л, —З–∞—Б—В–Њ –і–ї–Є–љ–∞ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–µ—В –і–ї–Є–љ—Г –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Є–ї–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–∞–≤–љ–∞ –µ–є. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–њ–Є—П –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–∞ –Є–Ј –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –С–Њ—А–Њ—В–∞–ї-II, –Ї. 26. –Х–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є (–Њ–±—Й–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ вАУ 11 —Б–Љ, –і–ї–Є–љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ вАУ 6,6 —Б–Љ, –і–ї–Є–љ–∞ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є вАУ 4,4 —Б–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ вАУ 1,3 —Б–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ —З–µ—А–µ–љ–∞ вАУ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1 —Б–Љ, –і–ї–Є–љ–∞ —З–µ—А–µ–љ–∞ вАУ 3 —Б–Љ) –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –і–∞–љ–љ—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М –Ї –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–љ—Л–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—О—В –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є–ї–Є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–±—Л—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П.
–Ю—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Г–і–µ–ї–Є—В—М —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л—Е –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–≤, –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї –±–Њ–µ–≤—Л–Љ, –і–ї–Є–љ–Њ–є 25вАУ30 —Б–Љ. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В –Ї–∞–Ї –Ї –±–Њ–µ–≤—Л–Љ, —В–∞–Ї –Є –Ї –≤–Њ—В–Є–≤–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ—В–Ї–Њ –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є –Є —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А—Л, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ї –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Н—В–Є—Е –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–є. –Ъ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї—Л –Є–Ј –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –£–ї–∞–љ–і—А—Л–Ї-III, –Ґ—Л—В–Ї–µ—Б–Ї–µ–љ—М-VI, –Ъ–∞–є–љ–і—Г, –Ъ–∞—А–∞-–Ґ–µ–љ–µ—И –Є –і—А.7 –Ґ–∞–Ї–Є–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—П–Љ–Є, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≤ –≤–Є–і–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤ –≥—А–Є—Д–Њ–љ–Њ–≤, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ—Л—Е –і—А—Г–≥ –Ї –і—А—Г–≥—Г, –≥–ї–∞–і–Ї–Њ–є –Є–ї–Є —А—Г–±—З–∞—В–Њ–є —А—Г–Ї–Њ—П—В—М—О, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–Ї—А—Л—В–∞ –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї —З–∞—Б—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В —А–µ–±—А–Њ –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ—Б—В–Є. –ѓ—А–Ї–Є–є –њ—А–Є–Љ–µ—А вАУ –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї –Є–Ј –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ґ—Л—В–Ї–µ—Б–Ї–µ–љ—МVI, –Ї. 48. –≠—В–Њ—В –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ–Є –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А–∞–Љ–Є: –Њ–±—Й–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ вАУ 25,3 —Б–Љ, –і–ї–Є–љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ вАУ 15,8 —Б–Љ, –і–ї–Є–љ–∞ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є вАУ 9,5 —Б–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ вАУ 2,5 —Б–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ —З–µ—А–µ–љ–∞ вАУ 1,5 —Б–Љ. –Я—А–Є —Н—В–Є—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞—Е –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –±–Њ–µ–≤—Л–Љ, –љ–Њ —Б–Љ—Г—Й–∞–µ—В –Љ–∞–ї–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ —З–µ—А–µ–љ–∞ вАУ 5,7 —Б–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –і–µ—А–ґ–∞—В—М –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї (–Ї–Є—Б—В—М —А—Г–Ї–Є –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–µ—В—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ–Љ –Є –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В—М–µ–Љ). –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –і–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–Њ–њ–Є–µ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞, –љ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –і–ї—П –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ —Б —Г—Б–Њ–њ—И–Є–Љ –≤ —Б–Є–ї—Г –Ї—Г–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е –Є–ї–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Є—З–Є–љ. –Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ, –Ї –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П–Љ —Н—В–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Њ—П–≤–Є—В—М –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ—Г–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ—З–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Є—Е –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є.
–Ъ—А–∞–є–љ–µ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є –≤–Њ—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–њ–Є–Є –Є–Ј –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—З–∞—В–Њ–≥–Њ –љ–Њ–ґ–∞. –Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Г –љ–µ–≥–Њ –Ј–∞—В–∞—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б–њ–Є–љ–Ї–∞, –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є–ї–Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ, –Є–Љ–Є—В–Є—А—Г—П –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л–є –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–∞. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–Њ–ґ—Г –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ вАУ –£–ї–∞–љ–і—А—Л–Ї-V, –Ї. 19, –љ–Њ —З–∞—Й–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–Њ–ґ–Є —Б –Ї–Њ–ї—М—Ж–µ–≤–Є–і–љ—Л–Љ–Є –Є–ї–Є –њ–Њ–і–Њ–≤–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—П–Љ–Є: –С–∞—А–±—Г—А–≥–∞–Ј—Л-I, –Ї. 21; –£–ї–∞–љ–і—А—Л–Ї&III, –Ї. 6. –Ь–Њ–і–µ–ї–Є, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –љ–Њ–ґ–µ–є, –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В—М—П, –∞ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—П –±—Л–≤–∞—О—В –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –Є –і–∞–ґ–µ –Є–Ј –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ (–і–µ—А–µ–≤–∞). –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–њ–∞–і–∞—В—М –≤ –≥—А—Г–њ–њ—Л —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ—Л—Е –Є–ї–Є –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–љ—Л—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є. –Т —Б–Є–ї—Г –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П —В–∞–Ї–Є—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є –Є –Ї–Њ–њ–Є–є, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—О—Й–Є—Е —Д–Њ—А–Љ—Г –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–Њ–≤, –Є—Е —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є–є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є–љ—Л–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Л –Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –±–Њ–ї–µ–µ —Б—Е–Њ–і–љ—Л–µ —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ–Љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –љ–Њ–ґ–µ–є.
–Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–≤ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–ї–Є–љ–∞ —З–µ—А–µ–љ–∞. –£ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є –Њ–љ–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤ —А—Г–Ї–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —П–≤–љ–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є. –Ю–±—Л—З–љ–Њ –і–ї–Є–љ–∞ —З–µ—А–µ–љ–∞ –љ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–µ—В 9 —Б–Љ. –Э–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П –ґ–µ –і–ї–Є–љ–∞ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ —Г –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є —Б –Њ–±—Й–µ–є –і–ї–Є–љ–Њ–є 21вАУ24 —Б–Љ, —З–∞—Б—В–Њ –і–ї–Є–љ–љ—Л–є —З–µ—А–µ–љ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Г –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —П–≤–љ–Њ –љ–µ –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞–Љ–Є (–Ъ–∞—Б—В–∞—Е—В–∞, –Ї. 28, –Ї. 34; –Ь–∞–ї—В–∞–ї—Г-IV, –Ї. 18 –Є –і—А.).
–†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –≤—Б–µ –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї—Л –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Є –≤–Њ—В–Є–≤–љ—Л–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –і–µ–ї—П—В—Б—П –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥—А—Г–њ–њ: –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї –±–Њ–µ–≤—Л–Љ, —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ—Л–µ –Є –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–љ—Л–µ –Ї–Њ–њ–Є–Є. –Я–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї—Г вАУ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Г вАУ –Є—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ:
1) –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї—Л: –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 30 —Б–Љ –Є –±–Њ–ї–µ–µ;
2) –Љ–Њ–і–µ–ї–Є, –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї –±–Њ–µ–≤—Л–Љ: 25вАУ30 —Б–Љ;
3) —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є: 16вАУ23 —Б–Љ;
4) –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–љ—Л–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є: –Љ–µ–љ–µ–µ 15 —Б–Љ.
–Т —Е–Њ–і–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ—Л 94 –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–∞ –Є–Ј –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–є –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –Ю–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –Є—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А, –Ї–∞–Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П, –Є—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –≤—Л—И–µ –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ.
–Т –≥—А—Г–њ–њ—Г –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є, –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї –±–Њ–µ–≤—Л–Љ, –≤–Њ—И–ї–Є —Б–µ–Љ—М –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–≤. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ –Ї –≤—В–Њ—А–Њ–є –Є–ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Є –Є–Љ–µ—О—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ –і–ї—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–Њ–≤. –Ъ —В–∞–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ вДЦ 1 –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –£–ї–∞–љ–і—А—Л–Ї-IV. –Х–≥–Њ –Њ–±—Й–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 28 —Б–Љ, –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Г—О –і–ї–Є–љ—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ —А–∞—Б–њ–∞–ї—Б—П –љ–∞ –і–≤–µ —З–∞—Б—В–Є. –Ф–∞–љ–љ—Л–є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї –Є–Љ–µ–µ—В –њ–Њ–і–Њ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–µ–≤–Є–і–љ–Њ–µ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ, –њ—А–Њ—А–µ–Ј–љ—Г—О –њ–ї–Њ—Б–Ї—Г—О —А—Г–Ї–Њ—П—В—М, —Б–ї–∞–±–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–і–њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ–µ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В—М–µ –Є —Г–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–љ—Л–є –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї. –°–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П (–Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ –Є–Ј –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–ї–Є–љ–∞, —З–µ—А–µ–љ –і–ї–Є–љ–Њ–є 7 —Б–Љ), —В–∞–Ї –Є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є (–њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —А–µ–±—А–∞ –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–ї—М—Ж–µ–≤–Є–і–љ–Њ–µ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ, –±–Њ–ї–µ–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–µ –і–ї—П –љ–Њ–ґ–µ–є) –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–µ—Б—В–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є. –С—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї –Є–Ј –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –£–ї–∞–љ–і—А—Л–Ї-III, –Ї. 1 –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –µ–≥–Њ –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А—Л –Є —Е–Њ—А–Њ—И–∞—П –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –і–µ—В–∞–ї–µ–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Ї –±–Њ–µ–≤—Л–Љ.
–У—А—Г–њ–њ–∞ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Є –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±—П 50 –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–≤. –†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Є—Е –Ї–Њ–ї–µ–±–ї—О—В—Б—П –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Њ—В 15,8 –і–Њ 22,3 —Б–Љ. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л —Б—Е–Њ–ґ–Є–µ –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А—Л –Є —Д–Њ—А–Љ—Л –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Є—Е –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ–њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Њ—Б–Њ–±—Л—Е —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ—А–Є –Љ–Њ—А—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є.
–Ъ –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–љ—Л–Љ –Љ–Њ–і–µ–ї—П–Љ –±—Л–ї–Є –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л 30 –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–≤, –і–ї–Є–љ–Њ–є –Њ—В 10,6 –і–Њ 15,7 —Б–Љ.
–°—А–µ–і–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Є –њ—П—В—М –Є—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј –љ–Њ–ґ–µ–є. –Х—Б–ї–Є —Г—З–µ—Б—В—М –Є—Е –і–ї–Є–љ—Г, —В–Њ —З–µ—В—Л—А–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Ї –≥—А—Г–њ–њ–µ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ—Л—Е, –∞ –Њ–і–Є–љ –Ї –≥—А—Г–њ–њ–µ –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–љ—Л—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є. –Э–Њ –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—Л—И–µ, –Є—Е –љ–µ–ї—М–Ј—П —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –≤ –Њ–±—Й–µ–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є.
–Т 102 –Є–Ј —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–є –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ —З–µ–Ї–∞–љ—Л –Є–ї–Є –Є—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Є—Е —З–µ–Ї–∞–љ–Њ–≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ вАУ 113, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞—Е –Є—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ 2вАУ3 —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤. –Ш–Ј –љ–Є—Е 16 –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ вАУ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–µ.
–Х—Б–ї–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М –Є–Ј –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –≤—Б–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –≤ —Б–Ї–Є—Д–Њ-—Б–∞–Ї—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ, –∞ –Є–Ј –±—А–Њ–љ–Ј—Л –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є, —В–Њ –≤—Б–µ 16 –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є. –Э–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Ј –љ–Є—Е –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –≤—В–Њ–Ї–∞ (–£–ї–∞–љ–і—А—Л–Ї-IV, –Ї. 1; –£–ї–∞–љ–і—А—Л–Ї-IV, –Ї. 3 –Є –і—А.) –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ–± –Є—Е –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П–Љ. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–µ –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–µ —З–µ–Ї–∞–љ—Л —Б –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –±–Њ–є–Ї–Њ–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–ї—П —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Є –≤–Њ—В–Є–≤–љ—Л—Е —З–µ–Ї–∞–љ–Њ–≤ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤.
–°—А–µ–і–Є –≤–Њ—В–Є–≤–љ—Л—Е —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –і–≤–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л: —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ—Л–µ –Є –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–љ—Л–µ. –Х—Б–ї–Є –Њ–±—Й–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ —З–µ–Ї–∞–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є —Б–∞–љ—В–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤, —В–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –і–ї–Є–љ–Њ–є 15вАУ19 —Б–Љ, –∞ –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–љ—Л–Љ–Є вАУ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П –Љ–µ–љ–µ–µ 15 —Б–Љ –і–ї–Є–љ–Њ–є.
–Ъ–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Њ–Ї –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –Ѓ–≥–Њ-–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Р–ї—В–∞—П, —Г –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–Њ—В–Є–≤–љ—Л—Е —З–µ–Ї–∞–љ–Њ–≤ —Б–µ—З–µ–љ–Є–µ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –±—Л–ї–Њ –Ї—А—Г–≥–ї—Л–Љ. –Э–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е) –Є–Љ–µ–ї–Є –Њ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–µ—З–µ–љ–Є–µ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ–∞—П –Ї –Њ–±—Г—И–Ї—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –Њ–Ї—А—Г–≥–ї–∞—П, –∞ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ–∞—П –Ї –±–Њ–є–Ї—Г —Б—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Г—Б, –Њ–±—А–∞–Ј—Г—П –≤–і–Њ–ї—М —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є —А–µ–±—А–Њ. –Ґ–∞–Ї–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ –µ–є –њ—А–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Є –і–µ–ї–∞–ї–∞ —А—Г–Ї–Њ—П—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —Г–і–Њ–±–љ–Њ–є –і–ї—П —Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є –≤ –Ј–∞–ґ–∞—В–Њ–є —А—Г–Ї–µ. –Т.–Ф. –Ъ—Г–±–∞—А–µ–≤10 –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ —Н—В–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —А—Г–Ї–Њ—П—В–µ–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ—З–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—В—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ —З–µ–Ї–∞–љ—Л –Њ—В –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є–є.
–Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ –Є —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В—А–µ–ї. –†–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л, –Є —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–і—В–Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Г –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ъ –≤–Њ—В–Є–≤–љ—Л–Љ, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Є, –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –і–µ—А–µ–≤–∞ (–Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —В–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤), –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–∞—Е –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤ —Б—В—А–µ–ї11. –Ч–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —Б–ї—Г—З–∞–Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤ –±–µ–Ј –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–ї–Є –Є—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Т.–Ф. –Ъ—Г–±–∞—А–µ–≤–∞12, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Н—В–Њ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ –µ–і–Є–љ–∞—П –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П вАУ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—В—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –≤–µ—Й–Є –Є—Е –Љ–Њ–і–µ–ї—П–Љ–Є –Є–ї–Є –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–љ—Л–Љ–Є –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є—П–Љ–Є, —З—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б—В—А–µ–ї.
–Ш–Ј –Љ–∞—Б—Б—Л –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М —Б–µ—А–Є—О –Є–Ј 17 –Ї—Г—А–≥–∞–љ–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ–і–µ–ї—П–Љ–Є. –Т –і–∞–љ–љ—Л—Е –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П—Е –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М –ї–Є–±–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—А–µ–≤–Ї–Є —Б—В—А–µ–ї, –ї–Є–±–Њ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є–Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В—А–µ–ї. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є–Є –ї—Г–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —Б–Њ–≥–љ—Г—В–Њ–≥–Њ —В–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А—Г—В–∞13. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є–Є –ї—Г–Ї–Њ–≤ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л –і–ї—П –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–є –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞.
–Т –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —А–Њ–ї—М –Є–≥—А–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–і–µ–ї–Є–є –Є–Ј –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤. –Ю–љ–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–Њ—Е–Њ–і—П—В –і–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, –∞ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ—Б—П –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В—Б—П –≤ –≤–Є–і–µ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П–µ—В –Є—Е –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є.
–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П—Е вАУ —Н—В–Њ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є, –Њ–љ–Є —В–∞–Ї–ґ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –і–ї—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –Т–Њ—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Ї–Њ–њ–Є—А—Г—О—В –±–Њ–µ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –Є—Е –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ. –Ш–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–∞–Љ–Є—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—Л, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–±—А—П–і–µ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –І–µ—В–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Є –≤–Њ—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є–Ј–і–µ–ї–Є–є –Є —Б–Њ–Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –Є—Е —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В —Г—В–Њ—З–љ–Є—В—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–љ—Л—Е –Є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Љ–Є–ї–Є—В–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞.
1 –Ъ–Є—А—О—И–Є–љ –Ѓ.–§., –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –Э.–§. –°–Ї–Є—Д—Б–Ї–∞—П —Н–њ–Њ—Е–∞ –У–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Р–ї—В–∞—П. –І. III: –Я–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Л —Б–Ї–Є—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –°—А–µ–і–љ–µ–є –Ъ–∞—В—Г–љ–Є. –С–∞—А–љ–∞—Г–ї, 2004; –Ъ–Њ—З–µ–≤ –Т.–Р. –С–Њ–µ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Ж–µ–≤ // –Ф—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Р–ї—В–∞—П. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –У–Њ—А–љ–Њ-–Р–ї—В–∞–є—Б–Ї. 1999–∞, вДЦ 4. –°. 74вАУ82; –Ъ—Г–±–∞—А–µ–≤ –Т.–Ф. –Ъ–Є–љ–ґ–∞–ї—Л –Є–Ј –У–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Р–ї—В–∞—П // –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –°–Є–±–Є—А–Є –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 1981. –°. 29вАУ54.
2 –Ъ–Њ—З–µ–≤ –Т.–Р. –Т–Њ–Є–љ—Л –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ // –Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –і—А–µ–≤–љ–µ–є –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –У–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Р–ї—В–∞—П. –У–Њ—А–љ–Њ&–Р–ї—В–∞–є—Б–Ї, 1990–∞. –°. 105вАУ118.
3 –Ъ–Є—А—О—И–Є–љ –Ѓ.–§., –Ъ—Г–љ–≥—Г—А–Њ–≤ –Р.–Ы. –Ь–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –°—В–∞—А–Њ–∞–ї–µ–є–Ї–∞-2 // –Я–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—А—П–і –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –Р–ї—В–∞—П. –С–∞—А–љ–∞—Г–ї, 1996. –°. 115вАУ134.
4 –Ъ—Г–±–∞—А–µ–≤ –Т. –Ф. –Ъ—Г—А–≥–∞–љ—Л –£–ї–∞–љ–і—А—Л–Ї–∞. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 1987.
5 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 249.
6 –Ь–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Т.–Р., –°—Г—А–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Р.–°. –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –і–Њ–ї–Є–љ–∞—Е —А–µ–Ї –С–Њ—А–Њ—В–∞–ї –Є –Р–ї–∞–≥–∞–Є–ї // –°–Р. 1980. вДЦ 2. –°. 180вАУ191.
7 –Ъ–Є—А—О—И–Є–љ –Ѓ.–§., –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –Э.–§. –°–Ї–Є—Д—Б–Ї–∞—П —Н–њ–Њ—Е–∞ –У–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Р–ї—В–∞—П. –І. III; –Ъ—Г–±–∞—А–µ–≤ –Т.–Ф. –Ъ—Г—А–≥–∞–љ—Л –£–ї–∞–љ–і—А—Л–Ї–∞; –Ю–љ –ґ–µ. –Ъ—Г—А–≥–∞–љ—Л –Ѓ—Б—В—Л–і–∞. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 1991.
8 –Ъ–Є—А—О—И–Є–љ –Ѓ.–§., –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –Э.–§. –°–Ї–Є—Д—Б–Ї–∞—П —Н–њ–Њ—Е–∞ –У–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Р–ї—В–∞—П. –І. III. –°. 54.
9 –Ъ—Г–±–∞—А–µ–≤ –Т.–Ф. –Ъ—Г—А–≥–∞–љ—Л –£–ї–∞–љ–і—А—Л–Ї–∞. –°. 282.
10 –Ю–љ –ґ–µ. –Ъ—Г—А–≥–∞–љ—Л –°–∞–є–ї—О–≥–µ–Љ–∞. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 1992. –°. 67вАУ68.
11 –Ю–љ –ґ–µ. –Ъ—Г—А–≥–∞–љ—Л –£–ї–∞–љ–і—А—Л–Ї–∞. –°. 70.
12 –Ю–љ –ґ–µ. –Ъ—Г—А–≥–∞–љ—Л –°–∞–є–ї—О–≥–µ–Љ–∞. –°. 76.
13 –Ю–љ –ґ–µ. –Ъ—Г—А–≥–∞–љ—Л –£–ї–∞–љ–і—А—Л–Ї–∞. –°. 69.








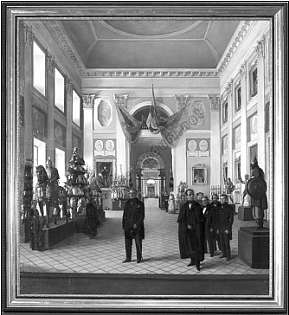
–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є