╨Ь.╨Т. ╨С╨░╨▒╨╕╤З (╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨░) ╨Ъ ╨Я╨а╨Ю╨С╨Ы╨Х╨Ь╨Х ╨Т╨Ю╨Х╨Э╨Э╨Ю╨У╨Ю ╨г╨Я╨а╨Р╨Т╨Ы╨Х╨Э╨Ш╨п 1730-╤Е ╨У╨Ю╨Ф╨Ю╨Т: ╨Т╨Ю╨Ъ╨а╨г╨У ╨Ъ╨Ю╨Ь╨Ш╨б╨б╨Р╨а╨Ш╨Р╨в╨Р
╨г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤Г╨╗╤М╤В╤Г╤А╤Л ╨Ь╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨░╤П ╨Р╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤П ╤А╨░╨║╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨╜╨░╤Г╨║ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕
╨з╨░╤Б╤В╤М I╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│
┬й╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б, 2016
┬й╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤В╨╕╨▓ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨▓, 2015
┬й ╨б╨Я╨▒╨У╨г╨Я╨в╨Ф, 2016
╨Ч╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╡╤Д╨╛╤А╨╝╤Л 1730-╤Е ╨│╨│. ╨┐╨╡╤А╨╡╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ 26 ╤П╨╜╨▓╨░╤А╤П 1736 ╨│. ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨╜╨░ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╣, ╤З╨╡╨╝ ╨┐╤А╨╡╨╢╨┤╨╡, ╤Ж╨╡╨╜╤В╤А╨░╨╗╨╕╨╖╨░╤Ж╨╕╨╕ ╤Г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨░╤А╨╝╨╕╨╡╨╣1 тАУ ╤Д╨░╨║╤В ╨▒╨╡╤Б╤Б╨┐╨╛╤А╨╜╤Л╨╣ ╨╕ ╨▓ ╤В╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨╜╨╡ ╨║╨╛╤А╤А╨╡╨╗╨╕╤А╤Г╤О╤Й╨╕╨╣╤Б╤П ╤Б ╨║╨░╨║╨╕╨╝-╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨╝╨░╤Б╤И╤В╨░╨▒╨╜╤Л╨╝ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╝ ╤Б╨╛╨▒╤Л╤В╨╕╨╡╨╝. ╨Т╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨┐╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨╕ ╨▓╤Б╤П ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В╨░╤П ╤В╨╛╨│╨┤╨░ ╨░╨║╤Ж╨╕╤П, ╨▓ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨╕╨╡ ╨╛╤В ╨┐╤А╨╡╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨Т╨╛╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ 1730 ╨│., ╨┐╤А╨╕╤Б╤В╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╤П ╨┤╨╛╨╗╨│╨╛ ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╗╨╡╨║╨░╨╗╨░.
╨Я╤А╨╛╤Ж╨╡╤Б╤Б ╨╡╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨╕ ╨▓╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗ ╨Э.╨Э. ╨Я╨╡╤В╤А╤Г╤Е╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓, ╨╖╨░╨║╨╗╤О╤З╨╕╨▓, ╤З╤В╨╛ ╨╡╨╡ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╣ ╨░╨┤╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╤А╨░╤В╨╕╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╤О╤Й╨╡╨╣ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤А╨╡╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤Ж╨╕╤П ╨У╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨Ъ╤А╨╕╨│╤Б-╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╨░ (╨┤╨░╨╗╨╡╨╡: ╨У╨Ъ╨Ъ) ╨║╨░╨║ ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨░ ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Б╨╕╨╗. ╨в╨╛╨╗╤З╨║╨╛╨╝ ╨║ ╨╜╨╡╨╣ ╤Б╤В╨░╨╗ ╨║╨╛╨╜╤Д╨╗╨╕╨║╤В ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨│╨╛ ╤Б ╨┐╤А╨╡╨╖╨╕╨┤╨╡╨╜╤В╨╛╨╝ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨│╤А. ╨С.-╨е. ╨Ь╨╕╨╜╨╕╤Е╨╛╨╝ ╨┐╨╛ ╨┐╨╛╨▓╨╛╨┤╤Г ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╤А╨║╨╕ ╤Н╤Д╤Д╨╡╨║╤В╨╕╨▓╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╛╨╗╨╕╤Ж╨╡╤В╨▓╨╛╤А╤П╨╡╨╝╤Л╤Е ╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╨╝╨░╤А╤И╨░╨╗╨╛╨╝ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣ 1731тАУ1732 ╨│╨│., ╨▓ ╤В╨╛╨╝ ╤З╨╕╤Б╨╗╨╡ ╤Б╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╤П 28 ╨╛╨║╤В╤П╨▒╤А╤П 1731 ╨│. ╨┐╨╛╨┤╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨Ъ╤А╨╕╨│╤Б-╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╨░, ╨Я╤А╨╛╨▓╨╕╨░╨╜╤В╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╨╕, ╨Ъ╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╣╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╕ ╨Ь╤Г╨╜╨┤╨╕╤А╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤В╨╛╤А ┬л╨▓ ╨╛╨┤╨╜╨╛ ╨║╤А╨╕╨│╤Б-╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╤Б╨║╨╛╨╡ ╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡┬╗, ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨б╨╡╨╜╨░╤В╤Г2. ╨Т ╤Е╨╛╨┤╨╡ ╨┤╨╕╤Б╨║╤Г╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨╛ ╤Ж╨╡╨╗╨╡╤Б╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛╨▒╤П╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╡╨╣ ╨┐╨╡╤А╨╡╤З╨╕╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Г╤З╤А╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣ (╤В╨░╨║ ╨╕╨╗╨╕ ╨╕╨╜╨░╤З╨╡ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╤А╤П╨╢╨░╨▓╤И╨╕╤Е╤Б╤П ╨░╤А╨╝╨╡╨╣╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╤А╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╨░╨╝╨╕. тАУ ╨Ь. ╨С.), ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П ╤И╨╗╨░ ╨╜╨░ ╤Д╨╛╨╜╨╡ ╨╛╨▒╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╨╗╤Г╤З╨╕╨▓╤И╨╕╨╝╤Б╤П ╨│╨╛╨╗╨╛╨┤╨╛╨╝ ╨┐╤А╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝ ╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╛╨╛╨▒╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤П, ╤Б╨╜╨╛╨▓╨░ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╨╛╨┤╨╜╤П╤В ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б ╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤Г╤И╨╜╨╛╨╝ ╤Б╨▒╨╛╤А╨╡ тАУ ╨▒╨░╨╖╨╛╨▓╨╛╨╝ ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨╡ ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨╜╨╕╤П ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║. ╨Ю╨║╨╛╨╜╤З╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨░╤П тАУ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨╜╨╡╤Г╨┤╨░╤З╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┐╤Л╤В╨║╨╕ 1727тАУ1730 ╨│╨│. тАУ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤╨░╤З╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╖╤Л╤Б╨║╨░╨╜╨╕╤П ╨╕╨╖ ╤А╤Г╨║ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╤Е ╨╜╨░ ╨╡╨│╨╛ ╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨░ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓ ╨▓╨╗╨░╤Б╤В╤П╨╝ ┬л╨│╤Г╨▒╨╡╤А╨╜╨╕╨╣ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╨▓╨╕╨╜╤Ж╨╕╨╣┬╗ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Г╤Б╨╝╨░╤В╤А╨╕╨▓╨░╨╗╨░╤Б╤М ╤В╨╡╨╝ ╨╢╨╡ ╨▓╤Л╤Б╨╛╤З╨░╨╣╤И╨╡ ╤Г╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ 26 ╤П╨╜╨▓╨░╤А╤П 1736 ╨│. ╨┤╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨╛╨╝ ╨б╨╡╨╜╨░╤В╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨▓╨╜╨╡╨┤╤А╤П╨╗ ╨▓ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╤О ┬л╨┤╨╡╨┐╨░╤А╤В╨░╨╝╨╡╨╜╤В╤Б╨║╨╕╨╣┬╗ ╨┐╤А╨╕╨╜╤Ж╨╕╨┐, ╤Г╨╢╨╡ ╨╛╨┐╤А╨╛╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨▓ ╨Р╨┤╨╝╨╕╤А╨░╨╗╤В╨╡╨╣╤Б╨║╨╛╨╣. ╨в╨░╨║ ╤З╤В╨╛ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤В╨░╨╝ ┬л╤В╨╕╨┐╨╕╤З╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╗╤П 1730-╤Е ╨│╨│. ╤Ж╨╡╨╜╤В╤А╨░╨╗╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨░╨┤╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╤А╨░╤В╨╕╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤Б╤В╤А╤Г╨║╤В╤Г╤А╤Л ╤Б ╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Д╤Г╨╜╨║╤Ж╨╕╨╣ ╨┐╨╛ ╨╛╤В╤А╨░╤Б╨╗╤П╨╝┬╗ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╤В╨╡╤Б╨╜╨╛ ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨╜╤Л╨╝ ╤Б╨╛ ╨▓╤Б╨╡╨╣ ╨┐╨╛╨┤╨░╤В╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤В╨╕╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤╨░ ╨╕ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╨╡╤З╨╜╨╛╨╝ ╤Б╤З╨╡╤В╨╡ ╨╛╨▒╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╡╤О3.
╨Т ╤Ж╨╡╨╗╨╛╨╝ ╤Б╨╛╨│╨╗╨░╤И╨░╤П╤Б╤М ╤Б ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╝, ╤Б╨╛╨╝╨╜╨╡╨▓╨░╨╡╤И╤М╤Б╤П ╤Б╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▓ ╨╢╨╡╤Б╤В╨║╨╛╨╣ ╨╖╨░╨▓╨╕╤Б╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╨╕ ╤Б╤В╨░╤В╤Г╤Б╨░ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╝╨╛╤З╨╕╨╣ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Б╤В╨▓╨░ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╨╡╤Б╨┐╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╤П, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╡ ╤В╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╨╕ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╤Б╨║╨╕╨╝, ╨░ ╨╖╨░╤В╨╡╨╝ ╨╕╨╜╤В╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤В╤Б╨║╨╕╨╝, ╨╛╤В ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╗╤П╨╡╨╝╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╜╨╡╨│. ╨б╨╗╨╛╨╢╨╕╨▓╤И╨╕╨╣╤Б╤П ╨┤╨╛ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛╨┤╤Г╤И╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┤╨░╤В╨╕ тАУ ╨▓ 1700тАУ1711 ╨│╨│., ╨┐╤А╨╕ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╕ ╤А╨╡╨│╤Г╨╗╤П╤А╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕, тАУ ╨Ъ╤А╨╕╨│╤Б-╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В ╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╤Н╨│╨╕╨┤╤Г ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨┐╨░╨┤╨╡╤В ╤Б╨╛╨▓╤Б╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╤Б ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╤Е ╨╡╨╡ ╨┤╨╜╨╡╨╣4. ╨в╨░╨║ ╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╨▓╨┤╤А╤Г╨│ ╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╤П╤Б╤М ┬л╨┐╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡╨╜┬╗ ╨▓ ┬л╨╝╤Г╨╜╨┤╨╕╤А╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛╨║╤Г╨┐╨║╨░╤Е ╨╕ ╨┐╨╛╨┤╤А╤П╨┤╨░╤Е ╨╕ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╤М╨╡┬╗, ╨╛╨╜ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╤В ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╤О ┬л╨┤╨╕╤А╨╡╨║╤Ж╨╕╤О┬╗ ╨┐╨╛╨┤╤Г╤И╨╜╤Л╨╣ ╤Б╨▒╨╛╤А ┬л╨▓╨╡╤Б╤М┬╗ 28 ╨╛╨║╤В╤П╨▒╤А╤П (12 ╨╜╨╛╤П╨▒╤А╤П) 1731 ╨│. ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б ╨┐╤А╨╛╨▓╨╕╨░╨╜╤В╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ┬л╨┤╨╡╨╗╨░╨╝╨╕┬╗. ╨д╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╨╢╨╡ ╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╕╨╝ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╕╨╡╤А╨░╤А╤Е╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╡ ╤А╨░╨▓╨╡╨╜╤Б╤В╨▓╨╛ ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨▒╤Г╨┤╨╡╤В ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╖╨░╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╛ ╨╗╨╕╤И╤М 7 ╨╝╨░╤П 1733 ╨│. ╨Ш, ╨╜╨░╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓, ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤А╨╡╨╢╨╜╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛╤А╤П╨┤╨║╨░ ╨┐╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╤П ╨▒╤О╨┤╨╢╨╡╤В╨░ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╝╨╡╤И╨░╨╡╤В ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╡╨╣ ╨┐╨╡╤А╨╡╤В╨░╤Б╨╛╨▓╨║╨╡ ╨┐╤А╨╡╤А╨╛╨│╨░╤В╨╕╨▓ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨░╨┐╨┐╨░╤А╨░╤В╨░ 25 ╤П╨╜╨▓╨░╤А╤П 1742 ╨│. ╤Б ╨▓╨╛╤Б╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Г╤В╤А╨░╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓ 1736 ╨│. ╤Б╨░╨╝╨╛╤Б╤В╨╛╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╨░ 5.
╨Ю╨▒╤А╨░╤Й╨░╤П╤Б╤М ╨╢╨╡ ╨║ ╨▓╤Л╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨Э.╨Э. ╨Я╨╡╤В╤А╤Г╤Е╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╝ ╨╕ ╤Б╨╛╨┐╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╤Б ╨╜╨╕╨╝╨╕ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╨░╨╝, ╨╖╨░╨╝╨╡╤З╨░╨╡╤И╤М, ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╤Г╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╨╝╨╛╨╜╨╛╨│╤А╨░╤Д╨╕╨╕ ╨╜╨╡╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕╤П ╨▓ ╤А╨╡╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨╡╨╡ ╨┐╤А╨╡╨╖╨╕╨┤╨╡╨╜╤В╨░, ╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╡ ╤В╤А╤Г╨┤╨╜╨╛ ╨╛╨▒╤К╤П╤Б╨╜╨╕╨╝╤Л╨╡ ╨▓ ╤А╤Г╤Б╨╗╨╡ ╨╕╨╖╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤Б╤В╨╛╤П╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░. ╨Э╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А, ╤З╤В╨╛ ╨╜╨░╨┐╨░╨┤╨║╨╕ ╨╜╨░ ╨У╨Ъ╨Ъ ╨╜╨░╤З╨╕╨╜╨░╤О╤В╤Б╤П ╨╛╤Б╨╡╨╜╤М╤О 1732 ╨│., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛ ╨╜╨╡╤Н╤Д╤Д╨╡╨║╤В╨╕╨▓╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨│╨╛╨┤╨░ ╨║╨░╨║ ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╤В╤М ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╤П╨▓╨╜╨╛ ╤А╨░╨╜╨╛, ╨╕ ╨╜╨╡ ╤Б╨▓╨╛╤А╨░╤З╨╕╨▓╨░╤О╤В╤Б╤П ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╤Г╨┐╤А╨░╨╖╨┤╨╜╨╡╨╜╨╕╤П, ╨┐╨╡╤А╨╡╨░╨┤╤А╨╡╤Б╨╛╨▓╤Л╨▓╨░╤П╤Б╤М ╨╛╤В╨║╤А╤Л╤В╤Л╨╝ ╨▓ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡ ╨░╨╗╤М╤В╨╡╤А╨╜╨░╤В╨╕╨▓╤Л ╨┐╤А╨╡╨╡╨╝╨╜╨╕╨║╨░╨╝6.
╨б╤А╨░╨╖╤Г ╨┐╨╛╨┤╤З╨╡╤А╨║╨╜╨╡╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╛╨▒╤А╨░╤Й╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨▓╤Л╨╖╨▓╨░╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╕╨╜╤В╨╡╤А╨╡╤Б╨╛╨╝ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨░ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨╣ ╤Б╤В╨░╤В╤М╨╕ ╨║ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝╤Г ╤Н╤В╨░╨┐╤Г ┬л╨╝╨╕╨╜╨╕╤Е╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣┬╗ ╤А╨╡╤Д╨╛╤А╨╝╤Л, ╨░ ╨▓╨╛╤Б╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨┤╨╛ ╤Б╨╕╤Е ╨┐╨╛╤А ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╨╜╨╡╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨╣ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╤П ╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╨╡ ╨У╨Ъ╨Ъ ╨╜╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╤Л╤Е ╨╝╤Г╨╜╨┤╨╕╤А╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨░╨╝╤Г╨╜╨╕╤З╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╡╤Й╨╡╨╣, ╨║╨░╨║ ╨▒╤Г╨┤╤В╨╛ ╨╛╤В╤Б╤Л╨╗╨░╨▓╤И╨╡╨╣ ╨║ ╤Н╤В╨╛╨╣ ╤А╨╡╤Д╨╛╤А╨╝╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝ ╤Б╨▓╨╛╨╕╨╝ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝. ╨Я╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨╕ ╨╜╨░╨▒╨╗╤О╨┤╨╡╨╜╨╕╤П, ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╖╨┤╨╡╤Б╤М ╤Б╨║╨▓╨╛╨╖╤М ╨┐╤А╨╕╨╖╨╝╤Г ╤А╨░╤Б╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╤Б╨┐╨╡╤А╨▓╨░ ╨╕╤Б╨║╨╗╤О╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╝╨╡╤В ╨╡╨╡ (╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕) ╨│╨╕╨┐╨╛╤В╨╡╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╕╤З╨░╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨║ ╤Б╤Г╨┤╤М╨▒╨╡ ╨У╨Ъ╨Ъ ╨▓ ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ 1730-╤Е ╨│╨│., ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╤Ж╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╡╨┐╤Ж╨╕╤О ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨┤╤Г╤О╤В. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╕ ╨╛╨╜╨╕ ╨╝╨╛╨│╤Г╤В ╨▒╤Л╤В╤М ╨╗╤О╨▒╨╛╨┐╤Л╤В╨╜╤Л, ╨╛╤Б╨▓╨╡╤Й╨░╤П ╨╛╨┐╨╡╤А╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨░╤А╨╝╨╡╨╣╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╨▓╨╡╤Й╨╡╨▓╤Л╨╝╨╕ ╤А╨╡╤Б╤Г╤А╤Б╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╜╨╡╨╛╨╢╨╕╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤А╨░╨║╤Г╤А╤Б╨╡.
╨в╨░╨║, ╤Г╤З╤А╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨▓╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В-╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╤А╨╛╨▓ (╨│╤А. ╨Р.╨Ш. ╨Ю╤Б╤В╨╡╤А╨╝╨░╨╜╨░ ╨╕ ╨║╨╜. ╨Ь.╨п. ╨з╨╡╤А╨║╨░╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛) ╨╕ ╨╡╨╡ ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ (╨┐╨╛ ╨║╤А╨░╨╣╨╜╨╡╨╣ ╨╝╨╡╤А╨╡ ╨╜╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╗╤М╨╜╨╛) ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤В╤А╨╡╤Е ╨╗╨╡╤В ╤Б ╨┐╤А╨╕╨▓╨╗╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Б╨▓╤Л╤И╨╡ ╨┤╨╡╤Б╤П╤В╨╕ ┬л╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨╢╤Б╨║╨╕╤Е ╨╕ ╨║╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╤З╨╗╨╡╨╜╨╛╨▓┬╗, ╨▓╨║╨╗╤О╤З╨░╤П ╨▒╤Л╨▓╤И╨╡╨│╨╛ ╤З╨╗╨╡╨╜╨░ ╨Т╨╛╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ 1730 ╨│., ╨╜╤Л╨╜╨╡ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨░╤Й╨╡╨│╨╛ ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨▓ ╤Б╤В╨░╤А╨╛╨╣ ╤Б╤В╨╛╨╗╨╕╤Ж╨╡ ╨Т.╨б. ╨С╨╛╤А╨╖╨╛╨▓╨╛ (╤Б 10 ╤Д╨╡╨▓╤А╨░╨╗╤П ╨┐╨╛ 3 ╨╜╨╛╤П╨▒╤А╤П 1735 ╨│.) ╨╕ ╨▒╤Л╨▓╤И╨╡╨│╨╛ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╕╤А╨╡╨║╤В╨╛╤А╨░ ╨У╨Ъ╨Ъ ╨Т.╨п. ╨Э╨╛╨▓╨╛╤Б╨╕╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓╨░ (╤Б 26 ╤Д╨╡╨▓╤А╨░╨╗╤П ╨┐╨╛ 24 ╨░╨▓╨│╤Г╤Б╤В╨░ 1736 ╨│.)7, ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╤В ╨▓╨┐╨╡╤З╨░╤В╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨╛╤Й╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨╕╨│╤А╨░╨╗ тАУ ╨╕╨╗╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨╕╨│╤А╨░╤В╤М тАУ ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╨╝╤Г╤О ╨┤╨╗╤П ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░ ╤А╨╛╨╗╤М.
╨Т ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨┐╨╛╨┤╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨░╨╡╤В╤Б╤П ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤В╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨Ъ╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В ╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╤А╨╛╨▓ 27 ╨╝╨░╤П 1734 ╨│. ┬л╨╛╨▒╤К╤П╨▓╨╕╨╗┬╗ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╨░╤Е ╨У╨Ъ╨Ъ ┬л╨▓╨╡╤Й╨╡╨╣тАж ╨▓╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╨┐╨╗╨╛╤И╨╡ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨╛╨▓┬╗. ┬л╨Ю╨▒╤К╤П╨▓╨╗╤П╨╗╨╛╤Б╤М┬╗ ╨╗╨╕ ╤Н╤В╨╛ ╨┐╨╛ ╨┐╤А╨╕╤З╨╕╨╜╨╡ ╨╡╤Б╤В╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╗╤П ╨▓╤Л╤Б╤И╨╡╨│╨╛ ╤Г╤З╤А╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤А╨╢╨║╨╕ ╨╖╨░╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨▓ 1731 ╨│. ╤Б╤В╨░╨╜╨┤╨░╤А╤В╨╛╨▓ ╨╖╨░╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨╕ ╨╛╨▒╨╝╤Г╨╜╨┤╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨╕╨╗╨╕ ╨║╨╛╨╜╨║╤А╨╡╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╤Г╤А╤Б╨░ ╨╜╨░ ╨┤╨╕╤Б╨║╤А╨╡╨┤╨╕╤В╨░╤Ж╨╕╤О ╨У╨Ъ╨Ъ, ╨▓╨╛ ╨▓╤Б╤П╨║╨╛╨╝ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡ ╨╜╨╡ ╤Б╨┐╤А╨░╨▓╨╗╤П╨▓╤И╨╡╨│╨╛╤Б╤П ╤Б╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╕╨╝╨╕ ╤Д╨╕╨╜╨░╨╜╤Б╨╛╨▓╤Л╨╝╨╕ ┬л╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╨╛╤Б╤В╤П╨╝╨╕┬╗, ╨╕╨╖ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨▓ ╨╜╨╡ ╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛. ╨Э╨╛ ╨╛╨╜╨╛ ╨╜╨╡╤Б╨╛╨╝╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨▓╨╗╨╡╨║╨╗╨╛ ╨╖╨░ ╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣ ┬л╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛┬╗ ╨░╨╝╤Г╨╜╨╕╤Ж╨╕╨╕, ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓ ╨╕╤О╨╜╨╡ 1734 ╨│. ╨┤╨╗╤П ╨Ш╨╜╨│╨╡╤А╨╝╨░╨╜╨╗╨░╨╜╨┤╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ┬л╨┐╤А╨╛╤З╨╕╤Е ╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨░╤О╤Й╨╕╤Е╤Б╤П ╨┐╤А╨╕ ╨Ю╤Б╤В╨╖╨╡╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓┬╗. ╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╤П ╨┤╨░╨╗╨░ ╤Н╤В╨╛ ╨┐╨╛╤А╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨┐╤Л╤В╨╜╨╛╨╝╤Г ╨▓ ╤А╨░╨╖╨╗╨╕╤З╨╜╤Л╤Е ┬л╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╤П╤Е┬╗ ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╤Г ╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨░╤А╨╜╨╕╨╖╨╛╨╜╨░ ╨д.╨Т. ╨Э╨╛╤А╨╛╨▓╤Г ╨╕ ╨▓ ╨╛╨║╤В╤П╨▒╤А╨╡ ╨╛╤В╨╛╤Б╨╗╨░╨╗╨░ ╨╖╨░╨▒╤А╨░╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╜╨╛, ╨░ ╨┐╨╕╤Б╤М╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╛╤В╤З╨╡╤В ╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В╤Л╤Е ╨╝╨╡╤А╨░╤Е ╨▓ ╨б╨╡╨╜╨░╤В8. ╨в╨╛╤В 7 ╤П╨╜╨▓╨░╤А╤П 1735 ╨│. ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╨╗ ┬л╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤В╤М┬╗ ╨╛ ┬л╨▓╨╕╨╜╨╡┬╗ ╨У╨Ъ╨Ъ ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨╡, ╨│╨┤╨╡ ╨╛╨╜ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╤Б╤П, ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨Ъ╨╛╨╜╤В╨╛╤А╨╡ ╤Б ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕╨╡╨╝, ╨┐╨╛ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╕╤П╨╝ 1723 ╨│., ┬л╨┤╨╡╨┐╤Г╤В╨░╤В╨╛╨▓ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕┬╗ (╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Г╤О ╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╗ ╨Т.╨б. ╨С╨╛╤А╨╖╨╛╨▓╨╛) ┬л╨▓ ╨╝╨╡╤Б╤П╤Ж┬╗, ╨╜╨╛ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╤Г╨║╨░╨╖╤Л ╨╛╨▒ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ 16 ╨╕ 18 ╤П╨╜╨▓╨░╤А╤П9.
╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨░╤П ╨б╨╡╨╜╨░╤В╤Б╨║╨░╤П ╨║╨╛╨╜╤В╨╛╤А╨░, ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╤О ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╤М, ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨╗╨░ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╤М ┬л╨┤╨╡╨╗╨╛┬╗ ╨▓ ╨┐╨╛╨┤╨║╨╛╨╜╤В╤А╨╛╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨╡╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕, ╨╜╨░ ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤Ж╨╕╤О ╤З╨╡╨│╨╛ ╤В╨╛╨╢╨╡ ╤Г╤И╨╗╨╛ ╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╨╛ ╨╜╨╡╨┤╨╡╨╗╤М. ╨Т╨╛╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╤П╨╡╨╝╨░╤П ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╨╛╨╝ ╨│╤А. ╨б.╨Р. ╨б╨░╨╗╤В╤Л╨║╨╛╨▓╤Л╨╝, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨┐╤А╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨╗ ╨║ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╜╨╡╨╣╤И╨╕╨╝ ╨┤╨╡╤П╤В╨╡╨╗╤П╨╝ ╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨Р╨╜╨╜╤Л ╨Ш╨╛╨░╨╜╨╜╨╛╨▓╨╜╤Л, ╨╛╨╜╨░ ╨▓ ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ 1730-╤Е ╨│╨│. ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╗╨░ ╨╡╨┤╨▓╨░ ╨╗╨╕ ╨╜╨╡ ╨╕╨╜╤В╨╡╨╜╤Б╨╕╨▓╨╜╨╡╨╡ ╤Б╨░╨╝╨╛╨│╨╛ ╨б╨╡╨╜╨░╤В╨░ ╨╕ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨▒╤Л ┬л╨┐╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨░╤В╤М┬╗ ╨╛╨┐╨╡╤А╨░╤В╨╕╨▓╨╜╨╡╨╡. ╨Э╨╛, ╤Б╨║╨╛╤А╨╡╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛, ╨┐╤А╨╛╤З╨╗╨░ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╤Б╤В╤А╨╛╨║ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╤Л╤П╤Б╨╜╨╕╤В╤М, ┬л╨┤╨╗╤П ╤З╨╡╨│╨╛┬╗ ╨У╨Ъ╨Ъ ┬л╨╛╤В╨┐╤Г╤Б╤В╨╕╨╗ ╨┐╨╛╨╝╤П╨╜╤Г╤В╤Л╨╡ ╨▓╨╡╤Й╨╕ ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨╛╨▓┬╗, ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╕╨╜╤В╨╡╤А╨╡╤Б, ╨░ ╨╗╨╕╤И╤М ╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨▓ ╨┐╨╛╨┤╨▒╨╛╤А╨╡ ╨╛╨▒╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨╖╨░╤А╨░╨╜╨╡╨╡ ╨┐╤А╨╡╨┤╤А╨╡╤И╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨░ ╨╛ ┬л╤И╤В╤А╨░╤Д╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╤Б╨║╨╕╤Е ╤З╨╗╨╡╨╜╨╛╨▓, ╤В╨░╨║╨╛╨╢ ╨╛╤В╨┤╨░╤В╤З╨╕╨║╨╛╨▓ ╨╕ ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╤Й╨╕╨║╨╛╨▓┬╗. ╨Ш ╨╜╨╡ ╨╛╤И╨╕╨▒╨╗╨░╤Б╤М тАУ ╤Б╨┐╤А╨╛╤Б╨╕╤В╤М, ┬л╤З╤В╨╛ ╤Г╤З╨╕╨╜╨╡╨╜╨╛┬╗ ╨▓ ╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│╨╡, ╤Б╨╛╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨▓╨╛╨╗╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨╡ ╤З╨╡╤А╨╡╨╖ ╨╝╨╡╤Б╤П╤Ж ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨╕╨╜╤Ж╨╕╨┤╨╡╨╜╤В╨░, ╨░ ╤З╨╡╤А╨╡╨╖ ╤Ж╨╡╨╗╤Л╤Е ╨┤╨╡╨▓╤П╤В╨╜╨░╨┤╤Ж╨░╤В╤М ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╤Г╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ┬л╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤П┬╗ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╤Б╨╡╨╜╨░╤В╨╛╤А╨░╨╝╨╕.
╨б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛, ╨╕ ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╤В╨╕╨╡ ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╤П (╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨▓╤И╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡ ┬л╨║╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В╤Б╨║╨╕╨╣┬╗, ╨░ ┬л╤Б╨╡╨╜╨░╤В╤Б╨║╨╕╨╣┬╗ ╤А╨░╨╜╨│) ╨┐╨╛╨┤╤З╨╕╨╜╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨╗╨╛╨│╨╕╨║╨╡ ╨╜╨╡ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨║╨░╨╖╨░, ╨░ ╤А╤Г╤В╨╕╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▒╤О╤А╨╛╨║╤А╨░╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╕╤Б╤Ж╨╕╨┐╨╗╨╕╨╜╤Л. ╨Ч╨░ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨║╨╛╨╝ ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨╡ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤З╨╕╨╜╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╤Б╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨▒╨╛╨┤╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╛╤В ╨╖╨░╤Б╨╡╨┤╨░╨╜╨╕╨╣ ╨▓ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╨┐╤А╨╕╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╝╨╡╤Б╤В╨░╤Е ╤З╨░╤Б╨░╨╝╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨▓ ╨╝╨░╤А╤В╨╡ ╨▓╨╛╨╖╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╤О ╨╛ ╨б╨╕╨▒╨╕╤А╤Б╨║╨╛╨╝ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╡, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П ╤Б 1732 ╨│. ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╝╨░╤Е╨╕╨╜╨░╤Ж╨╕╤П╨╝╨╕ ╤Б ┬л╨║╨╕╤В╨░╨╣╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╤В╨╛╨▓╨░╤А╨░╨╝╨╕┬╗, ╨░ ╨┐╨╛╤В╨╛╨╝ ╨╖╨╗╨╛╤Г╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ╤Б╨╕╨▒╨╕╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╡╨▓╨╛╨┤ ╨╕ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▒╨░╨╝╨╕ ╨╜╨░ ╨╛╨▒╨╡╤А-╨┐╨╛╨╗╨╕╤Ж╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨Э.╨Р. ╨Ю╨▒╨╛╨╗╨┤╤Г╨╡╨▓╨░. ╨Э╨╛ ╨┐╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤В╤М ╨╡╨╡ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨╕╤В╨╡╤В╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤З╨╗╨╡╨╜╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤Б ╨╕╤Е ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╤М╤О ╨╜╨░╨╗╨░╨┤╨╕╤В╤М ╨░╨╜╨░╨╗╨╕╨╖ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╤Е╨╛╨╖╤П╨╣╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨╕ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╤Л╨╡ ╨┤╨╛╨┐╤А╨╛╤Б╤Л ╤В╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨╡ ╤Г╨┤╨░╨╗╨╛╤Б╤М. ╨Ъ ╨╜╨╕╨╝ ╨┐╤А╨╕╤Б╤В╤Г╨┐╨╕╨╗╨╕ ╤Г╨╢╨╡ ╨▓ ╨╛╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╨▓╤И╨╡╨╣╤Б╤П ╨║ ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ ╨╕╤О╨╜╤П 1735 ╨│. ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ┬л╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨╝╤Г╨╜╨┤╨╕╤А╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨░╨╝╤Г╨╜╨╕╤З╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╡╤Й╨╡╨╣┬╗ ╨▓ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╡ ╨┐╤А╨╕╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╡╨│╨╛ ╨▓ ╨б╤Л╤Б╨║╨╜╨╛╨╝ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╡ ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╨╕╤А╨░ ╨Р.╨У. ╨Ъ╨╕╤Б╨╡╨╗╨╡╨▓╨░ ╨║╨░╨║ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╨╡╨┤╨░╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╡╨│╨╛, ╤Г╨┐╨╛╨╝╤П╨╜╤Г╤В╨╛╨│╨╛ ╨▓╤Л╤И╨╡ ╤Б╤В╨░╤В╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤В╨╜╨╕╨║╨░ ╨Т.╨б. ╨С╨╛╤А╨╖╨╛╨▓╨╛ ╨╕ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨╢╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤В╨╜╨╕╨║╨░ ╨╕╨╖ ╨о╤Б╤В╨╕╤Ж-╨║╨╛╨╜╤В╨╛╤А╤Л ╨║╨╜. ╨Ь.╨Ш. ╨и╨░╤Е╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛.
╨Ю╨╜╨╕ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛ ╨▒╤Л╤Б╤В╤А╨╛ ╨▓╨╜╨╕╨║╨╗╨╕ ╨▓ ╤Е╨╕╤В╤А╨╛╤Б╨┐╨╗╨╡╤В╨╡╨╜╨╕╤П ┬л╤А╨╡╨╡╤Б╤В╤А╨╛╨▓┬╗, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╤Б╨╡╨╣╤З╨░╤Б ╨┐╨╛╨┤╨░╨▓╨╗╤П╤О╤В ╨╝╨╜╨╛╨╢╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╤Д╨░╨╝╨╕╨╗╨╕╨╣, ╤Ж╨╕╤Д╤А, ╨┤╨░╤В, ┬л╤Б╨╛╤А╤В╨╛╨▓┬╗, ╤Ж╨╡╨╜ ╨╕ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╣ ╤Н╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨▓ ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨┤╤А╨░╨│╤Г╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╜╨░╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╤П. ╨Р ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┐╨╕╤Б╨║╤Г ╨У╨Ъ╨Ъ ╨╕ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╡╤Б╨╜╤Л╨╡ ╨╕ ╨┐╨╕╤Б╤М╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨┤╤Л ┬л╨╜╨░╨┤╨╖╨╕╤А╨░╨▓╤И╨╕╤Е┬╗ ╨╝╤Г╨╜╨┤╨╕╤А╨╜╤Л╨╡ ╨╕ ╨░╨╝╤Г╨╜╨╕╤З╨╜╤Л╨╡ ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜╤Л ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨░ [╨Р.╨Ш.] ╨Ч╨░╨╝╤Л╤Ж╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨░ ╨б.[╨Т.] ╨з╨╡╨▒╤Л╤И╨╡╨▓╨░ ╨╕ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨▓╤И╨╕╤Е ╤Г ┬л╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░, ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╨░ ╨╕ ╨╛╤В╨┐╤Г╤Б╨║╨░┬╗ ╨╝╨░╨╣╨╛╤А╨░ ╨Ф.╨Р. ╨Э╨░╤Г╨╝╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╨║╨░╨┐╨╕╤В╨░╨╜╨╛╨▓ ╨Ф.[╨Ь.] ╨е╨╛╨╜╨╡╨╜╨╡╨▓╨░ ╨╕ ╨║╨╜. ╨д.[╨б.] ╨Ъ╨╛╨╖╨╗╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛. ╨Ш ╤Б╤Г╨╝╨╡╨╗╨╕ ╨║ 29 ╤Б╨╡╨╜╤В╤П╨▒╤А╤П 1735 ╨│.10 ╨┤╨╛╨▓╨╡╤Б╤В╨╕ ╨┤╨╛ ╨▓╤Л╤И╨╡╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨╣ ╨╕╨╜╤Б╤В╨░╨╜╤Ж╨╕╨╕ ╤З╤А╨╡╨╖╨▓╤Л╤З╨░╨╣╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤А╨╛╨▒╨╜╤Г╤О ╨╕╨╜╤Д╨╛╤А╨╝╨░╤Ж╨╕╤О ╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤И╨╡╨┤╤И╨╡╨╝, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П ╤А╨╕╤Б╤Г╨╡╤В ╨▓╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨╜╤Г╤О ╨╛╤В ╨┐╤А╨╕╨▓╤Л╤З╨╜╤Л╤Е ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨▓ ╨║╨░╤А╤В╨╕╨╜╤Г.
╨Я╤А╨░╨▓╨┤╨░, ╤Б╨▓╨╛╨┤╨║╨░ ╨┐╨╛ ╨╕╤В╨╛╨│╨░╨╝ ╤А╨░╨╖╨▒╨╛╤А╨░ ╨┐╨╛╨┤ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╨д.╨Т. ╨Э╨╛╤А╨╛╨▓╨░ ╨╜╨░ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╣ ╨▓╨╖╨│╨╗╤П╨┤ ╤Г╨║╨╗╨░╨┤╤Л╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨▓ ╤Б╤В╨╡╤А╨╡╨╛╤В╨╕╨┐╤Л ╨╛ ╨┐╤А╨╕╤Б╤Г╤Й╨╡╨╝ ╨▓╤Б╤П╨║╨╛╨╝╤Г ╨╕╨╜╤В╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤В╤Б╤В╨▓╤Г ╤Б╨╛╤З╨╡╤В╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▓╨╛╤А╨╛╨▓╤Б╤В╨▓╨░, ╤Е╨░╨╗╨░╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╨┤╨╡╤Д╨╕╤Ж╨╕╤В╨░. ╨Ш╨╖ 2000 ╨│╤А╨╡╨╜╨░╨┤╨╡╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╖╨╡╨╣ ╨╜╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╨╜╤Л 1560, ╨╕╨╖ 3000 ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╖╨╡╨╣ ╨┐╨░╤В╤А╨╛╨╜╨╜╤Л╤Е тАУ 1397, ╨░ ╨╕╨╖ 2000 ╨╗╤П╨┤╤Г╨╜╨╛╤З╨╜╤Л╤Е ╤А╨╡╨╝╨╜╨╡╨╣ тАУ 154511. ╨Ы╤Г╤З╤И╨╡ ╨▓╤Л╨│╨╗╤П╨┤╤П╤В ╨┐╨╛╤А╤В╤Г╨┐╨╡╨╕ (2694 ╨╕╨╖ 10 000), ╨│╤А╨╡╨╜╨░╨┤╨╡╤А╤Б╨║╨╕╨╡ ╤Б╤Г╨╝╤Л (252 ╨╕╨╖ 2000) ╨╕ ╨│╤А╨╡╨╜╨░╨┤╨╡╤А╤Б╨║╨╕╨╡ ╨╗╤П╨┤╤Г╨╜╨║╨╕ (152 ╨╕╨╖ 2450), ╨╡╤Й╨╡ ╨╗╤Г╤З╤И╨╡ тАУ ╨┐╨░╤В╤А╨╛╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Б╤Г╨╝╤Л (80 ╨╕╨╖ 3000) ╨╕ ╤Б╨╝╨░╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨╢╨╡╤Б╤В╤П╨╜╨║╨╕ ╨║ ╨│╤А╨╡╨╜╨░╨┤╨╡╤А╤Б╨║╨╕╨╝ ╨╗╤П╨┤╤Г╨╜╨║╨░╨╝ (12 ╨╕╨╖ 2450). ╨Ш, ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤Ж, ╨║ 100 ╨▒╨░╤А╨░╨▒╨░╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╖╤П╨╝ ╤Б ╨┐╤А╤П╨╢╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨╝╨╡╨┤╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤З╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨┐╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╖╨╕╨╣ ╨╜╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨▓╨╛╨▓╤Б╨╡.
╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨┐╤А╨╕ ╤Г╨│╨╗╤Г╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓ ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤М ╨┐╨╛╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨д.╨Т. ╨Э╨╛╤А╨╛╨▓╤Л╨╝ ┬л╨╜╨╡╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╨╡╨╣┬╗ ╨╛╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П, ╤З╤В╨╛ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤А╨░╤Й╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨▓ ╨У╨Ъ╨Ъ ┬л╨▓╨╡╤Й╨╡╨╣┬╗ ╨╜╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╤Л╤Е ╨▓ ╨┐╤А╤П╨╝╨╛╨╝ ╤Б╨╝╤Л╤Б╨╗╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╡╨╜╤М╤И╨╡. ╨Р ╨║╨╛╨╜╨║╤А╨╡╤В╨╜╨╛, ╨║╨╛╨╢╨░╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╖╨┤╨╡╨╗╨╕╨╣ ┬л╨╗╨╛╨╝╨║╨╕╤Е┬╗, ┬л╤Б ╨┐╤П╤В╨╜╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤Б╨▓╨╕╤Й╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤А╤П╨▒╨╕╨╜╨░╨╝╨╕┬╗, ┬л╤Б ╨╝╤П╨│╨║╨╕╨╝╨╕ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨░╨╝╨╕┬╗, ┬л╨┐╨╛╨╝╨╛╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е┬╗ ╨╕ ┬л╨╛╤В ╨┐╨╛╨╝╨╛╤З╨║╨╕ ╨│╨╜╨╕╨╗╤Л╤Е┬╗ ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б╨╛ ┬л╤Б╨╗╨╛╨╝╨░╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕┬╗ ╨╢╨╡╤Б╤В╤П╨╜╨║╨░╨╝╨╕ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ 1100 ╨╕╨╖ 27 000 ╨┐╤А╨╡╨┤╨╝╨╡╤В╨╛╨▓. ╨Ю╤Б╤В╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╛╤В╨▒╤А╨░╨║╨╛╨▓╨░╨╜╤Л ╨║╨░╨║ ╨╜╨╡ ╤Б╨╛╨▓╨┐╨░╨▓╤И╨╕╨╡ ╤Б ┬л╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░╨╝╨╕┬╗, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╝ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤В╤М, ╤Б ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╤Л, ╤Д╨░╨▒╤А╨╕╨║╨░╨╜╤В╤Л ╨╕ ╨┐╨╛╨┤╤А╤П╨┤╤З╨╕╨║╨╕, ╨░ ╤Б ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╣ тАУ ╨┐╨╛╨┐╨╡╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨░╨╡╨╝╤Л╨╡ ╨║ ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜╨░╨╝ ╨╕ ╨║ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤О ╨▓╤Л╨┤╨░╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╛╤В╤В╤Г╨┤╨░ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╨╡ ╨╕ ╨│╨░╤А╨╜╨╕╨╖╨╛╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╛╨▒╨╡╤А╨╕ ╤Г╨╜╤В╨╡╤А-╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╤Л ╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╨╗╤Г╨╢╨░╤Й╨╕╨╡ (╨┤╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╤Л╤Е ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А╨╛╨▓, ╤Б╨╗╨╡╨┤╤П╤Й╨╕╤Е ╨╖╨░ ╨╕╤Б╨┐╤А╨░╨▓╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨▓╤Б╨╡╨╣ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╤З╨░╤Б╤В╨╕).
╨Ш╨╖ ┬л╨┤╨╛╨║╨░╨╖╨░╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓┬╗ ╨╢╨╡, ╨┐╤А╨╡╨┤╤К╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨▓ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╤О ╨┐╨╛╨┤╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨┐╨╛ ╤Г╨║╨░╨╖╤Г ╨У╨Ъ╨Ъ ┬л╨╛╨▒╤Й╨╡┬╗ ╤Б ╨╛╨▒╨╡╤А-╤Д╨╕╤Б╨║╨░╨╗╨╛╨╝ ╨Я. ╨Р╨╜╨╕╤Б╨╕╨╝╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╕ ╨║╤А╤Г╨┐╨╜╨╡╨╣╤И╨╕╨╝ ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╤Й╨╕╨║╨╛╨╝ ╨░╨╝╤Г╨╜╨╕╤Ж╨╕╨╕ ╨Р. ╨У╤А╨╡╨▒╨╡╨╜╤Й╨╕╨║╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨╗╨╕ ╨▓╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╜╤Л╨╣ ╤А╨░╨╖╨▒╨╛╤А ╨┐╤А╨╕╨▒╤Л╨▓╤И╨╕╤Е ╨╕╨╖ ╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│╨░ ┬л╤В╤О╨║╨╛╨▓┬╗, ╨╛╤З╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨╕ ╤Б╨░╨╝╨╕ ┬л╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╤Л┬╗, ╨╜╨╡╤Б╨╝╨╛╤В╤А╤П ╨╜╨░ ╤В╤А╨╛╨╣╨╜╨╛╨╡ ┬л╨╖╨░╨┐╨╡╤З╨░╤В╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╨╡┬╗ ╨╕╤Е (╨▓ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕, ╨б╨╡╨╜╨░╤В╨╡ ╨╕ ╨У╨Ъ╨Ъ), ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨┤╤А╤Г╨│ ╨╛╤В ╨┤╤А╤Г╨│╨░. ╨Ш ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ┬л╨┤╨╛╨▒╤А╨╛╤В╨╛╨╣┬╗, ╨┐╨╛╨╜╨╡╨▓╨╛╨╗╨╡ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╤П╨╡╨╝╨╛╨╣ ╨╜╨░ ╨│╨╗╨░╨╖ ╨╕ ╨╜╨░ ╨╛╤Й╤Г╨┐╤М, ╨╜╨╛ ╨╕, ╨▓ ╨╖╨░╨▓╨╕╤Б╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╛╤В ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╕╤Е ╨╛╨┤╨╛╨▒╤А╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕ ╤А╨░╤Б╤Б╤Л╨╗╨║╨╕, ╨┐╨░╤А╨░╨╝╨╡╤В╤А╨░╨╝╨╕ ╨┤╨╗╨╕╨╜╤Л ╨╕ ╤И╨╕╤А╨╕╨╜╤Л. ╨Т ╨║╨░╨║╨╛╨╣-╤В╨╛ ╤Б╤В╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕ ╨╛╨▒╨╜╨░╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤Г╤А╨╡╨╖╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╖╨╡╨╣ ╨╕ ╤А╨╡╨╝╨╜╨╡╨╣ (╨╜╨░ ╨▓╨╡╤А╤И╨╛╨║ / ┬л╤В╤А╨╕ ╨┐╨░╨╗╤М╤Ж╨░┬╗) ╤И╨╗╨╛ ╨╕ ╨╛╤В╤В╨╛╨│╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨╕╤Е ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╤А╤П╨╗╨╕ ╨┐╨╛ ╨╜╨╛╨▓╨╡╨╣╤И╨╕╨╝, 1733 ╨│., ╨╝╨╡╤А╨║╨░╨╝, ╨░ ╨▒╤А╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╛╨╜╨╕ ╨╕╨╖ ┬л╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╨╛╨▓┬╗ ╨┐╤А╨╛╤И╨╗╤Л╤Е ╨╗╨╡╤В, ╨┐╨╛ ┬л╨┐╤А╨╛╨▒╨░╨╝┬╗ 1729, 1724 ╨╕ ╨┤╨░╨╢╨╡ 1715 ╨│╨│.
╨н╤В╨╛╤В ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б ╨┐╤Л╤В╨░╨╗╤Б╤П ╤Б╤В╨░╨▓╨╕╤В╤М ╨Ф.╨Р. ╨Э╨░╤Г╨╝╨╛╨▓, ╨╜╨╛ ╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤В╨╡╨╗╨╕ ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╗╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╡╨╖ ┬л╤Б╨┐╤А╨░╨▓╨╛╨║┬╗, ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Г╨┤╨╡╨╗╨╕╨▓ ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╝╤Г ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤О ╨╛╨▒╨▓╨╕╨╜╤П╨╡╨╝╤Л╤Е. ╨Ш╨╖ ╨┤╨╛╨┐╤А╨╛╤Б╨╛╨▓ ╨Ф.╨Р. ╨Э╨░╤Г╨╝╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╡╨╣╨╜-╨▓╨░╤Е╤В╨╡╤А╨░ ╨Ь. ╨б╨╛╨║╨╛╨╗╨╛╨▓╨░, ╨╜╨╡╨┐╨╛╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╖╨░╨║╤А╤Л╨▓╨░╨▓╤И╨╕╤Е ┬л╨╜╨░╤А╤П╨┤┬╗ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╕╨╖ ┬л╨Ю╤Б╤В╨╖╨╡╨╕┬╗ ╨║╨░╨┐╨╕╤В╨░╨╜╤Г ╨п.╨Ь. ╨Ы╨╡╨┤╨╕╤Ж╨║╨╛╨╝╤Г, ╨▓╤Л╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛, ╨▒╤Г╨┤╤В╨╛ ╨╛╨╜ ╨┐╨╛ ╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨╕╤Ж╨╕╨░╤В╨╕╨▓╨╡ ╨▓╨╖╤П╨╗ ╨▓ ╤Б╤З╨╡╤В ╨▓╤Л╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╜╤Л╤Е 2000 ╤А╨╡╨╝╨╜╨╡╨╣ ╨║ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╜╤Л╨╝ ╨╗╤П╨┤╤Г╨╜╨║╨░╨╝ 1545 ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╨╛ ╤Г╨║╨╛╤А╨╛╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┤╤А╨░╨│╤Г╨╜╤Б╨║╨╕╤Е тАУ ╨┐╤А╨╛ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡, ╨┐╤А╨╕╨║╨╕╨╜╤Г╨▓ ┬л╨▓╨╛╨║╤А╤Г╨│ ╤Б╨╡╨▒╤П┬╗, ╤Б╨║╨░╨╖╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ┬л╨│╨╛╨┤╤П╤В╤Б╤П┬╗. ╨Ю╤Б╤Г╨┤╨╕╨▓ ╨п.╨Ь. ╨Ы╨╡╨┤╨╕╤Ж╨║╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨╛╤З╨╜╨╛ ╨┐╨╛ ╤В╨╡╨╝ ╨╢╨╡ ┬л╨┐╤Г╨╜╨║╤В╨░╨╝┬╗, ╤З╤В╨╛ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╤З╨╕╤Е, ╤Б╤Б╤Л╨╗╨║╨╕ ┬л╨╛╤В╨┤╨░╤В╤З╨╕╨║╨╛╨▓┬╗ ╨╜╨░ ╨╡╨│╨╛ ╤Б╨░╨╝╨╛╨▓╨╛╨╗╨╕╨╡ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╤П ╤Б╨┐╤А╨░╨▓╨╡╨┤╨╗╨╕╨▓╨╛ ╨║╨▓╨░╨╗╨╕╤Д╨╕╤Ж╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╨║╨░╨║ ╨┐╤Г╤Б╤В╤Л╨╡ ╨╛╤В╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨║╨╕: ╤Е╨╛╤А╨╛╤И╨╛ ╨╛╤Б╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╛╨▒ ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╕ ╨╖╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│╨╡ ╤З╨╕╤Б╨╗╨░ ╨╗╤П╨┤╤Г╨╜╨╛╤З╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╜╤Л╤Е ╤А╨╡╨╝╨╜╨╡╨╣, ╨╛╨╜╨╕ ╨╜╨╡ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕, ╤П╨║╨╛╨▒╤Л ┬л╨┐╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨░╤П╤Б╤М┬╗ ╨╜╨░ ╨║╨░╨┐╨╕╤В╨░╨╜╤Б╨║╤Г╤О ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╕╤Б╤М ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ╤И╨╜╤Г╤А╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡, ╤А╨░╤Б╨┐╨╕╤Б╤Л╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╖╨░ ╨╜╨╕╤Е ╨║╨░╨║ ╨╖╨░ ┬л╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨╛╨▓ ╤Б╤Е╨╛╨┤╨╜╤Л╨╡┬╗.
╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╨╢╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╕╤Б╨╡╨╣ тАУ ╨▓╨╛╨┐╤А╨╡╨║╨╕ ╨╜╨╛╤А╨╝╨░╤В╨╕╨▓╨░╨╝ ┬л╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░┬╗ ╨▓╤Б╤П╨║╨╛╨╣ ┬л╨▓╨╡╤Й╨╕┬╗ ╨┐╤А╨╕ ╨╡╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╨╡ / ╨╛╤В╨┐╤Г╤Б╨║╨╡ ╨▓ ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜ / ╨╕╨╖ ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜╨░ ╨╕ ╨┐╤А╨╕ ╤А╨╛╤В╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╗╤П╨╡╨╝╤Л╤Е ╤В╤Г╨┤╨░ ╤А╨░╨╖ ╨▓ ╨┤╨▓╨░ ╨│╨╛╨┤╨░ ╨╗╨╕╤Ж ┬л╨┐╨╛╤А╨╛╨╖╨╜╤М┬╗, ╨░ ╨╜╨╡, ┬л╨╖╨░ ╨╝╨╜╨╛╨╢╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨╝┬╗, ╨▓╤Л╨▒╨╛╤А╨╛╤З╨╜╨╛ тАУ ╤Г╨┐╤А╨╡╨║╨╜╤Г╤В╤М ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤З╨╕╨╜╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨У╨Ъ╨Ъ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╣ ╨║╨╛╨╜╤В╨╕╨╜╨│╨╡╨╜╤В ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╜╨╡ ╨▓ ╤З╨╡╨╝. ╨С╤Г╨║╨▓╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╤В╤М ┬л╨┐╨╛ ╤А╨╡╨│╨╗╨░╨╝╨╡╨╜╤В╨░╨╝┬╗ ╨╛╨╜, ╤А╨░╨╖╤Г╨╝╨╡╨╡╤В╤Б╤П, ╨▓ ╤А╨╡╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│, ╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╡╨║╤А╨░╤Б╨╜╨╛ ╨╖╨╜╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ╨▒╤Г╨┤╨╡╤В ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜ ╨┐╤А╨╕ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╤Д╨╕╨║╤Б╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨╗╤О╨▒╨╛╨│╨╛ ╨╕╤Е ╨╜╨░╤А╤Г╤И╨╡╨╜╨╕╤П. ╨Ю╤В╤Б╤О╨┤╨░ ╨╕ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╤А╨╛╨┤╨░ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨╡╨▓╨╕╨╖╨╕╤П ╨┐╨╛╤В╨╡╨╜╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤З╨╕╨║╨░╨╝╨╕-╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨░╨╝╨╕ ╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╤В╨░ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╝╨╛╨│╨╛ ╨▓ 1733тАУ1734 ╨│╨│. ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨╡ ╨┐╨╛╨┤ ╨╕╤Е ┬л╨┤╨╕╤А╨╡╨║╤Ж╨╕╨╡╨╣┬╗, ╨╛╤В ╨┤╨╛╤А╨╛╨│╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╝╨┐╨╛╤А╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╤Г╨║╨╜╨░ ╨┤╨╛ ╤А╨╛╨│╨╛╨╢ ╨╕ ┬л╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤Л╤Е ╨▓╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨║┬╗. ╨Т╨╡╨┤╤М ╤Н╤В╨╛ ╨╕╨╝ (╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╡╨╣╨╜-╨▓╨░╤Е╤В╨╡╤А╨░╨╝ ╨╕╨╖ ╤Г╨╜╤В╨╡╤А╨│╤А╨╛╨╖╨╕╨╗╨╕ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤И╨┐╨╕╤Ж╤А╤Г╤В╨╡╨╜╤Л) ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨╛╤П╨╗╨╛ тАУ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛, ┬л╨┐╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┐╨╛╤А╤Ж╨╕╨╕ ╨▓╨╕╨╜┬╗ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨│╨╛ тАУ ╨╖╨░╨┐╨╗╨░╤В╨╕╤В╤М ╨▓ ╨Ъ╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╤О ╨║╨╛╨╜╤Д╨╕╤Б╨║╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨╖╨░ ┬л╨╜╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╨╛╨╡┬╗ (╨┐╤Г╤Б╤В╤М ╨║╤Г╨┐╤Ж╤Л ╨╕ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤П╨╗╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░ ┬л╨┤╨╛╨▒╤А╨╛╨╡┬╗ ╨▒╨╡╤Б╨┐╨╗╨░╤В╨╜╨╛) 1545 ╤А. ╤Б 39 ╨╕ 1/8 ╨║.
╨Т╤Л╤З╨╕╤Б╨╗╨╕╨▓ ╤Н╤В╤Г ╤Б╤Г╨╝╨╝╤Г ╨┐╨╛ ┬л╨┐╨╛╨┤╤А╤П╨┤╨╜╤Л╨╝ ╤Ж╨╡╨╜╨░╨╝┬╗, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨▓╤Л╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗╨╕ ╨┐╨╛ ┬л╤Б╨┐╤Г╤Й╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г┬╗ ╨╕╨╖ ╨б╨╡╨╜╨░╤В╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤В╨╛╤А╤Л ╨┐╨╡╤А╨╡╤З╨╜╤О ╨д.╨Т. ╨Э╨╛╤А╨╛╨▓╨░, ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╤П ╨╜╨╡ ╨╢╨╡╨╗╨░╨╗╨░ ╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨╡ ╤Б╨╝╨╡╨╗╨░ ╤Б╨╜╨╕╨╢╨░╤В╤М ╨╡╨╡ ╤Б ╤Г╤З╨╡╤В╨╛╨╝ ╨▓╨╜╤Г╤В╤А╨╕╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤А╨░╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨╛╨▒ ╨╕╤Б╨┐╨╛╤А╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ┬л╨╜╨╡╤Б╤Е╨╛╨╢╨╡╤Б╤В╨╕┬╗ ╨╜╨╕ ╤Б ╨║╨░╨║╨╕╨╝╨╕ ┬л╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░╨╝╨╕┬╗ (╨╜╨╡╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╨╛ ╨║╨░╨║ ╨╕ ╨┐╨╛╤З╨╡╨╝╤Г) ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ 2 (╨░ ╨╜╨╡ 8) ╤В╤Л╤Б. ╤И╤В╤Г╨║ ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╤Е ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣. ╨и╤В╤А╨░╤Д ╨╢╨╡ (╨┐╨╗╤О╤Б ╤А╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╤Л ╨╜╨░ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨╖╨║╤Г ┬л╤В╤О╨║╨╛╨▓┬╗ ╨╕╨╖ ╤Б╤В╨╛╨╗╨╕╤Ж╤Л ╨▓ ╤Б╤В╨╛╨╗╨╕╤Ж╤Г) ╤А╨╡╤И╨╕╨╗╨░ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╤М ╨╜╨░ ╨▓╤Б╨╡╤Е ╨▓╤Л╤И╨╡╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨╛╨▓ ┬л╨┐╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┐╨╛╤А╤Ж╨╕╨╕┬╗ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╤М╤П, ╨░ ╨╜╨╡ ╨┐╨╡╤А╤Б╨╛╨╜╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ┬л╨▓╨╕╨╜┬╗, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╛ ╨╜╨╡ ╨╜╨░╤И╨╗╨╛╤Б╤М.
╨Э╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╨╜╤Л╤Е ╤Е╨╕╤Й╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╕ ╨▒╤Л╤В╨╛╨▓╤Л╤Е ╨║╤А╨░╨╢, ╨╜╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨╗╨╛╨╢╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛╨┤╤А╤П╨┤╨╛╨▓ ╨╕ ╤Г╨║╨╗╨╛╨╜╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╤А╨╛╨╝╤Л╤И╨╗╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨╛╤В ╨║╨╛╨╝╨┐╨╡╨╜╤Б╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨▒╤А╨░╨║╨░, ╨╜╨╕ ╨┐╤А╨╛╤В╨╡╨║╤И╨╕╤Е ╤З╤М╨╕╨╝-╤В╨╛ ┬л╨╜╨╡╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝┬╗ ╨║╤А╤Л╤И ╨╕ ╤В. ╨┤. ╨з╤В╨╛ ╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▒╤Л ╨╜╨╡╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╤Л╨╝, ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╨▒╤Л ╨╜╨╡ ╨║╤А╨╛╨▓╨╜╨░╤П ╨╖╨░╨╕╨╜╤В╨╡╤А╨╡╤Б╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜╨╜╨╛╨╣ ┬л╨▒╤А╨░╤В╨╕╨╕┬╗ ╨╛╨┐╤А╨░╨▓╨┤╨░╤В╤М ╤Б╨╡╨▒╤П ╨┐╤А╨╡╨│╤А╨╡╤И╨╡╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е. ╨Ш╨╖ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨┐╤А╨╕╨┐╨╛╨╝╨╜╨╕╨╗╨╕ ╨╗╨╕╤И╤М ╨┐╤М╤П╨╜╤Б╤В╨▓╨╛ ╨▓╨░╤Е╤В╨╡╤А╨░ ╨Э. ╨С╤Г╨╜╨╕╨╜╨░, ┬л╤Г╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡┬╗ 14 ╤Д╨╡╨▓╤А╨░╨╗╤П 1734 ╨│. ╨┐╤А╨╕ ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╨╡ ┬л╨┐╨╗╨╛╤И╨╡ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨╛╨▓┬╗ ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╕╤Е ╨│╤А╨╡╨╜╨░╨┤╨╡╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╤Б╤Г╨╝ ╤Б╨╡╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤А╤П╨┤╨░ ╨б. ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╤М╨╡╨▓╨░, ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╤З╨╡╨│╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╤А╨╡╨╜╨░ ╨▓╤Б╤П ╨╕╤Е ╨┐╨░╤А╤В╨╕╤П.
╨Ь╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤М╨╜╨░╤П ╤Б╤В╤А╨╛╨│╨╛╤Б╤В╤М ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╡╨╣ ╨┐╤А╨╛╨╡╨║╤В╨░ ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨░ (╤Б ╨╜╨░╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╤В╨╛╨╝ ╤З╨╕╤Б╨╗╨╡ ╨╜╨░ ╤З╨╗╨╡╨╜╨╛╨▓ ╨У╨Ъ╨Ъ ╨▓╤Л╤З╨╡╤В╨░ ╨┤╨▓╤Г╤Е╨╜╨╡╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╤М╤П) ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╤Г╨┤╨╛╤Б╤В╨╛╨▓╨╡╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╨╡╨╝ ╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨╛╤З╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨░╤А╨╝╨╡╨╣╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╤Й╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╕╤П ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨╡ тАУ ╤Ж╨╡╨╜╤В╤А╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╤Б╨▒╨╛╤А╨░ ╨╕ ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨╝╨╕╤А╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П. ╨в╨╛ ╨╢╨╡ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤Б╨║╨░╨╖╨░╤В╤М ╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╕ ╨б╨╡╨╜╨░╤В╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤В╨╛╤А╤Л, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Г╤О ╤Б╨║╤А╨╛╨╝╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╛╨▒╨╡╤Й╨░╨╡╨╝╨╛╨╣ ╤И╤В╤А╨░╤Д╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╤Л╨│╨╛╨┤╤Л ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨▒╤Г╨╢╨┤╨░╨╗╨░ ╤В╨╛╤А╨╛╨┐╨╕╤В╤М ╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│ ╤Б ╨╖╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ┬л╨┤╨╡╨╗╨░┬╗, ╨┤╨╛ ╨╛╨║╨╛╨╜╤З╨░╨╜╨╕╤П ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨│╨╛, ╨║╤Б╤В╨░╤В╨╕, ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╡╤Й╨╡ ╨╕ ╤Г╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╗╤П╤В╤М ╤Г╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤В╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╤П╨▓╨╕╨▓╤И╨╕╨╣ ╨┐╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╨╕╨╖╨╝ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨┐╨╡╤А╤Б╨╛╨╜╨░╨╗ ╨┤╨╗╤П ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╤В╤А╤Г╨┤╨╛╨╡╨╝╨║╨╕╤Е ┬л╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓┬╗. ╨б╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ ╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤А╤П╨┤╨░╤Е, ╨╜╨░╨╣╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Б╨░╨╝╨╕╨╝ ╨У╨Ъ╨Ъ ┬л╨╜╨╡╨┐╨╛╤А╤П╨┤╨╛╤З╨╜╤Л╨╝╨╕┬╗, ╨░ ╤Б ╤Д╨╡╨▓╤А╨░╨╗╤П 1736 ╨│. тАУ ╨╛ ╨│╤А╤Г╨┐╨┐╨╡ ╨╛╤В╨║╤Г╨┐╤Й╨╕╨║╨╛╨▓, ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╨╛ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╜╨░╤З╨░╤В╨╛ ╨▓ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨╛ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╤Е ╨┐╨╕╤В╨╡╨╣╨╜╤Л╤Е ╨║╨╛╨╝╨┐╨░╨╜╨╡╨╣╤Й╨╕╨║╨░╤Е ╨╕ ╨▓╤Л╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨▓ ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨░╨║ ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╤П╤Й╨╡╨╡╤Б╤П ╨║ ╨Ь╤Л╤В╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤В╨░╨╝╨╛╨╢╨╜╨╡12.
╨Э╨╛ ╤Б ╤Н╤В╨╕╨╝╨╕ ╨┤╨░╨╗╨╡╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╛╤В ╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ┬л╨┤╨╡╨╗╨░╨╝╨╕┬╗ ╨┤╨╕╤Б╤Б╨╛╨╜╨╕╤А╤Г╨╡╤В ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤В╤Г╨┤╨░ 26 ╤Д╨╡╨▓╤А╨░╨╗╤П 1736 ╨│. ╨Т.╨п. ╨Э╨╛╨▓╨╛╤Б╨╕╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓╨░. ╨Э╨╡ ╤З╨╡╤В╨░ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╨▓╤И╨╕╨╝ ┬л╨╛╤В╨▒╤Л╨▓╤И╨╕╤Е┬╗ ╨Р.╨У. ╨Ъ╨╕╤Б╨╡╨╗╨╡╨▓╨░, ╨Т.╨б. ╨С╨╛╤А╨╖╨╛╨▓╨╛ ╨╕ ╨Ь.╨Ш. ╨и╨░╤Е╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨╢╤Б╨║╨╕╨╝ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤В╨╜╨╕╨║╨░╨╝ ╨Р.╨в. ╨Ъ╨╛╨╗╨╛╨│╤А╨╕╨▓╨╛╨▓╤Г ╨╕ ╨Ш.╨б. ╨Р╨╜╨╜╨╡╨╜╨║╨╛╨▓╤Г, ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨╢╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨░╤Б╨╡╤Б╤Б╨╛╤А╤Г ╨║╨╜. ╨У.╨п. ╨Т╤П╨╖╨╡╨╝╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨╕ ╨╝╨░╨╣╨╛╤А╤Г ╨Ш.╨У. ╨Ч╤Г╨▒╨╛╨▓╤Г, ╨╛╨╜ ╨▒╨╡╨╖╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛ ╨▓╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗ ╨▓ ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╤Н╨╗╨╕╤В╤Г ╨╕ ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╤П╨╗ ╨У╨Ъ╨Ъ ╨┤╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╤А╨╡╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨░╨║╤В╨╕╨▓╨╜╨╛ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╤В╨░╨║╨╛╨▓╨╛╨╝╤Г. ╨Ъ ╤Б╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤О, ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╡╨▒╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨▓ ╨╕╨╖╤Г╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤Е ╨╛╤В╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╛ ╨╗╨╕╤И╤М ╨┐╨╛ ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╕ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╤М╤П ╨╖╨░ ╨╡╨╡ ┬л╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡┬╗13. ╨Ш ╨▓╤Б╨╡ ╤А╨░╨▓╨╜╨╛ ╨▓ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨╜╨╡╨┐╤А╨╛╤П╤Б╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨┤╨╛ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨░ ╨╛╨▒╤Б╤В╨╛╤П╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╡ ╨╜╨╡╨╗╤М╨╖╤П ╨╜╨╡ ╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╤М ╨╜╨╡╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╤Г╤З╨░╤Б╤В╤М╤О ╨У╨Ъ╨Ъ ╨╕ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╡╨╣ ╨╛ ╨╜╨╡╨╝ ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╨╜╨╡ ╨╜╨░ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╣, ╤В╨╛ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤Б╤В╨░╨┤╨╕╨╕ ╨╡╨╡ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П. ╨Э╨░ ╨╜╨╡╨╡ ╨╢╨╡ ╨╜╨░╨╝╨╡╨║╨░╨╡╤В ╨╕ ╨╖╨░╨┐╤А╨╛╤Б ╨Ъ╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В╨░ ╨▓ ╨б╨╡╨╜╨░╤В ╨╛╤В 29 ╨╝╨░╤А╤В╨░ 1737 ╨│. ╨╛ ┬л╨▒╤Л╨▓╤И╨╡╨╝┬╗ ╨┐╤А╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨║╨╛╨╜╤В╨╛╤А╨╡ ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╨╕, ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╤Б╨╡╨╜╤В╨╡╨╜╤Ж╨╕╨╡╨╣ ╨╛ ┬л╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╤Е ╤Г╨▒╤Л╤В╨║╨░╤Е ╨║╨░╨╖╨╜╨╡┬╗ ╨╕ ┬л╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В╨░╨╝ ╨╜╨╡╤Б╨╜╨╛╤Б╨╜╤Л╤Е ╨╛╨▒╨╕╨┤╨░╤Е┬╗ ╨╛╤В ┬л╤В╨░╨║╨╕╤Е ╨╜╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╡╤Й╨╡╨╣┬╗14.
╨б╨╡╨╜╨░╤В, ╨║╨╛╨╜╨╡╤З╨╜╨╛, ╨▒╤Л╨╗ ╨▓ ╨║╤Г╤А╤Б╨╡ ╨▓╤Л╨╜╨╡╤Б╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╤В╨╛╨╝ ╨╢╨╡ ╨╖╨░╤Б╨╡╨┤╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▓╨╡╤А╨┤╨╕╨║╤В╨░ ╨▓╨╖╤Л╤Б╨║╨░╤В╤М ┬л╨╜╨░ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╤Б╨║╨╕╤Е ╤З╨╗╨╡╨╜╨░╤Е┬╗ ╨╖╨░ ╨┐╤А╨╕╤Б╨╗╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨▓ 1735 ╨│. ╨▓ ┬л╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Г┬╗ ╨С.-╨е. ╨Ь╨╕╨╜╨╕╤Е╨░ ╨╝╤Г╨╜╨┤╨╕╤А╤Л, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ┬л╨┐╨╛ ╨┤╨╛╨▒╤А╨╛╤В╨╡ ╤Б╤Г╨║╨╜╨░ ╨╕ ╨▓ ╨│╨░╤А╨╜╨╕╨╖╨╛╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛╨╗╨║╨░╤Е ╨▒╤Л╤В╤М ╨╜╨╡ ╨▓╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╜╤Л┬╗, ╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╨║╨░╨╖╤Г╨╡╨╝╨╛ ╨╛╤В╤А╨╡╨░╨│╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╜╨░ ╨╜╨░╤Б╤В╤А╨╛╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╤А╨╛╨▓. ╨Э╨╡ ╨╛╤В╤Б╤В╤Г╨┐╨░╤П ╨┐╨╛ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╤Г ╨╛╤В ┬л╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤П┬╗ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕, ╨╛╨╜ 31 ╨╝╨░╤П ╤Г╨╢╨╡╤Б╤В╨╛╤З╨╕╨╗ ╨╜╨░╨╝╨╡╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╡╨╣ ╤Б╨░╨╜╨║╤Ж╨╕╨╕ ╨║ ╨┐╤А╨╕╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨▓╤И╨╕╨╝ ╨▓ 1734 ╨│. ╨▓ ╨У╨Ъ╨Ъ ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╨╜╨╕╤Е ╨┐╤А╨╕╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╕╨╜╨╛╨▓╨╜╤Л╨╝ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨░╨╝ ╤И╤В╤А╨░╤Д╨░. ╨Т ╤Б╨╛╨║╤А╨░╤Й╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╡╤А╤Б╨╕╨╕ ┬л╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П┬╗ ╨▓ ╨Ъ╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В ╨╛╤В 13 (26) ╨╕╤О╨╜╤П ╤Н╤В╨╛╤В ╤Б╨╡╨╜╨░╤В╤Б╨║╨╕╨╣ ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А ╨╛╨┐╤А╨╛╨▒╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╤В╨░╨╝ 1 ╨╕╤О╨╗╤П ╨╕ 18 ╨╕╤О╨╗╤П ┬л╤Б╨╗╤Г╤И╨░╨╡╤В╤Б╤П┬╗ ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤В╨╛╤А╨╡, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П ╨╖╨░╨║╤А╤Л╨▓╨░╨╡╤В ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛ ╨┐╨╛ ╨╜╨╡╨╝╤Г 23 ╨╕╤О╨╗╤П, ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╤Г╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╤П15.
╨Я╤А╨╛╨▓╨╛╨╗╨╛╤З╨║╨╕ ╤Б ╨╖╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ┬л╨┤╨╡╨╗╨░┬╗, ╨╜╨╡ ╤Б╨╗╨╕╤И╨║╨╛╨╝ ╨▓╨╡╤Б╨╛╨╝╨╛╨│╨╛ ╤Б ╤В╨╛╤З╨║╨╕ ╨╖╤А╨╡╨╜╨╕╤П ┬л╨╕╨╜╤В╨╡╤А╨╡╤Б╨░ ╨╡. ╨╕. ╨▓.┬╗ ╨╕ ╨║ ╤В╨╛╨╝╤Г ╨╢╨╡ ╨┤╨░╨▓╨╜╨╛ ╨╕ ╨┤╨╡╤В╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╤А╨░╤Б╨║╤А╤Л╤В╨╛╨│╨╛, ╨╗╨╕╨║╨▓╨╕╨┤╨░╤Ж╨╕╤П ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤А╨░╨┤╨╕ ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨┤╨╛ ╤В╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕ ╨╜╨░╤А╨╡╨║╨░╨╜╨╕╤П ╨╜╨░ ╤Г╨╢╨╡ ╤Б╨╝╨╡╤Й╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Б╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╨┐╨╛╤Б╤В╨╛╨▓ ┬л╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╤Б╨║╨╕╤Е ╤З╨╗╨╡╨╜╨╛╨▓┬╗16 ╤Г╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤О╤В ╨╜╨░ ╨║╨░╨║ ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╨╗╨╛ ╨╜╨╡ ╤Б╨▓╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ┬л╨▓╨╡╤А╤Е╨░╨╝┬╗ ╨║╨╛╨╗╨╡╨▒╨░╨╜╨╕╤П. ╨Р ╨▓╨╛╤Б╨║╤А╨╡╤И╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤А╨╕╤В╨╛╤А╨╕╨║╨╕ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ ╤Ж╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨┤╤Г╤Е╨╡ ╨╝╨╛╨╜╨░╤А╤И╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛╨┐╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛ ╨╝╤Г╨╜╨┤╨╕╤А╨╡ ╨╕ ╨░╨╝╤Г╨╜╨╕╤Ж╨╕╨╕, ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ┬л╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В╤Л ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╗╨╕╨▓╨╛ ╨╛╨▒╨╕╨╢╨╡╨╜╤Л ╨▒╤Л╨▓╨░╤О╤В┬╗17, ╨▓ ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╗╤П ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣, ╤Е╨╛╤З╨╡╤В╤Б╤П ╤В╤А╨░╨║╤В╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨║╨░╨║ ╨║╨╛╤Б╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨╡╤Г╨┤╨░╤З╨╕ ╤Е╨╛╨╖╤П╨╣╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨Т╨╛╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ 1730 ╨│. тАУ ╤Д╨╛╤А╨╝╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Г╤О╤Й╨╡╨│╨╛ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╛╨╜╨╡╨╜╤В╨░ ╨╕╨╜╨╕╤Ж╨╕╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╡╨╣ ╤А╨╡╤Д╨╛╤А╨╝╤Л.
╨Т ╤В╨░╨║╤Г╤О ╤В╤А╨░╨║╤В╨╛╨▓╨║╤Г тАУ ╨┐╤А╨╕╤Б╤Г╤Й╤Г╤О ╨╕ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╡╨┐╤Ж╨╕╨╕ ╨Э.╨Э. ╨Я╨╡╤В╤А╤Г╤Е╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓╨░ тАУ ╨┐╨╡╤А╨╡╤Е╨╛╨┤╨░ ╨║ ╨╖╨░╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ 21 ╤П╨╜╨▓╨░╤А╤П 1736 ╨│. ╤Б╤В╤А╤Г╨║╤В╤Г╤А╨╡ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╤Г╨║╨╗╨░╨┤╤Л╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨╛╤Ж╨╡╨╜╨║╨░ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨│╨╛ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╝ ╨┤╨╛╨▒╤А╨╛╤Б╨╛╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤З╨╡╤А╨║╨░ ╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╤И╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨░╤Е ╨У╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤В╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤В╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П 1860-╤Е ╨│╨│. ╨Т╨╕╨┤╤П ╨▓ ╨╜╨╡╨╝ ╨┐╤А╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖ ╤Б╨▓╨╡╤В╨╗╨╛╨│╨╛ ┬л╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╨╡╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛┬╗ ╨▒╤Г╨┤╤Г╤Й╨╡╨│╨╛, ╨д.╨Я. ╨и╨╡╨╗╨╡╤Е╨╛╨▓ ╨┐╨╕╤Б╨░╨╗ ╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨║╤А╨░╤В╨║╨╛╨╝ ╨▓╨╛╨┐╨╗╨╛╤Й╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓ ╨╢╨╕╨╖╨╜╤М ╨║╨░╨║ ╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╡╨░╨║╤Ж╨╕╨╕ ╨╜╨░ ┬л╨▓╨╛ ╨▓╤Б╨╡╤Е ╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╡╤Й╨░╤Е ╨║╤А╨░╨╣╨╜╨╡╨╣╤И╤Г╤О ╨╜╤Г╨╢╨┤╤Г┬╗, ╨╛╤З╨╡╤А╤З╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨▓ ╤Г╨║╨░╨╖╨╡, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨╖╨╜╨░╨╗ ╨┐╨╛ ╤А╨░╨╖╨▓╨╡╤А╨╜╤Г╤В╨╛╨╣ ╤Ж╨╕╤В╨░╤В╨╡ ╨б.╨Ь. ╨б╨╛╨╗╨╛╨▓╤М╨╡╨▓╨░18. ╨Ф╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛, ╤Б╨┐╤А╨╛╨▓╨╛╤Ж╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨╛╨╜╨╡╤Б╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╨╝╨░╤А╤И╨░╨╗╨░ ╨Я.╨Я. ╨Ы╨░╤Б╤Б╨╕ ┬л╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨░╨╣╤И╨╡╨╡ ╨╜╨╡╤Г╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╕╨╡┬╗ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╤А╨╕╤Ж╤Л, ╨╜╨░╨┐╨╛╨╝╨╜╨╕╨▓╤И╨╡╨╣ ╨Т.╨п. ╨Э╨╛╨▓╨╛╤Б╨╕╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓╤Г ╨╛ ╨┐╤А╨╡╨╢╨╜╨╕╤Е ┬л╨╢╨╡╤Б╤В╨╛╨║╨╕╤Е ╤Г╨║╨░╨╖╨░╤Е┬╗ ╨┐╨╛╨┐╤А╨░╨▓╨╕╤В╤М ┬л╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╡ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨║╨╕┬╗ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░╤Е, ╤З╤В╨╛ ╨┐╨╛╨╜╤Л╨╜╨╡ ╨╜╨╡ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╤Л ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ┬л╨╛╨┐╨╗╨╛╤И╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О┬╗ ╨У╨Ъ╨Ъ, ╤П╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╤П╤А╤З╨░╨╣╤И╨╡╨╣ ╤З╨╡╤А╤В╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╨╛╨╕╨╝╨╕ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╤В╨╡╨║╤Б╤В╨░.
╨в╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨┐╤А╨╕ ╨▓╤Б╨╡╨╣ ╤Г╨▒╨╡╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╖╨▓╤Г╤З╨░╨╜╨╕╤П ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨б.╨Ь. ╨б╨╛╨╗╨╛╨▓╤М╨╡╨▓19 ╨╜╨╡ ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╕╨╗ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╤П, ╤З╤В╨╛, ╨▓╨╛-╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╤Е, ╨╛╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╕╤Б╨░╨╜ 10 ╨╕╤О╨╗╤П 1736 ╨│., ╨┐╨╛╨╗╤Г╨│╨╛╨┤╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡ ╨╗╨╕╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╨У╨Ъ╨Ъ ╨║╨╗╤О╤З╨╡╨▓╤Л╤Е ╨▓╨╗╨░╤Б╤В╨╜╤Л╤Е ╨░╤В╤А╨╕╨▒╤Г╤В╨╛╨▓, ╤Е╨╛╤В╤П ┬л╨▒╤Л╨▓╤И╨╕╨╡ ╤З╨╗╨╡╨╜╤Л┬╗ ╨╕ ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨░ ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╨╝╨╡╤Б╤В╨░╤Е ╨┤╨╛ ┬л╨╛╤В╤Д╤Г╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П┬╗ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨╢╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨╛╨╜╤В╨╛╤А20. ╨з╤В╨╛ ╨╕ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╛ ╨╕╨╝╨╡╤В╤М╤Б╤П ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╤Г ╨┐╤А╨╕ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А╨╛╨▓╨║╨╡ ╨Т.╨п. ╨Э╨╛╨▓╨╛╤Б╨╕╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓╨░ ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╤Г ╨╜╨░ ╨┐╤А╨░╨▓╨░╤Е ╨│╨╗╨░╨▓╤Л ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨╛ ┬л╨╜╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╡╤Й╨░╤Е┬╗, ╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╡ ╨┤╨╗╤П ╤Г╤Б╨║╨╛╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╨╡╤Б╨┐╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б ┬л╨▒╤Г╨┤╤Г╤Й╨╕╨╝╨╕ ╨┐╤А╨╕ ╨╜╨╡╨╝ ╤З╨╗╨╡╨╜╨░╨╝╨╕┬╗ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨▓╨╡╤Й╨░╨╝╨╕ ┬л╨│╨╛╨┤╨╜╤Л╨╝╨╕┬╗21.
╨Ш, ╨▓╨╛-╨▓╤В╨╛╤А╤Л╤Е, ╤З╤В╨╛ ╤А╨╡╤З╤М ╤В╨░╨╝ ╨╕╨┤╨╡╤В ╨╛ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▒╨░╤Е ╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╨╝╨░╤А╤И╨░╨╗╨░ ╨╜╨░ ╨▒╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╤П ╨╜╨╡ ╤Б╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В ┬л╨┐╤А╨╕ ╨Р╨╖╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Н╨║╤Б╨┐╨╡╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╕┬╗, ╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨┐╤А╨╕╤Б╨╗╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╤В╤Г╨┤╨░ ╤А╨╡╨║╤А╤Г╤В, ╨╛╨▒ ╤Г╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ┬л╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨░┬╗ ╨▓ ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ ╨╕╤О╨╜╤П ╨╛╤В╤З╨╕╤В╨░╨╗╤Б╤П ╤А╨░╨╖╨╝╨╡╤Й╨░╨▓╤И╨╕╨╣╤Б╤П ╤Б╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ┬л╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨╣┬╗ ╨▓ ╨Т╨╛╤А╨╛╨╜╨╡╨╢╨╡ ╨╗╨╡╨╣╨▒-╨│╨▓╨░╤А╨┤╨╕╨╕ ╨╝╨░╨╣╨╛╤А ╨Ш.╨Я. ╨и╨╕╨┐╨╛╨▓22. ╨Ф╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╨╢╨╡ ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╛ ╨║╨░╤В╨░╤Б╤В╤А╨╛╤Д╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Б ╨╛╨┤╨╡╨╢╨┤╨╛╨╣, ╨╛╨▒╤Г╨▓╤М╤О ╨╕ ╤В╨╛╨╝╤Г ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤Л╨╝ ╨╜╨╕ ╨▓ ╤В╨╡╨║╤Г╤Й╨╡╨╣, ╨╜╨╕ ╨▓ ╨┐╤А╨╛╤З╨╕╤Е (╨┐╨╗╨╛╤В╨╜╨╛ ╨║╨╛╨╜╤В╤А╨╛╨╗╨╕╤А╤Г╨╡╨╝╤Л╤Е ╨Ъ╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В╨╛╨╝) ╨║╨░╨╝╨┐╨░╨╜╨╕╤П╤Е ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛-╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л 1735тАУ 1739 ╨│╨│., ╨╜╨╕ ╨┤╨╛ ╨╡╨╡ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ (╨║╨╛╨│╨┤╨░ ┬л╤Б╨╗╨░╨▒╨╛╤Б╤В╤М╤О┬╗ ╨У╨Ъ╨Ъ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤Б╤П ╨б╨╡╨╜╨░╤В) ╨╜╨╡ ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╨░╨╡╤В╤Б╤П. ╨а╨░╨╖╨▓╨╡ ╤Д╤А╨░╨╖╨╡╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╨▒╨╗╨╕╨╖╨║╨╕╨╣ ╨║ ╨╕╤О╨╜╤М╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╛╨╜╨╡╤Б╨╡╨╜╨╕╤О ╤П╨╜╨▓╨░╤А╤Б╨║╨╕╨╣ 1733 ╨│. ╤А╨░╨┐╨╛╤А╤В ╤В╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╨Я.╨Я. ╨Ы╨░╤Б╤Б╨╕ ╨┐╨╛ ╨╡╨│╨╛ ┬л╨Ы╨╕╤Д╨╗╤П╨╜╨┤╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╡┬╗, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨С.-╨е. ╨Ь╨╕╨╜╨╕╤Е, ╨╛╨┐╤А╨░╨▓╨┤╤Л╨▓╨░╤П╤Б╤М ╨▓ ╨╝╨░╨╡ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤ ╤Б╨╡╨╜╨░╤В╨╛╤А╨░╨╝╨╕ ╨╖╨░ ╨╖╨░╨┐╨╛╨╖╨┤╨░╨╗╨╛╨╡ ╤Г╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╨╜╨╡╨╝, ╨░╤В╤В╨╡╤Б╤В╨╛╨▓╨░╨╗ ╨║╨░╨║ ╨╡╨┤╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╕╨╖ ╨▓╤Б╨╡╤Е ┬л╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤┬╗ ╨╕ ╨╜╨╡╨╛╨┐╤А╨░╨▓╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡ ╨╛╤В╨║╨╗╨╕╨║╨╜╤Г╨╗╨░╤Б╤М ╨╕╨╖╨╗╨╕╤И╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╤Б╨╛╤Б╤А╨╡╨┤╨╛╤В╨╛╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╨а╨╕╨│╨╡ ╤Б╨╜╨░╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╤П23.
╨Э╨╡╨┐╤А╨╡╤А╤Л╨▓╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨▓╤В╨╛╤А╤П╤О╤Й╨╡╨╣╤Б╤П ╨▓ ╤Г╨║╨░╨╖╨░╤Е, ╨║╨░╤Б╨░╨▓╤И╨╕╤Е╤Б╤П ╨У╨Ъ╨Ъ, ╤В╨╡╨╝╨╡ ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╜╤Г╨╢╨┤╤Л ╨╕╨╖-╨╖╨░ ╨╡╨│╨╛ ┬л╨▒╨╡╨╖╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╨╕┬╗ ╨▓ ╨┐╤А╨╡╤Б╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤В╨░╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╛╤А╨╡╤З╨╕╤В ╨╕ ╨║╨░╤Б╨░╨▓╤И╨╕╨╣╤Б╤П ╨╜╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╤Г╨║╨░╨╖ ╨╛╤В 24 ╤Б╨╡╨╜╤В╤П╨▒╤А╤П 1736 ╨│. ╨Ш╨╝ ╨┐╤А╨╛╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╤И╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛ ╨▓╤Б╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨╜╨░ ╨╖╨╕╨╝╨╜╨╕╨╡ ╨║╨▓╨░╤А╤В╨╕╤А╤Л ╨▓╤Б╨╡╨╛╨▒╤Й╨╡╨│╨╛ ╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨░, ╤Г╤З╤А╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ 1731 ╨│. ╨║╨░╨║ ╨┐╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╜╨░╤П ╤Д╤Г╨╜╨║╤Ж╨╕╤П ┬л╨╕╨╜╤Б╨┐╨╡╨║╤В╨╛╤А╨╛╨▓┬╗, ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╨┐╤Л╤В╨░ (1732 ╨│.) ┬л╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨║ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╝┬╗, ┬л╨╛╤В╤З╨╡╨│╨╛тАж ╨╜╨╡╨┐╨╛╤А╤П╨┤╨║╨╕ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨╛╤И╨╗╨╕┬╗. ╨б╤О╨╢╨╡╤В ╤А╨╡╨│╤Г╨╗╤П╤А╨╜╤Л╤Е ╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨╛╨▓, ╤В╨╛╨╢╨╡ ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╨╕╨╝╤Л╨╣ ╨║ ╨║╨░╤А╨┤╨╕╨╜╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П╨╝ ╨Т╨╛╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕, ╨┤╨╗╤П ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╕╤Е ╤А╨░╤Б╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤З╨░╤В╨╡╨╗╨╡╨╜ ╤В╨╡╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨▓╨╛╤Б╨║╤А╨╡╤И╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨╜╤Б╤В╨╕╤В╤Г╤В╨░ ╨╕╨╜╤Б╨┐╨╡╨║╤В╨╛╤А╨╛╨▓ (╤Е╨╛╤В╤П ╨▒╤Л ╨╜╨░ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░╤Е ╨┐╤А╨╕╨▓╨╗╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╨╜╤Л╤Е ╨╗╨╕╤Ж) ╨╕ ╨╖╨┤╨╡╤Б╤М ╨░╤А╨│╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ┬л╨▓╨╡╤Й╨░╨╝╨╕┬╗. ╨в╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╜╨╡ ╨╕╤Е ╨╜╨╡╤Е╨▓╨░╤В╨║╨╛╨╣, ╨░ ╨╖╨░╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨╛╨╣ ┬л╨▓╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤Е ╨┐╨╛╨╗╨║╨░╤Е┬╗ ╨▓╨┐╤А╨╛╨║ тАУ ╨┐╤Г╤В╨╡╨╝ ╨╖╨░╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨┤╨╛ ╨╕╤Б╤В╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╤П ┬л╤И╤В╨░╤В╨╜╤Л╤Е┬╗ ╤Б╤А╨╛╨║╨╛╨▓, ╨┤╨▓╨╛╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╤В╤А╨╛╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕╨╖ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╤Е ╨╕ ╨│╤Г╨▒╨╡╤А╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜╨╛╨▓ ╨╕ ╨╜╨╡╨╛╤В╨┤╨░╤З╨╕ ╨┐╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ┬л╨┐╨╡╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е┬╗ ╤А╤Г╨╢╤М╤П ╨╕ ╨░╨╝╤Г╨╜╨╕╤Ж╨╕╨╕24.
╨Т ╨╛╤В╨╗╨╛╨╢╨╕╨▓╤И╨╕╤Е╤Б╤П ╨╢╨╡ ╨▓ ╨б╨╡╨╜╨░╤В╨╡ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╨░╤Е ╨╛╨▒╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╤В╨░╨╝, ╨▓ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨╕ ╨Ъ╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В╨╡ ╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╤А╨╛╨▓ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╛╨▓, ╨┐╨╛ ╤В╨╡╤А╨╝╨╕╨╜╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╣ ╨╛╤Б╨╡╨╜╨╕ 1735 ╨│., ┬л╨╕╤Б╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨║╨░╨║ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е, ╤В╨░╨║ ╨╕ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╤Б╨║╨╕╤Е ╨┤╨╡╨╗ ╤Б╨╛╨╛╨▒╤Й╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨У╨Ъ╨Ъ ╤Б ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╡╨╣┬╗25 ╨▓╨╡╤Й╨╡╨▓╨╛╨╡ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╛╨▒╤Й╨╡ ╤Д╨╕╨│╤Г╤А╨╕╤А╤Г╨╡╤В ╨╗╨╕╤И╤М ╨▓ ╨░╤Б╨┐╨╡╨║╤В╨╡ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨╡╨│╨░╤В╨╕╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╖╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╤П ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨┤╨░ ╨У╨Ъ╨Ъ ╨╕╨╖ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╤Л ╨▓ ╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│. ╨Ш, ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╤П, ╨▓╤Л╨┤╨▓╨╕╨╜╤Г╨▓ ╤Н╤В╤Г ╨╕╨┤╨╡╤О ╨▓ ╨╝╨░╤А╤В╨╡ 1733 ╨│. ╨┐╨╛╨┤ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╗╨╛╨│╨╛╨╝ ╤В╤Й╨╡╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕╨╜╨░╤З╨╡ ╨╖╨░╨▒╨╛╤В ╨╛╨▒ ╨╕╤Б╨┐╤А╨░╨▓╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨║╨░╤Е, ╤Б ╨╗╨╡╤В╨░ ╤В╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╨│╨╛╨┤╨░ ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╛╨║ ╨╜╨╡ ╨║╤А╨╕╤В╨╕╨║╨╛╨▓╨░╨╗╨░, ╨░ ╨║ ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤А╤О 1735 ╨│. ╤Б╨║╨╗╨╛╨╜╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨║ ╨╛╤В╨║╨░╨╖╤Г ╨╛╤В ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╕, ╨╛╤В╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨▓╨╛╤Б╨┐╤А╨╕╨╜╤П╨▓ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨┤╤Л ╨╖╨░╨▒╨╗╨╛╨║╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨▓╤И╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╤Б╨╗╨╛╨║╨░╤Ж╨╕╤О ╨▓ ╨╕╤О╨╜╨╡ 1733 ╨│. ╨б╨╡╨╜╨░╤В╨░26.
╨Я╤А╨╕╨▓╨╛╨┤╤П ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╤Г ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╤П ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Б╤Д╨╡╤А╤Л, ╨╜╨╡╨╗╤М╨╖╤П ╨╛╨▒╨╛╨╣╤В╨╕ ╤В╤А╤Г╨┤╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤Б ╨░╨╝╤Г╨╜╨╕╤З╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨┐╨╛╨┤╤А╤П╨┤╨░╨╝╨╕ ╨▓ 1733 ╨│. ╨╕╨╖-╨╖╨░ ╤А╨░╤Б╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨▒╤Л╤В╨╛╨▓╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╤Ж╨╡╨╜ ╤Б ╤Ж╨╡╨╜╨░╨╝╨╕, ╨╖╨░╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨▓ ┬л╨╜╨╛╨▓╤Л╨╣ ╤Б╤В╨░╤В┬╗, ╨╕ ╨╜╨╡╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╛╨╝╤Л╤И╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨┐╤А╨╕ ╨╕╤Е ╨┐╨╛╨▓╤Л╤И╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤В╤М ┬л╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░╨╝┬╗, ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨┤╨╗╤П ╨Т╨╛╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨║╨░╨║ ╨╛╨┐╤Л╤В╨╜╤Л╨╡ ╨╕ ╨║ ╤В╨╛╨╝╤Г ╨╢╨╡ ╤Б ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┐╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Б╤Л╤А╤М╤П. ╨Ю╨╜╨╕ ╨╕ ╨┐╨╛╤А╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨▓╤Б╨║╤А╤Л╤В╤Л╨╣ ╨Э.╨Э. ╨Я╨╡╤В╤А╤Г╤Е╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╝ ╨║╨╛╨╜╤Д╨╗╨╕╨║╤В ╨У╨Ъ╨Ъ ╤Б ╨С.-╨е. ╨Ь╨╕╨╜╨╕╤Е╨╛╨╝, ╨╛╨▒╤А╤Г╤И╨╕╨▓╤И╨╕╨╝╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╡╨│╨╛ ╤З╨╗╨╡╨╜╨╛╨▓ ╨╕ ╨┐╨╡╤А╤Б╨╛╨╜╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╨Ъ.╨Т. ╨Ь╨░╨║╨░╤А╨╛╨▓╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨▒╤Л╨╗ ╨╡╨╡ ╨╛╨▒╨╡╤А╤Б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨░╤А╨╡╨╝ ╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╤А╨╡╨╜╨╡╨▒╤А╨╡╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨│╨╛ ╨╡╨╡ ╤А╨╡╨║╨╛╨╝╨╡╨╜╨┤╨░╤Ж╨╕╤П╨╝╨╕ ╤П╨║╨╛╨▒╤Л ╨╜╨╡ ╤Б╨╗╤Г╤З╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨▒╤Л ╨╜╨╕╨║╨░╨║╨╕╤Е ╤Б╨▒╨╛╨╡╨▓.
╨Ш╤Е ╨┐╤А╨╡╨╛╨┤╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║ ╤Б╨╡╨╜╤В╤П╨▒╤А╤О тАУ ╨╛╨║╤В╤П╨▒╤А╤О 1733 ╨│. ╤Б╨╛╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤Г╤Б╨╕╨╗╨╕╤П╨╝╨╕ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜, ╨┤╨╛╤Б╤В╨╕╨│╤И╨╕╤Е ╤Б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╕╤П ╨╜╨░ ╨┐╨╛╤З╨▓╨╡ ╤А╨░╨╖╤А╨░╨▒╨╛╤В╨║╨╕ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨░╨┤╨╡╨║╨▓╨░╤В╨╜╤Л╤Е ┬л╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨╛╨▓┬╗, ╨╜╨╡ ╨╛╨▒╨╛╤И╨╗╨╛╤Б╤М ╨▒╨╡╨╖ ╨╢╨╡╤Б╤В╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╝╨╡╤И╨░╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░ ╨б╨╡╨╜╨░╤В╨░27. ╨Э╨╛ ╤В╨░╨║╨╛╨╡ ╨▓╨╝╨╡╤И╨░╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛, ╨▓╤Л╤В╨╡╨║╨░╤П ╨╕╨╖ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╨▒╤П╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╡╨╣ ╨║╨╛╨╛╤А╨┤╨╕╨╜╨╕╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨╛╤В╤А╨░╤Б╨╗╨╡╨▓╤Г╤О ╨┤╨╡╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╤Ж╨╡╨╜╤В╤А╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╛╨▓ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨░╨┐╨┐╨░╤А╨░╤В╨░, ╨╜╨╡ ╨╛╤В╤А╨╕╤Ж╨░╨╡╤В ╤В╨╛╨│╨╛, ╤З╤В╨╛ ╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨▓ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╡ 1730-╤Е ╨│╨│. ╤Г╤А╨╡╨│╤Г╨╗╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╤Г╨┤╨░╤З╨╜╨╛, ╨▓ ╨╕╨╖╤Г╤З╨░╨╡╨╝╤Л╨╣ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╤Г╤В╤А╨░╤В╨╕╨╗╨╛ ╨╜╨╡╨┤╨░╨▓╨╜╤О╤О ╨╛╤Б╤В╤А╨╛╤В╤Г. ╨в╨╛╨│╨┤╨░ ╨║╨░╨║ ╨╝╤Г╨╜╨┤╨╕╤А╨╜╨╛-╨░╨╝╤Г╨╜╨╕╤З╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨╛╤В╨╕╨▓, ╨╜╨░ ╨┐╤А╨╛╤В╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╤И╨╡╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╡╤Б╤П╤В╨╕╨╗╨╡╤В╨╕╤П ╨┐╤А╨╛╤З╨╜╨╛ ╨░╤Б╤Б╨╛╤Ж╨╕╨╕╤А╤Г╨╡╨╝╤Л╨╣ ╨▓ ╨╛╨▒╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤Б╨╛╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╕ ╤Б ╨░╤А╨╝╨╡╨╣╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ┬л╨╜╨╡╨┐╨╛╤А╤П╨┤╨║╨░╨╝╨╕┬╗, ╨┐╤А╨╡╨▓╤А╨░╤В╨╕╨╗╤Б╤П ╨╕╨╖ ╨┐╤А╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝╤Л ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨╕╨┤╨╡╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝.
╨Я╤А╨╕╨╡╨╝, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╤Б╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤К╤О╨╜╨║╤В╤Г╤А╨╡ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨┤╨╗╤П ╨┤╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╜╨░ ╤З╨╕╨╜╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╤Е ╤А╨░╨╜╨│╨╛╨▓ ╨▓╨┐╨╗╨╛╤В╤М ╨┤╨╛ ╨▓╤Л╤Б╤И╨╕╤Е, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╤Б╤Л╨│╤А╨░╨╗ ╤Б╨▓╨╛╤О ╤А╨╛╨╗╤М ╨▓ ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨░╨║╤В╤Г╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨▓╤Л╨╖╨╛╨▓╨╛╨▓ ╤Н╨┐╨╛╤Е╨╕ ╨║ ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╝ ╨┐╨╛╤А╨╛╨║╨░╨╝ ╨У╨Ъ╨Ъ. ╨Т╨║╨╗╨░╨┤ ╨▓ ╨▓╨╛╨╖╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╖╨░ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╨░╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╕╨╝ ╨╜╨╡╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╤Б╨╕╨╗╨░╨╝ ╨┤╨╛╤Е╨╛╨┤╨╛╨▓ ╤Г╨╢╨╡ ╨┐╨╛╤В╨╛╨╝╤Г, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨╜ ╨╕╨╝╨╕ ┬л╨▓╨╡╨┤╨░╨╗┬╗, ╨▓╨╜╨╡╤Б╨╗╨░, ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╡╨╝, ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╤В╨╡╨╛╤А╨╡╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨░╤П ╨╜╨╡╤Г╤Б╤В╨╛╨╣╤З╨╕╨▓╨╛╤Б╤В╤М. ╨Т╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╤И╨╕╨╣ ╨║╨░╨║ ╨╜╨╡╨┐╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╤Н╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤В ╨╡╨▓╤А╨╛╨┐╨╡╨╣╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ┬л╤А╨╡╨│╤Г╨╗╤П╤А╤Б╤В╨▓╨░┬╗, ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В ╨▓ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨╜╨╡ ╤Б╤В╨░╨╗ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╤А╤П╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨╕ ╨║╨╛╨╜╤В╤А╨╛╨╗╨╡╤А╨╛╨╝ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓ ╨╕╨╗╨╕ ╤Б╤Г╨┤╤М╨╡╨╣ ╨╕ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А╨╛╨╝ ╤Б ╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╨╡╤А╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╤З╨╡╤А╤В╨░╨╝╨╕, ╨║╨░╨║╨╕╨╝╨╕ ╨▓ ╤В╨╛╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╨╕╨╜╨╛╨╣ ╤Б╤В╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕, ╤Б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╜╨╛ ╨Я.╨Ю. ╨С╨╛╨▒╤А╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╝╤Г, ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╤В╨╛╤В╨╕╨┐╤Л ╨▓ ╨Ф╨░╨╜╨╕╨╕, ╨Я╤А╤Г╤Б╤Б╨╕╨╕, ╨б╨▓╤П╤Й╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨а╨╕╨╝╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨╕╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╨д╤А╨░╨╜╤Ж╨╕╨╕28. ╨Э╨╛ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╡ ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╤Л╤Е ╤Г╤Б╤В╨░╨▓╨╛╨▓ ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б ╤Г╨╜╨╕╨║╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤В╨╕╤В╤Г╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨│╨╛ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╤П ╨║╨╜. ╨п.╨д. ╨Ф╨╛╨╗╨│╨╛╤А╤Г╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨┐╨╛╤В╨╡╨╜╤Ж╨╕╨░╤А-╨║╤А╨╕╨│╤Б-╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╛╨╝ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╤Ж╨╕╤А╨║╤Г╨╗╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤О ╨▓ ╤Г╨╝╨░╤Е ╨┐╨╛╨╗╨╕╤В╨╕╨║╨╛╨▓ ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╤З╨╡╤В╨▓╨╡╤А╤В╨╕ XVIII ╨▓. ╤Б╨╝╤Г╤В╨╜╤Л╤Е ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╛ ╨╜╨╡╨║╨╛╨╡╨╝ ╨╕╨┤╨╡╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨╡╤В╤А╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╨╕╤В╤Г╤В╨╡, ╤Ж╨╡╨╗╨╕ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╤Е╨░╤А╨░╨║╤В╨╡╤А ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨╛╤В╨╜╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╨╣ ╤Б ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╡╨╣ ╨┐╨╛╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨╡╨╛╨┤╨╜╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨╜╨╛.
╨Я╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨┤ ╨У╨Ъ╨Ъ ╨▓ 1731 ╨│. ╨▓ ┬л╨╛╤Б╨╛╨▒╨╗╨╕╨▓╤Г╤О ╨┤╨╕╤А╨╡╨║╤Ж╨╕╤О┬╗ ╨б╨╡╨╜╨░╤В╨░ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╗╤Б╤П, ╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨╜╨╡ ╨▒╨╡╨╖ ╨▓╨╗╨╕╤П╨╜╨╕╤П ╨╕╨╜╨╡╤А╤Ж╨╕╨╕ ╨╜╨╡╨┤╨░╨▓╨╜╨╡╨╣ ╨▒╨╛╤А╤М╨▒╤Л ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨║╨╜. ╨Р.╨Ф. ╨Ь╨╡╨╜╤И╨╕╨║╨╛╨▓╨░ ╤Б ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡╨╛╨│╤А╨░╨╜╨╕╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨┤╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨╛╨╝ ╨║ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡29, ╤Е╨╛╤В╤П ╤Б╤В╨╕╨╝╤Г╨╗╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨▓╤И╨╡╨╡ ╤Н╤В╨╛╤В ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨┤ ╤А╨░╤Б╤И╨╕╤А╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╡╤В╨╡╨╜╤Ж╨╕╨╕ ╨Т╨╛╨╕╨╜╤Б╨║╨░╤П ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╤П ╨╛╨▒╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╤Л╨▓╨░╨╗╨░ ╤Г╨┐╨╛╤А╤П╨┤╨╛╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤В╨╡╨║╤Г╤Й╨╕╤Е ╤А╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╨╛╨▓. ╨а╨░╤В╤Г╤П ╨╖╨░ ╨│╨╗╨░╨▓╨╡╨╜╤Б╤В╨▓╨╛ ╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨╜╨░╨┤ ╨У╨Ъ╨Ъ, ╨С.-╨е. ╨Ь╨╕╨╜╨╕╤Е ╨▓ 1733 ╨│. ╤Г╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ╤А╨░╨╜╨╡╨╡ ╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗ ╨╕╨╖ ╨┐╤А╨╡╨▒╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨╛╨▒╨╛╨╕╤Е ╨▓ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤Б╤В╨╛╨╗╨╕╤Ж╨╡, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨╢╤Б╨║╨╕╨╣ ╨┐╤А╨╡╨╖╨╕╨┤╨╡╨╜╤В ╨╝╨╛╨│ ┬л╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨╡╤В╤М┬╗ ╨╖╨░ ╨▓╤Б╨╡╨╝╨╕ ┬л╨▓╨╛╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╝╨╕ ╨┐╨╛ ╤Г╨║╨░╨╖╨░╨╝ ╨Я╨╡╤В╤А╨░ ╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛┬╗. ╨б╨╡╨╜╨░╤В, ╨╜╨░╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╤В, ╨▓ 1731 ╨│. ╨▓╨╛╨╖╤А╨░╨╢╨░╤П ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╤Г╨╝╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╤Б╨║╨╕╤Е ╨╖╨░╨┤╨░╤З, ╨▓ 1733 ╨│. ╤Г╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╗ ╨╕╤Е ╤З╤А╨╡╨╖╨╝╨╡╤А╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨▓╨▓╨╕╨┤╤Г ╨┐╨╡╤А╨╡╨╜╨╡╤Б╨╡╨╜╨╕╤П ╤Ж╨╡╨╜╤В╤А╨░ ╤В╤П╨╢╨╡╤Б╤В╨╕ ┬л╨╕╤Б╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╝╤Г╨╜╨┤╨╕╤А╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨░╨╝╤Г╨╜╨╕╤З╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╡╤Й╨╡╨╣┬╗ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╕. ╨з╨╗╨╡╨╜╤Л ╨╢╨╡ ╨У╨Ъ╨Ъ ╤В╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╨╗╨╕ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ┬л╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╨╛╤Б╤В╨╡╨╣┬╗ ╨┐╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤Г╤И╨╜╨╛╨╝╤Г ╤Б╨▒╨╛╤А╤Г ╤Б╨▓╨╛╨╕╨╝ ┬л╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╕╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╛╨╝┬╗, ╨┐╨╛╨║╨░ ╨Т.╨п. ╨Э╨╛╨▓╨╛╤Б╨╕╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓ ╨╜╨░╤Б╤В╨░╨╕╨▓╨░╨╗ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╖╤А╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨Я╤А╨╛╨▓╨╕╨░╨╜╤В╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╨╕, ╨║╨░╨║╨╛╨╣ ╨╛╨╜╨░ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨▓ 1724 ╨│.30
╨Т╤Б╨╡ ╤Б╨╛╨│╨╗╨░╤И╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╗╨╕╤И╤М ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ┬л╨╕╤Б╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П┬╗ ╨У╨Ъ╨Ъ ╨▓ ╨┐╨╗╨░╨╜╨╡ ┬л╤Б╨╜╨░╨▒╨┤╨╡╨▓╨░╨╜╨╕╤П┬╗ ╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨┐╤А╨╕╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╨╝╨╕ ╨╕ ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨║╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤П╨╝╨╕, ╨╜╨░ ╤З╤В╨╛ ╨┐╤А╨░╨▓╤П╤Й╨╕╨╡ ╨║╤А╤Г╨│╨╕, ╨╛╨▒╤Л╤З╨╜╨╛ ╨╛╤А╨╕╨╡╨╜╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨▓╤И╨╕╨╡╤Б╤П ╨╜╨░ ╤Б╨╛╨║╤А╨░╤Й╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤И╤В╨░╤В╨╛╨▓, ╨▒╤Л╨╗╨╕ тАУ ╨▓ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╨▓╤И╨╕╤Е ╨╡╨│╨╛ ┬л╨║╨╛╨╜╤В╨╛╤А╨░╤Е┬╗ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ тАУ ╨▓╤Л╨╜╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╤Л ╨┐╨╛╨╣╤В╨╕. ╨Я╨░╤А╨░╨╗╨╗╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╤Г╨╜╨╕╤З╤В╨╛╨╢╨╕╨▓ ╨╜╨░ ╨║╨░╨║╨╛╨╡-╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╤Б╨░╨╝╨╛ ╨╕╨╝╤П ╨У╨Ъ╨Ъ, ╤З╤В╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╜╨╛ ╤Б ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨▓╤И╨╡╨╣╤Б╤П ╤В╤А╨╕ ╤Б ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨│╨╛╨┤╨░ ╨║╨░╨╝╨┐╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▓╤Л╤Б╨╛╤З╨░╨╣╤И╨╕╤Е ╨▓╤Л╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╛╨▓, ╨▓╨╖╤П╤В╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨┤ ╨║╨░╤А╨░╤Г╨╗ ╨┐╨╛ ╨╝╨╡╤Б╤В╤Г ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╤Л ╨╕ ╤И╤В╤А╨░╤Д╨╛╨▓ ╤В╨╡╤Е, ╨║╤В╨╛ ╨╡╤Й╨╡ ╨▓ ╤Б╨╡╨╜╤В╤П╨▒╤А╨╡ 1732 ╨│. ╨┐╤А╨╕╨╜╨╡╤Б ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г ╨┤╤Г╤А╨╜╤Г╤О ╨▓╨╡╤Б╤В╤М ╨╛ ╨║╤А╨░╤Е╨╡ ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨┤ ╨╜╨░ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Д╨╕╨╜╨░╨╜╤Б╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▒╨░╨╖╤Л ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨╜╨╕╤П ╨░╤А╨╝╨╕╨╕.
╨Т ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╨╕╤В╤Г╨░╨╗╨╕╨╖╨░╤Ж╨╕╤П ╨┐╨╛╨┤╤Г╤И╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╨▒╨╛╤А╨░ ╨┐╤А╨╕ ╨│╤Г╨▒╨╡╤А╨╜╨░╤В╨╛╤А╨░╤Е ╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨▓╨╛╨┤╨░╤Е ╨▓ ╨╗╨╕╤Ж╨╡ ╨┐╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╕╤З╨╕╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨║ ╨╜╨╕╨╝ ╨╛╤В╤Б╤В╨░╨▓╨╜╤Л╤Е ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨╛╨▓ ╤П╨▓╨╗╤П╨╗╨░╤Б╤М ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╝╨╡╤А ╨┐╨╛╨┤ ╨╗╨╛╨╖╤Г╨╜╨│╨╛╨╝ ╤Г╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╤П ┬л╨╜╨╡╨┐╨╛╤А╤П╨┤╨║╨░тАж ╨▓ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╨╡┬╗, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╤В╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕╤В╨░╨║╨╕ ╨▓╨╡╤Е╨╛╨╣ ╨▓╨╜╤Г╤В╤А╨╡╨╜╨╜╨╡╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤В╨╕╨║╨╕ 1730-╤Е ╨│╨│., ╨Э.╨Э. ╨Я╨╡╤В╤А╤Г╤Е╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓ ╨▒╨╡╨╖╨╛╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╛╤З╨╜╨╛ ╨┐╤А╨░╨▓. ╨Э╨╛ ╤Б ╤Б╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ╨╛ ╤Б╤Г╤Й╨╜╨╛╤Б╤В╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ ╤Н╤В╨╛╨╣ ╨╕╨╜╤Б╤В╨╕╤В╤Г╨░╨╗╨╕╨╖╨░╤Ж╨╕╨╕ ╤Б ╤А╨╡╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛ ╤Б╨┐╨╛╤А╨╕╤В╤М. ╨Ш╨╖ ╨╕╨╖╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨╣ ╤Б╤В╨░╤В╤М╨╡, ╨▓ ╤З╨░╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕, ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╨╡╤В, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨▓ ╨░╨║╤В╨╡ ╨╛╤В 26 ╤П╨╜╨▓╨░╤А╤П 1736 ╨│. ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╝╨╕ ╤В╤А╨╡╨╝╤П ┬л╤Б╤В╨░╤В╤М╤П╨╝╨╕┬╗ ╤Н╤В╨╛ ╤А╨╡╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡31 ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤В╨╡╨║╨░╨╗╨╛ ╨╕╨╖ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╨╕ ╤Б╤А╨╛╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Г╨╗╤Г╤З╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╤П, ╨╛╨┤╨╜╨╛╤В╨╕╨┐╨╜╤Л╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╡╤Б╨╜╤Л╨╡ ╨▓╤Л╨┐╨░╨┤╤Л ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨│╨╛ тАУ ╨С.-╨е. ╨Ь╨╕╨╜╨╕╤Е╨░ ╨╗╨╕, ╤Б╨╡╨╜╨░╤В╨╛╤А╨╛╨▓ ╨╕╨╗╨╕ ┬л╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╤А╨╛╨▓┬╗ тАУ ╨▓╤Б╤П╨║╨╕╨╣ ╤А╨░╨╖ ╨┐╤А╨╡╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨║╨╛╨╜╨║╤А╨╡╤В╨╜╤Л╨╡ ╤В╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨║╨╕. ╨Р ╨╛╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╕╨╡ (╤В╨╛╤З╨╜╨╡╨╡, ╨┐╨╡╤А╨╡╤З╨╕╤Б╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡) ╤Г╤З╤А╨╡╨╢╨┤╨░╨╡╨╝╤Л╤Е ╨║╨╛╨╜╤В╨╛╤А ╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕, ╨╕╨╖ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ┬л╤Б╨▒╨╛╤А ╨┐╨╛╨┤╤Г╤И╨╜╤Л╨╣ ╨╕ ╤З╤В╨╛ ╨┤╨╛ ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨║╨░╤Б╨░╨╡╤В╤Б╤П┬╗ ╨▒╤Л╨╗ ╨▓ ╨У╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╨║╤А╨╕╨│╤Б-╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╤Б╨║╨╛╨╣, ╨╜╨╕╤З╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╤П╨╗╨╛ ╨▓ ┬л╨┤╨╕╤А╨╡╨║╤Ж╨╕╨╕┬╗ ╨╜╨░╨┤ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╤Б╨║╨╕╤Е ╤З╨╗╨╡╨╜╨╛╨▓, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П ╨╕ ╨▓ ╨Ш╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕ ╨У╨Ъ╨Ъ ╨╛╤В 12 ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤А╤П 1731 ╨│. ╤Д╨╛╤А╨╝╤Г╨╗╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨║╤А╨░╨╣╨╜╨╡ ╤А╨░╤Б╨┐╨╗╤Л╨▓╤З╨░╤В╨╛32. ╨Э╨░ ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╨║╨╡ ╨╢╨╡ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╗╨░ ╨┐╤А╨╡╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨▓ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╨┤╨╛╨▒╨╕╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╛╤В ╨▓╨╖╤Л╤Б╨║╨╕╨▓╨░╤О╤Й╨╕╤Е ╨╕ ╨┤╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╤О╤Й╨╕╤Е ╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨╕ ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╤Г ╨▓╤Б╨╡╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╨╜╨╡╨╣ ╨╛╤В╤З╨╡╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╨╛╨▒╤А╨░╨▒╨░╤В╤Л╨▓╨░╤В╤М ╨╡╨╡, ╨┐╤А╨╕ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╗╤П╤П ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Б╤Г╨╝╨╝╤Л ╨╜╨░ ┬л╤Г╨║╨░╨╖╨╜╤Л╨╡ ╤А╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╤Л┬╗.
╨Ъ╨╛╨╜╨╡╤З╨╜╨╛, ╤Г╨╢╨╡ ╤Б╨┐╨╕╤Б╨╛╨║ ┬л╨Ъ╨╛╨╜╤В╨╛╤А┬╗ ╨▓ ╤Б╨╛╨▓╨╛╨║╤Г╨┐╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤Б ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╤Б╨╗╨░╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╡╨╝╤Г ╨┐╨╡╤А╨╡╤З╨╜╨╡╨╝ ┬л╨┤╨╡╨╗┬╗, ┬л╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╗╤П╨╡╨╝╤Л╤Е┬╗ ╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╡╨╣ ╨▓╨╜╨╡ ╨╕╤Е ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╤Л, ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨╡╤В ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤ ╨▓╨┤╤Г╨╝╤З╨╕╨▓╤Л╨╝ ╤З╨╕╤В╨░╤В╨╡╨╗╨╡╨╝ ┬л╨Я╨╛╨╗╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╕╤П ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨▓┬╗ ╨╕ ╨╛╨┐╨╕╤А╨░╤О╤Й╨╕╨╝╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╛╨┐╤Л╤В ╤Б╤В╤А╨╛╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░ ╨╛╤В╤А╨░╤Б╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤Ж╨╡╨╜╤В╤А╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨░╨┤╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╤А╨░╤Ж╨╕╨╕, ╨╕ ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╨▓╨░╤О╤Й╨╕╨╝ ╨╡╨│╨╛33. ╨Я╨╛╨│╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤В╨╡╨║╤Б╤В ╨╕╤Е ╨▓╤Л╤А╨░╨▒╨╛╤В╨║╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╨╡╤В ╨┐╨╛╨┤╤З╨╡╤А╨║╨╜╤Г╤В╤М ╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╡ ╨┤╨╛╤Б╤В╨╛╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨░ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤В╨╕╨▓╨░, ╨╗╨╕╨┤╨╡╤А╨╛╨╝ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨│╨╛ ╨Э.╨Э. ╨Я╨╡╤В╤А╤Г╤Е╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓ ╤А╨╡╨╖╨╛╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╤В ╨Р.╨Ш. ╨Ю╤Б╤В╨╡╤А╨╝╨░╨╜╨░. ╨Я╤А╨╡╨╢╨┤╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╤Н╤В╨╛ ╤Ж╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨╗╤П ╤Б╤В╨░╨▒╨╕╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤Г╨╝╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Г╤Б╨┐╨╛╨║╨╛╨╕╤В╤М ╤Б╤В╤А╨░╤Б╤В╨╕ ╨▓╨╛╨║╤А╤Г╨│ ╨У╨Ъ╨Ъ, ╨▓╨╛╨╖╨▒╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨║╨░╨║ ╨▓╤Б╨╡╨│╨┤╨░ ╨┐╤Г╨│╨░╨▓╤И╨╕╨╝╨╕ ╨░╨╜╨╜╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╤Б╨░╨╜╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╝╨╕ ╤Д╨╕╨╜╨░╨╜╤Б╨╛╨▓╤Л╨╝╨╕ ╨┤╤Л╤А╨░╨╝╨╕, ╤В╨░╨║ ╨╕ ╨╛╨╢╨╕╨┤╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨░╨┤╤А╨╛╨▓╤Л╤Е ╨┐╨╡╤А╨╡╨╝╨╡╨╜, ╨║╨╛╨│╨╛-╤В╨╛ ╨╖╨░╤В╤А╨░╨│╨╕╨▓╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╨╗╨╕╤З╨╜╨╛.
╨г╤З╤В╤П ╨╕ ╤Б╤В╤А╨╡╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨║ ╨┐╤А╨╕╨╛╤А╨╕╤В╨╡╤В╤Г, ╨╕ ╨┐╨╛╨╢╨╡╨╗╨░╨╜╨╕╤П ╨У╨Ъ╨Ъ ╨╛ ╤А╨░╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╤Д╤Г╨╜╨║╤Ж╨╕╨╣, ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤В╨╡╨╗╨╕ ╨╕ ╨┐╤А╨╡╨╛╨┤╨╛╨╗╨╡╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╛╤А╨╡╤З╨░╤Й╨╡╨╡ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╝╤Г ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤О ╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨╖╨░╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╖╨░ ╨У╨Ъ╨Ъ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨║╤А╤Г╨┐╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤Б╨░ ┬л╨║╨░╤Б╨░╤О╤Й╨╕╤Е╤Б╤П ╨┤╨╛ ╤Б╤Г╤Е╨╛╨┐╤Г╤В╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨┤╨╡╨╗┬╗, ╨╕ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╤Г╤В╨╛╤З╨╜╤П╨╗╨╕ ╤Д╤Г╨╜╨║╤Ж╨╕╨╕, ╨┐╤А╨╕╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╡╨╣ ╨▓ 1720-╨╡ тАУ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ 1730-╤Е ╨│╨│., ╨│╨░╤А╨░╨╜╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨▓ ╨║ ╤В╨╛╨╝╤Г ╨╢╨╡ ╨╡╨╡ ╤А╨░╤Б╤И╨╕╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┐╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡. ╨Р ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╨╝ 16 ╨╛╨║╤В╤П╨▒╤А╤П 1736 ╨│. ╤Г╨║╨░╨╖╨╛╨╝ ╨╛ ╨┐╤А╨░╨▓╨░╤Е ╤З╨╗╨╡╨╜╨╛╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤В╨╛╤А╤Л ╤А╨░╨╖╤А╨╡╤И╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨┤╨╕╨╗╨╡╨╝╨╝╨░ ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╤М ╨╕╨╖ ╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│╨░ ╤Б╤Е╨╛╨┤╤П╤Й╨╕╨╝╨╕╤Б╤П ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨╡ ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╕ ╨▓╨╡╤Й╨╡╨▓╤Л╨╝╨╕ ╨┐╨╛╤В╨╛╨║╨░╨╝╨╕ ╨┐╤А╨╕ ╨╜╨╡╨╛╤В╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤Б╤В╨╛╨╗╨╕╤З╨╜╤Л╤Е ┬л╨▓╨╡╤А╤Е╨╛╨▓┬╗ ╨▓ ╨╛╨┐╨╡╤А╨░╤В╨╕╨▓╨╜╤Л╤Е ╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╛ ╨╜╨╕╤Е34.
╨Э╨╡ ╨┐╤А╨╛╤Б╨╗╨╡╨╢╨╕╨▓╨░╤О╤В╤Б╤П ╨╢╨╡ ╨▓ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤П╤Е 1736 ╨│. ╨┐╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╤Г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤О ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┐╤Л╤В╨║╨╕ ╨▓╨╝╨╡╤И╨░╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░ ╨▓ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╨╡ ╨░╤А╨╝╨╡╨╣╤Б╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤А╤П╨┤╨║╨╕. ╨б ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╤В╤П╨╢╨║╨╛╨╣ ╨║ ╨╜╨╕╨╝ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨▓╤Б╨╗╨╡╨┤ ╨╖╨░ ╨Э.╨Э. ╨Я╨╡╤В╤А╤Г╤Е╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╝, ╨╛╤В╨╜╨╡╤Б╤В╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤А╨░╤Й╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╤Б╤В╤А╨╛╨╣ ╨╡╨╢╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╨╛ ╨╛╤В╨▓╨╗╨╡╨║╨░╨▓╤И╨╕╤Е╤Б╤П, ╨┐╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤Б╤З╨╡╤В╨░╨╝, ╨║ ╨┐╨╛╨┤╤Г╤И╨╜╨╛╨╝╤Г ╤Б╨▒╨╛╤А╤Г 294 ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨╛╨▓ ╨╕ 4257 ╤А╤П╨┤╨╛╨▓╤Л╤Е35. ╨Э╨╛ ╨╜╨╡ ╨╖╨░╨▒╤Г╨┤╨╡╨╝, ╤З╤В╨╛ ╤Н╤В╨░ ╨▓╤Л╨│╨╛╨┤╨░, ╨┐╤А╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨▓╤И╨╕╨╝, ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤Л╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝, ╤Б╤В╨░╤В╤Б╨║╤Г╤О ╨║╨░╤А╤М╨╡╤А╤Г ╨Т.╨п. ╨Э╨╛╨▓╨╛╤Б╨╕╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╝, ╨▓╤Л╨╖╨▓╨░╨╗╨░ ╨▓ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨╜╨╡ ╨╛╨┤╨╛╨▒╤А╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨░ ╨╛╨┐╨░╤Б╨╡╨╜╨╕╤П ╤А╨╛╤Б╤В╨╛╨╝ ╨╜╨╡╨┤╨╛╨╕╨╝╨╛╨║ ╨┐╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А╤Г 1727тАУ1731 ╨│╨│.36 ╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨╢╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╢╨╡ ╨┐╤А╨╡╨╖╨╕╨┤╨╡╨╜╤В, ╨╜╨╡ ╤Б╨╝╤Г╤Й╨░╤П╤Б╤М ╤А╨░╨╖╨│╨░╤А╨╛╨╝ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л, ╨▓ ╨╝╨░╤А╤В╨╡ 1736 ╨│. ╨▓╨╛╨╛╨▒╤Й╨╡ ╨╜╨░╨╝╨╡╤А╨╡╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╤В╤М ╤Ж╨╡╨╗╤Г╤О ╨│╤А╤Г╨┐╨┐╤Г ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╤Е ╤И╤В╨░╨▒-╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨╛╨▓ ╨┐╨╛ ╤Д╨░╨▒╤А╨╕╨║╨░╨╝ ╤А╨░╨┤╨╕ ╨┐╨╛╨▓╤Л╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╨╕╤Е ╨┐╤А╨╛╨┤╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕37.
╨Ш ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╨╖╨░╨╜╤П╤В╨╛╤Б╤В╤М ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Г╤О╤Й╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╡╨┐╤П╤В╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╤Б╨╛╤З╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╤О ╨┐╤А╨╛╨╡╨║╤В╨░ ╨╛╨▒ ╤Г╨╗╤Г╤З╤И╨╡╨╜╨╕╤П╤Е ╨▓ ╨┐╤А╨╛╨╝╤Л╤И╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╕, ╨┐╨╛╤З╨╡╨╝╤Г ╨╛╨╜╨░ ╨┐╤А╨╡╨┐╤П╤В╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╤О ╤А╨╡╨╖╨╛╨╗╤О╤Ж╨╕╨╕ ┬л╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╤П ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤А╨╡, ╨▓╨╖╨╜╨╡╤Б╤В╤М┬╗ ╤Г╨╢╨╡ ╤Б╨╛╤З╨╕╨╜╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ┬л╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨╢╤Б╨║╨╕╨╣ ╤А╨╡╨│╨╗╨░╨╝╨╡╨╜╤В ╨╕ ╨║╨╛╨╜╤В╨╛╤А╨╜╤Л╨╡ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕┬╗, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨┐╤А╨╛╨╡╨║╤В╨░╨╝╨╕ ╨╡╤Й╨╡ ╨▓ ╨░╨▓╨│╤Г╤Б╤В╨╡ 1740 ╨│.38? ╨Э╨╡ ╨┐╨╛╤В╨╛╨╝╤Г ╨╗╨╕, ╤З╤В╨╛ ╨╜╨╕ ╨С.-╨е. ╨Ь╨╕╨╜╨╕╤Е, ╨╜╨╕ ┬л╤А╨░╤Б╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨▓ ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨╛╤Б╤Л╨╗╨║╨╕ ╤З╨╗╨╡╨╜╤Л┬╗ ╨╜╨╡ ╤Г╨▓╨╕╨┤╨╡╨╗╨╕ ╨▓ ╨╜╨╕╤Е тАУ ╨░ ╨▒╨╡╨╖ ╨╕╤Е ╨╛╨▒╤А╨░╤Й╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜ ╨╕ ╨░╨║╤В╤Л 1736 ╨│. ╤П╨▓╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┤╨╡╨║╨╗╨░╤А╨░╤Ж╨╕╨╡╨╣, ╨╜╨╡╨╢╨╡╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨▒╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║ ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╤О тАУ ╨╜╨╕╤З╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╗╤П ╤Б╨╡╨▒╤П ╨▓╨░╨╢╨╜╨╛╨│╨╛? ╨в╨╡╨╝ ╨┐╨░╤З╨╡ ╨┐╤А╨╕ ╤З╨╡╤В╨║╨╛ ╨┐╤А╨╛╤Б╨╝╨░╤В╤А╨╕╨▓╨░╤О╤Й╨╡╨╝╤Б╤П ╨▓ ╨╛╨┐╤Г╨▒╨╗╨╕╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ┬л╨▒╤Г╨╝╨░╨│╨░╤Е ╨Ъ╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В╨░┬╗ ╤Г╨┤╨╛╨▓╨╗╨╡╤В╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓╤Б╨╡╤Е ╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╨╡╨╣ ╨▓╨╛╤О╤О╤Й╨╡╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨▓ ╤В╤А╨░╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨┤╨╗╤П ╨┐╨╡╤В╤А╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╤Е ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜ ╤А╨╡╨╢╨╕╨╝╨╡ ╤В╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╤А╤Г╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П? (╨Я╤А╨╕ ╨╛╨┐╨╛╤А╨╡ ╨╜╨░ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╤О ╨▓ ╤В╨╛╨╣ ╨╢╨╡ ╤Б╤В╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕, ╨║╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨░ ╨▓╨╛ ╨▓╤Б╨╡╨╝ ╤Г╤Б╤В╤Г╨┐╨░╤О╤Й╨╕╨╡ ╨╡╨╣ ╨Я╨╛╤Е╨╛╨┤╨╜╤Л╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В, ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤З╨╕╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╛ ╨┤╨╛╨▓╨╡╤А╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╗╨╕╤Ж).
╨а╨░╨╖╤Г╨╝╨╡╨╡╤В╤Б╤П, ╤Г╨╝╨╛╨╖╤А╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╤А╨░╤Б╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╤В╨╛╤П╤В ╨╜╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╛, ╨░ ╨╕╨╖╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤А╤П╨┤╨░ ╨░╤А╤Е╨╕╨▓╨╜╤Л╤Е ┬л╨║╨╜╨╕╨│ ╨┐╨╛ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨╕ ╨У╨Ъ╨Ъ┬╗ ╨╖╨░ 1732тАУ1737 ╨│╨│. ╨╜╨╡ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤П╨╡╤В ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤╨░, ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╤А╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╨▓╤И╨╡╨│╨╛╤Б╤П ╤Г╤З╨╡╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╗╨╕╤И╤М ╤Д╤А╨░╨│╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤А╨╜╨╛. ╨Ш ╨▓╤Б╨╡ ╨╢╨╡ ╤Б╨╛╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╗╨╡╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╖ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣ ╤Б ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╝ ╨┐╨╛ ╨╗╨╕╤В╨╡╤А╨░╤В╤Г╤А╨╡ ╨╛ ╨╜╨░╤З╨░╤В╨╛╨╣ ╨▓ 1730 ╨│. ╤А╨╡╤Д╨╛╤А╨╝╨╡ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╨╣╤З╨╕╨▓╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╛╨┤╨╕╤В ╨║ ╨▓╤Л╨▓╨╛╨┤╤Г, ╤З╤В╨╛ ╨║ 1736 ╨│. ╨╛╨╜╨░ ╨╕╤Б╤З╨╡╤А╨┐╨░╨╗╨░ ╤Б╨▓╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╡╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨▓╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨┐╨╛╤В╨╡╨╜╤Ж╨╕╨░╨╗. ╨Ш╨╗╨╕, ╤Б╨║╨╛╤А╨╡╨╡, ╨╛╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╗╨╛╤Б╨║╨╛╤Б╤В╨╕ ╨┤╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤И╨╕╨╜╤Л ╨Я╨╡╤В╤А╨░ ╨▓ ╨┐╨╗╨╛╤Б╨║╨╛╤Б╤В╤М ╨╕╨┤╨╡╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╡╤Б╨║╤Г╤О, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓╤Б╨╡ ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨╡╨║╨╛╨╡╨╣ ╨╝╨╛╨┤╨╡╨╗╨╕, ╨╛╨▒╤А╨╡╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤Б╤В╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╜╨░ ╨▒╤Г╨╝╨░╨│╨╡, ╨╜╨╛ ╨┐╨░╤А╨░╨┤╨╛╨║╤Б╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╨╝╨╛╨╣ ╨┤╨╗╤П ╨▓╨╡╤А╤Е╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╗╨░╤Б╤В╨╕, ╤З╨╡╨╝ ╤А╨╡╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ┬л╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╕╨╡┬╗ ╨╡╨╡ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨╕╨╕.
1 ╨б ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╨╡╨╡ ╤Б╤В╤А╤Г╨║╤В╤Г╤А╤Г ╨┐╨╛╨┤╤З╨╕╨╜╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┐╤А╨╕╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╤О ╨║╨╛╨╜╤В╨╛╤А (╨Ъ╤А╨╕╨│╤Б-╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨╕╨░╤В╤Б╨║╨╛╨╣, ╨ж╨░╨╗╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨╡╤А╤Б╨║╨╛╨╣, ╨Я╤А╨╛╨▓╨╕╨░╨╜╤В╤Б╨║╨╛╨╣, ╨Ь╤Г╨╜╨┤╨╕╤А╨╜╨╛╨╣, ╨б╤З╨╡╤В╨╜╨╛╨╣, ╨д╨╛╤А╤В╨╕╤Д╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣), ╨┤╨╕╤А╨╡╨║╤В╨╛╤А╨░╨╝ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨Р╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╕╤Б╨▓╨░╨╕╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╤Б╤В╨░╤В╤Г╤Б ╤З╨╗╨╡╨╜╨╛╨▓ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ тАУ ╤Б╨╝.: ╨Я╨б╨Ч. ╨в. 9. тДЦ 6872.
2 ╨Я╨б╨Ч. ╨в. 43, ╤З. 1. тДЦ 5836; ╨в. 8. тДЦ 5904.
3 ╨Я╨╡╤В╤А╤Г╤Е╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓ ╨Э.╨Э. ╨ж╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨Р╨╜╨╜╤Л ╨Ш╨╛╨░╨╜╨╜╨╛╨▓╨╜╤Л: ╨д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╜╤Г╤В╤А╨╕╨┐╨╛╨╗╨╕╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╤Г╤А╤Б╨░ ╨╕ ╤Б╤Г╨┤╤М╨▒╤Л ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨╕ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░, 1730тАУ1735 ╨│╨│. ╨б╨Я╨▒., 2001. ╨б. 171тАУ179.
4 ╨Ъ╨╛╨│╨┤╨░ ╤В╨╛╤З╨╜╨╛, ╨┤╨╛ ╤Б╨╕╤Е ╨┐╨╛╤А ╨╜╨╡ ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛. ╨Т 1730-╨╡ ╨│╨│. ╨╛╤В╤Б╤З╨╡╤В ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╡╨▒╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤П ┬л╨┐╨╛╨┤ ╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝┬╗ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨▓╨╡╨╗╨╕ ╤Б 1723 ╨│. (╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 248. ╨Ъ╨╜. 493. ╨Ы. 525), ╤Б╤Б╤Л╨╗╨░╤П╤Б╤М ╨╜╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Г╨║╨░╨╖ ╨╛╤В 28 ╤Д╨╡╨▓╤А╨░╨╗╤П ╤Б ╨│╨╗╤Г╤Е╨╕╨╝ ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤В╨░╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ (╨Я╨б╨Ч. ╨в. 7. тДЦ 4257).
5 ╨Я╨б╨Ч. ╨в. 43, ╤З. 1. тДЦ 5836, ┬з 44; ╨в. 8. тДЦ 5876; ╨в. 9. тДЦ 6391, ┬з 4; ╨в. 11. тДЦ 8508.
6 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 248. ╨Ъ╨╜. 493. ╨Ы. 224тАУ225, 832тАУ832 ╨╛╨▒. ╨╕ ╨┤╤А.; ╨С╤Г╨╝╨░╨│╨╕ ╨Ъ╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В╨░ ╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╤А╨╛╨▓ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╤А╨╕╤Ж╤Л ╨Р╨╜╨╜╤Л ╨Ш╨╛╨░╨╜╨╜╨╛╨▓╨╜╤Л, 1731тАУ1740 ╨│╨│. / ╨б╨╛╨▒╤А. ╨╕ ╨╕╨╖╨┤. ╨Р.╨Э.╨д╨╕╨╗╨╕╨┐╨┐╨╛╨▓╤Л╨╝. ╨о╤А╤М╨╡╨▓, 1904. ╨в. 6. ╨б. 564 (╨б╨▒. ╨а╨Ш╨Ю. ╨в. 117). ╨Ф╨░╨╗╨╡╨╡: ╨С╤Г╨╝╨░╨│╨╕ ╨Ъ╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В╨░. ╨б╨▒. ╨а╨Ш╨Ю.
7 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 248. ╨Ъ╨╜. 1152. ╨Ы. 649; ╨Ъ╨╜. 7533. ╨Ы. 58 ╨╛╨▒.; ╨Ъ╨╜. 7734. ╨Ы. 324 ╨╛╨▒.; ╨Ъ╨╜. 2168. ╨Ы. 89.
8 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ъ╨╜. 7756. ╨Ы. 546, 547 ╨╛╨▒., 548 ╨╛╨▒., 575.
9 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ъ╨╜. 1152. ╨Ы. 649; ╨С╤Г╨╝╨░╨│╨╕ ╨Ъ╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В╨░. ╨б╨▒. ╨а╨Ш╨Ю. ╨в. 117. ╨б. 406.
10 ╨Ф╨░╤В╨░ ╤Б╨╗╤Г╤И╨░╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨б╨╡╨╜╨░╤В╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤В╨╛╤А╨╡ ╨╡╨╡ ┬л╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤П┬╗ ╨╕ ┬л╤Н╨║╤Б╤В╤А╨░╨║╤В╨░┬╗, ╨╜╨░ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜ ╨╗╨╕╤И╤М ╨╝╨╡╤Б╤П╤Ж ╨╕ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨╗╨╕ ╨╡╤Й╨╡ ╤Г╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤О ╨▓ ╨б╨╡╨╜╨░╤В╨╡ тАУ ╤Б╨╝.: ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 248. ╨Ъ╨╜. 7750. ╨Ы. 545тАУ587 ╨╛╨▒. ╨Ф╨░╨╗╨╡╨╡ ╤Б╤Б╤Л╨╗╨║╨╕ ╨╜╨░ ╤Н╤В╨╕ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤Л ╨┐╤А╨╕ ╨╕╨╖╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Е╤А╨╛╨╜╨╕╨║╨╕ ╨┤╨╡╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨╛╨┐╤Г╤Й╨╡╨╜╤Л.
11 ╨Я╨╛╨┤╤Б╤З╨╡╤В ╨╝╨╛╨╣. ╨Э╤Г╨╢╨╜╨╛ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╤Г╤З╨╕╤В╤Л╨▓╨░╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╤В╨╡╨╗╨╕ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╨║╤А╨░╤В╨╜╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ┬л╤Б╨┐╤А╨░╨▓╨╛╨║┬╗ ╨╛╨▒ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╨╕ ╤В╨╛╨╝ ╨╢╨╡ ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╤Е ╨╗╨╕╤Ж ╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨╡╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╤А╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╤П╤В╤Б╤П.
12 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 248. ╨Ъ╨╜. 7755. ╨Ы. 56тАУ60; ╨Ъ╨╜. 835. ╨Ы. 230тАУ242 ╨╛╨▒.; ╨Ъ╨╜. 7539. ╨Ы. 467тАУ467 ╨╛╨▒.
13 ╨Я╨╛ 24 ╨░╨▓╨│╤Г╤Б╤В╨░ 1736 ╨│.: ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 248. ╨Ъ╨╜. 2168. ╨Ы. 89. ╨Я╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ ╤Н╤В╨╛╨╣ ╨┤╨░╤В╤Л ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╣ ╨Ъ╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨║╨░╨║ ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╡╨╣ ╨┐╨╛╨║╨░ ╨╜╨╡ ╨╛╨▒╨╜╨░╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╛.
14 ╨С╤Г╨╝╨░╨│╨╕ ╨Ъ╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В╨░. ╨б╨▒. ╨а╨Ш╨Ю. ╨в. 117. ╨б. 180.
15 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 248. ╨Ъ╨╜. 7794. ╨Ы. 84тАУ88; ╨С╤Г╨╝╨░╨│╨╕ ╨Ъ╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В╨░. ╨б╨▒. ╨а╨Ш╨Ю. ╨в. 117. ╨б. 407.
16 ╨С╨╡╨╖ ╤А╨╛╨║╨╛╨▓╤Л╤Е ╨┤╨╗╤П ╨╜╨╕╤Е ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╨╣: ╨Т.╨п. ╨Э╨╛╨▓╨╛╤Б╨╕╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤А╨░╤Й╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨▓ ╨б╨╡╨╜╨░╤В ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╡╤В ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╕╨╡ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╤П, ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╨┐╤А╨╛╨▓╨╕╨╜╤В╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨╡╤А ╨д.╨Р. ╨Я╨╛╨╗╨╕╨▒╨╕╨╜, ╨╛╨▒╨╡╤А-╤И╤В╨╡╤А-╨║╤А╨╕╨│╤Б-╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А ╨У.╨б. ╨Э╨░╤Г╨╝╨╛╨▓ ╨╕ ╨╛╨▒╨╡╤А-╨║╤А╨╕╨│╤Б-╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А ╨У. ╨Ъ╨╕╤Б╨╗╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╨╣ ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╤О╤В ╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╤В╤М ┬л╨┐╨╛ ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╨╕┬╗ ╨▓ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╤Ж╨╡╨╜╤В╤А╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╜╤Б╤В╨╕╤В╤Г╤В╨░╤Е ╨╕ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╕╤Б╤З╨╡╨╖╨╜╤Г╨▓╤И╨╕╨╣ ╨▓ 1736 ╨│. ╤Б ╨░╨┤╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╤А╨░╤В╨╕╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤А╨╕╨╖╨╛╨╜╤В╨░ ╨╛╨▒╨╡╤А-╨║╤А╨╕╨│╤Б-╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А ╨Ъ.╨Т. ╨Ь╨░╨║╨░╤А╨╛╨▓ ╨▓ 1740 ╨│. ╨╛╤В╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╤Б ┬л╨╜╨░╨│╤А╨░╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤А╨░╨╜╨│╨░┬╗. ╨Э╨╡ ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨┤╨░╨╗╤М╨╜╨╡╨╣╤И╨░╤П ╤Б╤Г╨┤╤М╨▒╨░ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╨║╤А╨╕╨│╤Б-╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨░╤А╨░ ╨Ь.╨Р. ╨б╤Г╤Е╨╛╤В╨╕╨╜╨░, ╨╜╨╛ ┬л╨╛╨┐╨░╨╗╨░╨╝ ╨╕ ╤Б╤Б╤Л╨╗╨║╨░╨╝┬╗ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤А╨│╨░╨╗╤Б╤П ╨╕ ╨╛╨╜.
17 ╨Я╨б╨Ч. ╨в. 8. тДЦ 5571.
18 ╨и╨╡╨╗╨╡╤Е╨╛╨▓ ╨д.╨Я. ╨У╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╡ ╨╕╨╜╤В╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤В╤Б╨║╨╛╨╡ ╤Г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡: ╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╛╤З╨╡╤А╨║. ╨з. 1: ╨Т╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╤Ж╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╨╛╤А╨░ ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨░╨╜╨┤╤А╨░ I. ╨б╨Я╨▒., 1903. ╨б. 44тАУ45 (╨б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╕╨╡ ╨Т╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╨╡╤А╤Б╤В╨▓╨░, 1802тАУ1902 / ╨Я╨╛╨┤ ╤А╨╡╨┤. ╨Ф.╨Р. ╨б╨║╨░╨╗╨╛╨╜╨░. ╨Т╤Л╨┐. 12); ╨б╨╛╨╗╨╛╨▓╤М╨╡╨▓ ╨б.╨Ь. ╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤П ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╤Б ╨┤╤А╨╡╨▓╨╜╨╡╨╣╤И╨╕╤Е ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜. ╨Ь., 1993. ╨в. 20. ╨б. 464 (╨б╨╛╤З╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╤П, ╨║╨╜. 10).
19 ╨Ч╨╜╨░╨║╨╛╨╝╤Л╨╣ ╤Б ╤Ж╨╕╤В╨╕╤А╤Г╨╡╨╝╤Л╨╝ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝ ╨┐╨╛ ╨░╤А╤Е╨╕╨▓╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┤╨▒╨╛╤А╨║╨╡ тАУ ╤Б╨╝.: ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 248. ╨Ъ╨╜. 1116. ╨Ы. 127.
20 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ы. 141тАУ141 ╨╛╨▒., 128, 134тАУ134 ╨╛╨▒.
21 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ъ╨╜. 493. ╨Ы. 525тАУ525 ╨╛╨▒. ╨а╨░╨┐╨╛╤А╤В╤Л ╨Т.╨п. ╨Э╨╛╨▓╨╛╤Б╨╕╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓╨░ ╨╛╨▒ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╤Б╨╝.: ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ы. 118тАУ118 ╨╛╨▒. ╨╕ ╨┤╤А.
22 ╨С╤Г╨╝╨░╨│╨╕ ╨Ъ╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В╨░. ╨б╨▒. ╨а╨Ш╨Ю. ╨в. 114. ╨б. 302.
23 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 248. ╨Ъ╨╜. 493. ╨Ы. 372тАУ378 ╨╛╨▒., 936тАУ939 ╨╛╨▒.; ╨С╤Г╨╝╨░╨│╨╕ ╨Ъ╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤В╨░. ╨б╨▒. ╨а╨Ш╨Ю. ╨в. 108. ╨б. 119.
24 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 248. ╨Ъ╨╜. 493. ╨Ы. 805тАУ805 ╨╛╨▒.
25 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ъ╨╜. 494. ╨Ы. 295 ╨╕ ╨┤╤А.
26 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ъ╨╜. 493. ╨Ы. 371, 491, 556тАУ558 ╨╛╨▒., 936тАУ939 ╨╛╨▒.; ╨Ъ╨╜. 494. ╨Ы. 317тАУ317 ╨╛╨▒.; ╨Я╨б╨Ч. ╨в. 9. тДЦ 6441.
27 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 248. ╨Ъ╨╜. 493. ╨Ы. 509тАУ512 ╨╛╨▒., 582, 589, 638тАУ646, 670тАУ718, 778тАУ781 ╨╛╨▒.; ╨Я╨╡╤В╤А╤Г╤Е╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓ ╨Э.╨Э. ╨г╨║╨░╨╖. ╤Б╨╛╤З. ╨б. 168тАУ169.
28 ╨С╨╛╨▒╤А╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╨╣ ╨Я.╨Ю. ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛ ╨┐╤А╨╕ ╨Я╨╡╤В╤А╨╡ ╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╝. ╨з. 2, ╨▓╤Л╨┐. 2: ╨Р╤А╤В╨╕╨║╤Г╨╗ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╣ (╤Б ╨╛╨▒╤К╤П╤Б╨╜╨╡╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ╨┐╤А╨╡╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨▓ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨╡ ╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤Е╨╛╨╖╤П╨╣╤Б╤В╨▓╨╡ ╨┐╨╛ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╨╝ ╨╕ ╨╕╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨░╨╝). ╨Ь., 1886. ╨б. 329тАУ331, 348тАУ349, 398тАУ399, 408тАУ411, 420тАУ424 ╨╕ ╨┤╤А.
29 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 9. ╨Ю╤В╨┤-╨╡ 1. ╨Ъ╨╜. 29. ╨Ы. 450тАУ450 ╨╛╨▒.; ╨Я╤А╨╛╤В╨╛╨║╨╛╨╗╤Л, ╨╢╤Г╤А╨╜╨░╨╗╤Л ╨╕ ╤Г╨║╨░╨╖╤Л ╨Т╨╡╤А╤Е╨╛╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╤В╨░╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤В╨░, 1726 1730 / ╨Ш╨╖╨┤. ╨┐╨╛╨┤ ╤А╨╡╨┤. ╨Э.╨д. ╨Ф╤Г╨▒╤А╨╛╨▓╨╕╨╜╨░. ╨б╨Я╨▒., 1887. ╨в. 2. ╨б. 534 (╨б╨▒. ╨а╨Ш╨Ю. ╨в. 56); ╨в╨╛ ╨╢╨╡. ╨б╨▒. ╨а╨Ш╨Ю. ╨в. 63. ╨б. 26, 113, 241.
30 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 248. ╨Ъ╨╜. 493. ╨Ы. 528тАУ528 ╨╛╨▒.; 586тАУ586 ╨╛╨▒.; 492 ╨╛╨▒.тАУ493; ╨Ъ╨╜. 494. ╨Ы. 45тАУ45 ╨╛╨▒.
31 ╨Э╨╛╨▓╤Л╨╣ ╨┐╨╛╤А╤П╨┤╨╛╨║ ╨▓╨╖╤Л╤Б╨║╨░╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛╨┤╤Г╤И╨╜╨╛╨╣ ╤Е╨░╤А╨░╨║╤В╨╡╤А╨╕╨╖╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╨▓ ╤Б╤В╨░╤В╤М╤П╤Е 4тАУ8: ╨Я╨б╨Ч. ╨в. 9. тДЦ 6872.
32 ┬л╨з╨╕╨╜╨╕╤В╤М ╨▓ ╤В╨░╨║╨╛╨╣ ╤Б╨╕╨╗╨╡, ╨║╨░╨║ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╤П╨╝ ╨┐╨╛ ╤А╨╡╨│╨╗╨░╨╝╨╡╨╜╤В╨░╨╝ ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛┬╗: ╨Я╨б╨Ч. ╨в. 8. тДЦ 5904.
33 ╨б╨╝., ╨╜╨░╨┐╤А.: ╨Ф╨░╨╜╨╕╨╗╨╛╨▓ ╨Э.╨Р. ╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╛╤З╨╡╤А╨║ ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╤В╨╕╤П ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕. ╨б╨Я╨▒., 1902. ╨б. 27тАУ32 (╨б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╕╨╡ ╨Т╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╨╡╤А╤Б╤В╨▓╨░, 1802тАУ1902 / ╨Я╨╛╨┤ ╤А╨╡╨┤. ╨Ф.╨Р.╨б╨║╨░╨╗╨╛╨╜╨░, ╨▓╤Л╨┐. 1).
34 ╨Ю ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╨┐╤А╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤П╤Е, ╨▓╤Л╨┤╨▓╨╕╨│╨░╨▓╤И╨╕╤Е╤Б╤П ╨╜╨░ ╤Б╤В╨░╨┤╨╕╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨╕ ╤Б╨╝.: ╨Я╨╡╤В╤А╤Г╤Е╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓ ╨Э.╨Э. ╨г╨║╨░╨╖. ╤Б╨╛╤З. ╨б. 174тАУ178.
35 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨б. 175.
36 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 248. ╨Ъ╨╜. 494. ╨Ы. 42тАУ43 ╨╛╨▒., 45тАУ46.
37 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ы. 793 ╨╛╨▒.тАУ794.
38 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ы. 858тАУ862.




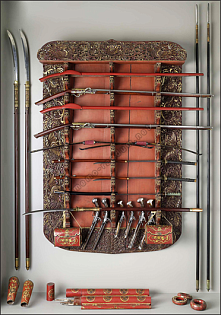


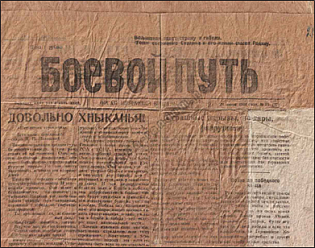

╨Ъ╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤А╨╕╨╕