–Ы.–Т. –Ъ—Г–і–Ј–µ–µ–≤–Є—З (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥) –Ы–Ш–І–Э–Р–ѓ –Ш–°–Ґ–Ю–†–Ш–ѓ –°–Х–Т–Х–†–Э–Ю–Щ –Т–Ю–Щ–Э–Ђ –§–Х–Ы–ђ–Ф–Ь–Р–†–®–Р–Ы–Р –Я.–Я. –Ы–Р–°–°–Ш
–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є
–І–∞—Б—В—М III–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥
¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016
¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2015
¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016
¬Ђ–Ь–µ—Б—В–Њ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –µ—Б—В—М –Ъ–Є–ї–ї–Є–і–Є, –≤ –Ш—А–ї–∞–љ–і–Є–Є, –≤ –≥—А–∞—Д—Б—В–≤–µ –Ы–Є–Љ–µ—А–Є–Ї, –≥–і–µ —П —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 29 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1678 –≥. –Ь–Њ–Є–Љ –Њ—В—Ж–Њ–Љ –±—Л–ї –Я–µ—В—А –і–µ –Ы–∞—Б—Б–Є, —Б—Л–љ –Ф–ґ–Њ–љ–∞ –і–µ –Ы–∞—Б—Б–Є, –Є–Ј —А–Њ–і–∞ –С–∞–ї–ї–Є–љ–≥–∞—А–Є–Ы–∞—Б—Б–Є –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥—А–∞—Д—Б—В–≤–∞ –Ы–Є–Љ–µ—А–Є–Ї. –Ь–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А—М—О –±—Л–ї–∞ –Ь–∞—А–Є –і–µ –Ъ–Њ—А—В–љ–Є, –і–Њ—З—М –Ґ–Њ–Љ–∞—Б–∞ –і–µ –Ъ–Њ—А—В–љ–Є –Є –Ъ–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –Э—Н–є–≥–ї¬ї, вАУ —В–∞–Ї, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ, –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Ы–∞—Б—Б–Є, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—Й–∞—П –µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г —Б 1691 –њ–Њ 1736 –≥. –С–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї –љ–µ–є –Љ—Л —Е–Њ—В–Є–Љ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ. –Т –Х–≤—А–Њ–њ–µ —В–µ–Ї—Б—В —Б—В–∞–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVIII –≤. –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–љ—Ж–∞ –і–µ –Ы–Є–љ—П1, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –і–ї—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є –Я.–Я. –Ы–∞—Б—Б–Є –С–∞–љ—В—Л—И-–Ъ–∞–Љ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –С–µ—А–≥–Љ–∞–љ2. –Я–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї ¬Ђ–Ц—Г—А–љ–∞–ї¬ї —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –≥—А–∞—Д–∞ –Я–µ—В—А–∞ –і–µ –Ы–∞—Б—Б–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–∞–Љ –Є —П–≤–љ—Л—Е –Њ—И–Є–±–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –≤–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –Є –∞–љ–≥–ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л—Е –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П—Е –Я–µ—В—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞. –Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Н—В–Њ—В —В–µ–Ї—Б—В –љ–µ –±—Л–ї –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П—В –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –Є –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї—Б—П –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –∞–љ–∞–ї–Є–Ј—Г —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є. –Т –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Я.–Я. –Ы–∞—Б—Б–Є –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –µ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–љ—Л–є –≤ 1798 –≥., –≤ ¬Ђ–С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ¬ї3, –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –Є–љ–∞—З–µ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞.
–Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ ¬Ђ–Ц—Г—А–љ–∞–ї¬ї –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –њ—А–Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –Я.–Я. –Ы–∞—Б—Б–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В–Њ—А—Л –≤ –Њ–±–Њ–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—В –Њ–± –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–µ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Г –љ–Є—Е –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ–≥–∞–і—Л–≤–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ –њ—А–Є–љ—Ж –і–µ –Ы–Є–љ—М –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М —Г –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Ь–Њ—А–Є—Ж–∞ –Ы–∞—Б—Б–Є, —Б—Л–љ–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ. –£–ґ–µ –Є–Ј –µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А—Г ¬Ђ–Ц—Г—А–љ–∞–ї–∞¬ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —В–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є—В–Є –≤ –њ–µ—З–∞—В–љ—Л—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П—Е XVIII –≤. –Р–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є –ґ–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї —В–Њ—З–љ–µ–µ –њ–Њ–љ—П—В—М —А—П–і —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –Ы–∞—Б—Б–Є –Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е –µ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А—Б—В–≤–Њ.
–Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —Н—В–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Я–µ—В—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–Њ–Љ –Ъ.-–Х. –і–µ –Ъ—А–Њ–∞. –•–Њ—В—П —Д–∞–Ї—В –њ—А–Є–µ–Ј–і–∞ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –љ–∞—А–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ—Б–∞–і—Л –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ, –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Є–≤–µ–Ј —Б —Б–Њ–±–Њ–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є–Ј –Т–µ–љ—Л, –љ–∞—И–ї–∞ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є –Э. –£—Б—В—А—П–ї–Њ–≤–∞. –Т –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–∞—Е –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ 1701 –≥. –Є–Ј –†–µ–≤–µ–ї—П —Ж–∞—А—О –Є –Ь–µ–љ—М—И–Є–Ї–Њ–≤—Г –Ј–љ–∞—З–Є—В—Б—П: ¬ЂвА¶—П —Г–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї—Г–≥–Њ–і–∞ –≤ –њ–ї–µ–љ—Г, –∞ –≤–∞—И–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —Г–≤–µ–і–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П –Њ –Љ–Њ–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є—Б–ї–∞—В—М, —Е–Њ—В—П –Є–Ј –Т–µ–љ—Л —П –њ—А–Є–≤–µ–Ј –і–Њ 70 –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –Є–Ј –љ–Є—Е –і–∞–ї –љ–∞ –њ—А–Њ–µ–Ј–і –њ–Њ 100 —А—Г–±–ї–µ–є, —З—В–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В 7000 —А—Г–±–ї–µ–євА¶¬ї –Є ¬Ђ–ѓ –њ–µ—А–µ–і–∞—О –≤–∞–Љ, –Љ–Њ–µ–Љ—Г –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–њ–Њ—З—В–µ–љ–љ–µ–є—И–µ–Љ—Г –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ—Г –±—А–∞—В—Г, –љ–µ —Б –µ–і–Є–љ–Њ–є –ї–Є –њ–Њ–Ї–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Ї —Б–ї—Г–ґ–±–µ –µ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є –і–ї—П –њ–Њ–ї—М–Ј—Л —Б 85-—О –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є –Є–Ј –Т–µ–љ—Л –њ—А–Є–±—Л–ї? –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–Є—Е –Љ–љ–µ —Б—В–Њ–Є–ї –і–Њ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –њ–Њ 100 —З–µ—А–≤–Њ–љ–љ—Л—Е, –Є —В–Њ–≥–Њ 8500 —З–µ—А–≤–Њ–љ–љ—Л—ЕвА¶¬ї4. –Ґ–∞–Љ –ґ–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–∞ –Є ¬Ђ–†–Њ—Б–њ–Є—Б—М –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б –µ–≥–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–Њ—О –њ—А–µ—Б–≤–µ—В–ї–Њ—Б—В—М—О –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–Њ–Љ –Ъ—А–Њ–Є—Б–Ї–Є–Љ –Ї –µ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г –Ї –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ—Л –±—Л–ї–Є: –У–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—М—О—В–∞–љ—В—Л –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ —Д–Њ–љ-–Ъ—А–Њ—П: –Ф—Г–Ї–Њ–і—А–µ –њ–Њ–ї—Г–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Є —Д–Њ–љ-–і–µ—А –§–µ–Ї–µ–љ; –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Л: –Ъ–Њ–Љ—В–µ, –Ф–µ–ї–∞—Б–µ–љ, –Ы–Є–љ–і–µ–љ, –С—А–µ–є–Ј–∞—Е, –°–µ–ї–Љ–љ–Є—Е; –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї –Ф—Г–Љ–Њ–љ—В; –њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї–Є: —Д–Њ–љ-–Ъ–µ–ї–µ—А, –Ф–µ–Љ–Њ–љ—Б, –Т–µ–і–µ—А–≥–∞–љ; —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В –Ъ–Њ–ї—Б–≥–∞—Г–Ј–µ–љ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –£—Б—В—А—П–ї–Њ–≤ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В 1700 –≥.5 –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –Њ—Б–Њ–±—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—В –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Л –Ъ–Њ–Љ—В–µ –Є –Ф–µ–ї–∞—Б–µ–љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г ¬Ђcomte¬ї –њ–Њ-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –≥—А–∞—Д, –∞ de Lacy –ї–µ–≥–Ї–Њ –Љ–Њ–≥ —Б—В–∞—В—М –Ф–µ–ї–∞—Б–µ–љ–Њ–Љ.
–Ф—А—Г–≥–Њ–є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є —Н–њ–Є–Ј–Њ–і вАУ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ы–∞—Б—Б–Є –≤ 1706 –≥. –≤ –Я–Њ–ї–Њ—Ж–Ї, вАУ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XIX вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XX –≤–≤. –Т —Б—В–∞—В—М–µ –Њ –Я.–Я. –Ы–∞—Б—Б–Є –≤ —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є–Є –Ы–µ–µ—А–∞ –Ф.–§. –Ь–∞—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Є—И–µ—В: ¬Ђ1706 –≥. –Є–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —Г–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Я–µ—В—А–∞ I –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –≤ –љ–Њ–≤–Њ–љ–∞–±—А–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Ї (–Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞ —В–µ–њ–µ—А—М 1-–є –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–є –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є) –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В вАЬ–њ—А–Є–≤–µ–ї –Ї —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–Љ—Г —Г—З–µ–љ—М—ОвАЭ¬ї6. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ—В–∞–ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞—Е –Є –±—Г–Љ–∞–≥–∞—Е –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ¬ї: 9 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1706 –≥. —Д–Њ–љ –Т–µ—А–і–µ–љ –њ–Є—И–µ—В –Я–µ—В—А—Г –Є–Ј –Я–Њ–ї–Њ—Ж–Ї–∞: ¬ЂвА¶—В–∞–Ї–ґ–µ –Є –њ–Њ–ї–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї —Г –Љ–∞–µ–Њ—А–∞ –Ъ–∞—А–∞, –Њ—В–і–∞–ї –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї—Г –Ы–µ—Б–Є...¬ї, –љ–∞ —З—В–Њ –Я–µ—В—А –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В 20 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞: ¬ЂвА¶–Р —В—Л –≤–µ–і–∞–є –њ–Њ–ї–Ї, —З—В–Њ –±—Л–ї –Љ–∞–µ–Њ—А–∞ –Ъ–∞—А–∞¬ї7. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Ї –Ы–∞—Б—Б–Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –±—А–Є–≥–∞–і –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–Њ–≤ –І–∞–Љ–±–µ—А—Б–∞ –Є –§–Њ–љ-–Т–µ—А–і–µ–љ–∞ 3 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1706 –≥. —З–Є—Б–ї–Є–ї—Б—П –Є –њ–Њ–ї–Ї –Ы–µ—Б–ї–Є (—В. –µ. –Ы–∞—Б—Б–Є вАУ —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Ж—Л –Ы–µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—В —Б—О–і–∞ –њ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В—Г)8.
–Х—Й–µ –Њ–і–Є–љ –њ—А–Є–Љ–µ—А –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є—П —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є–Є, –Є–Љ–µ–≤—И–µ–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –ї–Є—И—М –і–ї—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –µ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ —И—В–Њ—А–Љ –≤ –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ 4 –Є—О–ї—П 1719 –≥. –Ч–∞–њ–Є—Б—М –Є–Ј –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –Ы–∞—Б—Б–Є: ¬Ђ30 —П –±—Л–ї –Њ—В–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤–њ–µ—А–µ–і, —Б 26 –≥–∞–ї–µ—А–∞–Љ–Є –Є 4000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ї –Р–ї–∞–љ–і—Г, –≥–і–µ —П –≤—Б—В–∞–ї –љ–∞ —П–Ї–Њ—А—М 4 –Є—О–ї—ПвА¶ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ѓ–љ–≥—Д–µ—А–љ—Б—З–Є—А–µ–љ –Є –°–Њ—В—В–Є–љ–≥–∞—Г —П –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–є —И—В–Њ—А–Љ. –Т —Н—В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М, 4 –Є—О–ї—П –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–±—Л–ї —Б –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –Ї –Р–ї–∞–љ–і—Г¬ї. –Ш –≤ ¬Ђ–Ъ–∞–Љ–µ—А-—Д—Г—А—М–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ¬ї –Я–µ—В—А–∞ I –Ј–∞ —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М –≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є –Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –Љ–Њ—А–µ–Љ –Ї –Р–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–Љ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞–Љ: ¬Ђ–≤ 10-–Љ —З–∞—Б—Г –њ–Њ–њ–Њ–ї—Г–љ–Њ—З–Є —Б—В–∞–ї –≤–µ—В–µ—А WNW –Є —В–µ–Љ —И–ї–Є –Љ–Є–ї–Є —Б –і–≤–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–і—А—Г–≥ —Б—В–∞–ї —И—В–Њ—А–Љ, —З—В–Њ —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї–Є –Ї –Њ—Б—В—А–Њ–≤—Г –У—Г—Б–µ–Є... –Є –Ј–∞ —В–Њ—О –њ–Њ–≥–Њ–і–Њ—О —Б—В–Њ—П–ї–Є —В–∞–Љ —З–∞—Б–Њ–≤ —Б –њ—П—В—М. –Р –Њ—В—В—Г–і–∞ –њ–∞–Ї–Є –њ–Њ—И–ї–Є —И—Е–µ—А–∞–Љ–Є –Є, –Њ—В—К–µ—Е–∞–≤ –Њ–і–љ—Г –Љ–Є–ї—О, —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞-–Љ–∞–µ–Њ—А–∞ –Ы–µ—Б–Є—П –≤ 17-–Є –≥–∞–ї–µ—А–∞—Е –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї¬ї9.
–Э–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Ы–∞—Б—Б–Є –Ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —А—П–і–∞ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є. –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ –ї–Є—И—М –і–≤–∞ —Д–∞–Ї—В–∞ –Є–Ј ¬Ђ–Ц—Г—А–љ–∞–ї–∞¬ї –Ј–∞ 1712 –≥., —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞—О—Й–Є–µ —Б–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є–Ј –њ–Є—Б–µ–Љ –Ї–љ—П–Ј—П –Р.–Ш. –†–µ–њ–љ–Є–љ–∞ –Р.–Ф. –Ь–µ–љ—И–Є–Ї–Њ–≤—Г:
–Ы–∞—Б—Б–Є: ¬Ђ–Т –Ґ–Њ—А–љ–µ —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –≤–Ј—П—В—М 3000 –њ–µ—Е–Њ—В—Л –Є 1000 –і—А–∞–≥—Г–љ –Є –Є–і—В–Є –љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З—Г –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Г –У—А–∞–Ј–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Г —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–ґ–µ–≥ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–∞—И–Є—Е –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–Њ–≤ –Є —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–ї –≤—Б–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П —В–Њ–є –ґ–µ —Б—Г–і—М–±–Њ–євА¶¬ї. –†–µ–њ–љ–Є–љ 8 –Є—О–љ—П –њ–Є—И–µ—В –Є–Ј –Ґ–∞—А—Г–љ–Є (–Ґ–Њ—А–љ–∞): ¬Ђ–∞ —Б–µ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ —А–∞–і–Є –њ–Њ—Б–њ–µ—И–∞–љ–Є—П –і–∞–±—Л –њ–Њ–ї—Б–Ї—Г—О —А–µ–±–µ–ї–Є—О –Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Є –Я–Њ–Ј–љ–∞–љ—М –Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї —П –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і –і–Њ –Я–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є –Њ–і–Є–љ –і—А–∞–≥—Г–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї –Є 3000 –њ–µ—Е–Њ—В—Л –њ–Њ–і –Ї—Г–Љ–∞–љ–і–Њ—О –±—А–µ–≥–∞–і–Є—А–∞ –Ы–µ—Б–Є –±–µ–Ј –Њ–±–Њ–Ј–Њ–≤ –Є –≤–µ–ї–µ–ї –Ї–∞–Ї –љ–∞–Є—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–∞–ї –Ї –Я–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є¬ї10. –•–Њ—В—П —Н–њ–Є–Ј–Њ–і —Б —А–µ–є–і–Њ–Љ –У—А–∞–Ј–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ, –≤ ¬Ђ–У–Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б–≤–µ–є—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л¬ї –Њ –њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ –Њ—В –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –†–µ–њ–љ–Є–љ–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П11;
–Ы–∞—Б—Б–Є –Њ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –Ь–µ–Ї–ї–µ–љ–±—Г—А–≥–µ: ¬Ђ–Ь–љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В—М, —Б —В—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ—Е–Њ–і –≤–Њ–Ј–ї–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞ –Ы–µ—Б–Ј—Ж–Є–љ, –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є 3 –Љ–Є–ї—М –Њ—В –†–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞¬ї. –†–µ–њ–љ–Є–љ 21 –љ–Њ—П–±—А—П –Є–Ј –Т–Њ–ї–Ї–µ–љ–і–Њ—А—Д–∞: ¬Ђ–Ґ–∞–Ї–ґ–µ —В—А–Є –њ–Њ–ї–Ї–∞ –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–і –Ї—Г–Љ–∞–љ–і–Њ–є –У–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ь–∞–є–Њ—А–∞ –Ы–µ—Б–Є –≤ –Ґ–µ—Б–Є–љ –љ–∞ –Ї–Њ–љ—В–Њ–љ–Є—А—Б –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є, –С–µ–ї–Њ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є, –†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–євА¶¬ї12.
–Ф—А—Г–≥–Є–Љ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є ¬Ђ–Ц—Г—А–љ–∞–ї–∞¬ї –Є —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П –µ–µ —Б —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ—В–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –љ–Є—Е –Њ—И–Є–±–Њ–Ї –Є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Ф–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–µ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ—З–µ–љ –≤ –і–µ—В–∞–ї—П—Е –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –Љ–µ–љ—М—И–µ –Њ—И–Є–±–Њ–Ї. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ —А—П–і–∞ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–є –Є –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П –≤–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л –і–µ –Ы–Є–љ–µ–Љ –њ—А–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ —Б —Ж–µ–ї—М—О —Г–ї—Г—З—И–Є—В—М –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В–∞ —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Њ–±–∞ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞ ¬Ђ–Ц—Г—А–љ–∞–ї–∞¬ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В —А—П–і –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –Є—Б–Ї–∞–ґ–µ–љ–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–њ–Є—Б–∞—В—М –љ–∞ –Њ—И–Є–±–Ї–Є –њ—А–Є –љ–∞–±–Њ—А–µ —В–µ–Ї—Б—В–∞. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—О—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –њ—Г—В–∞–љ–Є—Ж–∞ –≤ –і–∞—В–∞—Е –≤ –Њ–±–Њ–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–∞—Е. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–ї–љ—Л—Е –і–∞—В –і–∞–љ–Њ –њ–Њ —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—О, –љ–Њ –µ—Б–ї–Є –Њ–і–љ–Є —В–Њ—З–љ—Л, —В–Њ –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—В–ї–Є—З–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–є –њ—А–Є–Љ–µ—А вАУ –Ј–∞–њ–Є—Б—М –Њ –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї—П—Ж–Є–Є –†–Є–≥–Є –≤ 1710 –≥., –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–Ї—Б—В–µ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ 27, –∞ –≤–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ 29 –Є—О–љ—П, –њ—А–Є —В–Њ–Љ —З—В–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є 27 –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–Є—А–Є–µ, –∞ 29 –≥–Њ—А–Њ–і —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї—П—Ж–Є—О. –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥—Г—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –≤ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Ј–∞ 1713 –≥. –Њ–± –Њ—Б–∞–і–µ –Ґ–µ–љ–љ–Є–љ–≥–µ–љ–∞, –≥–і–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ —В—А–∞–љ—И–µ–є –Є —Б–і–∞—З–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л 3 –Є 26 (–Љ–µ—Б—П—Ж –њ—А–Њ–њ—Г—Й–µ–љ) –≤ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–Ї—Б—В–µ –Є 3 –Є 16 –Љ–∞—П –≤–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –њ–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ —Н—В–Њ 24 –∞–њ—А–µ–ї—П –Є 3 –Љ–∞—П. –Ґ–Њ –ґ–µ –Є —Б–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –і–∞—В–Њ–є вАУ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Ї –®—В–µ—В—В–Є–љ—Г: 29 –Є 23 –Є—О–љ—П –Є 11 –Є—О–ї—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М —Г–і–∞—З–љ—Л—Е –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞—Е –њ–µ—А–µ—Б—З–Є—В–∞—В—М –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –і–∞—В—Л –љ–∞ –љ–Њ–≤—Л–є —Б—В–Є–ї—М. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –±–µ–Ј —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В—М –ї–Є—И—М –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –і–Њ–≥–∞–і–Ї–Є –Њ –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П—Е, –љ–Њ —Н—В–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Њ –љ–µ–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ.
–Я–µ—А–≤–Њ–µ, —З—В–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є –њ—А–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ ¬Ђ–Ц—Г—А–љ–∞–ї–∞¬ї вАУ —Н—В–Њ –µ–≥–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1736 –≥., —В. –µ. –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –≤ –Ъ—А—Л–Љ. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ —Б—З–µ–ї –Є–Ј–ї–Є—И–љ–Є–Љ –њ–Є—Б–∞—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –≤ —Б–Є–ї—Г –Є—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —А–µ–є–і–∞—Е –≤ –®–≤–µ—Ж–Є—О –≤ 1719 –Є 1721 –≥–≥. –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї. –Ц—Г—А–љ–∞–ї, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –љ–µ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ, —З—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –і–∞—В–Њ–є, –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–Є —В–µ–Ї—Б—В–∞ —Г –і–µ –Ы–Є–љ—П вАУ ¬Ђ–Њ—В 12 —П–љ–≤–∞—А—П 1751 –≥.¬ї, —В. –µ. –Ј–∞ —В—А–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ы–∞—Б—Б–Є. –Я–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–Є–Ї–∞ –Ф–ґ–Њ–љ–∞ –Ъ—Г–Ї–∞, —Б –Є—О–ї—П 1749 –≥. –Ј–∞–±–Њ—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–∞, —Б –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1750 –≥. —В–Њ—В —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–ї –Є –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –і–µ–ї–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ13. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –Я–µ—В—А –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Є —Б—В–∞–ї —Б–Њ—З–Є–љ—П—В—М –Љ–µ–Љ—Г–∞—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П–Љ. –Ш, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–≤—И–Є–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –Х–µ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –≤ –Р–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е –≤ 1719 –≥. –Є–ї–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є—В—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ы–∞—Б—Б–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М 15 000 –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –њ—А–Є –∞—В–∞–Ї–µ –љ–∞ –†–Њ–Љ–љ—Г –≤ 1708-–Љ. –Ъ –љ–µ–≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—З–Є–Ї–Њ–≤ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–ї–Њ–≤ ¬Ђ—Ж–µ–љ—В—А–∞ –∞—А–Љ–Є–Є¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –†–µ–њ–љ–Є–љ–∞¬ї –њ–Њ—Б–ї–µ ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –њ—А–∞–≤—Л–Љ —Д–ї–∞–љ–≥–Њ–Љ¬ї –≤ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Њ –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ –Є —А—П–і –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —В–∞–Ї–Є—Е –Њ—И–Є–±–Њ–Ї –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л –Є–ї–Є –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –љ–∞—И–Є—Е –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є—Е –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞—Е, –Є –Љ—Л –љ–µ –±—Г–і–µ–Љ –љ–∞ –љ–Є—Е –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П.
–°–∞–Љ—Л–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–Љ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є ¬Ђ–Ц—Г—А–љ–∞–ї–∞¬ї –Я.–Я. –Ы–∞—Б—Б–Є —Б—В–∞–ї–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, –љ–Њ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, —Г–ґ–µ —Б–∞–Љ–∞ —Д–Њ—А–Љ–∞, –≤—Л–±—А–∞–љ–љ–∞—П –Я–µ—В—А–Њ–Љ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є вАУ –њ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї вАУ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –ї–Є—И—М —Б—Г—Е–Њ–µ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Њ–≤. –Ш —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —В–Њ —В–∞–Љ, —В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –≤ –ї–∞–Ї–Њ–љ–Є—З–љ—Л—Е —Д—А–∞–Ј–∞—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–µ —Г–Ї—А–∞—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –њ–∞—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±–Њ—А–Њ—В—Л. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –љ–∞ –љ–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, —З–∞—Б—В—М ¬Ђ–Ц—Г—А–љ–∞–ї–∞¬ї, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П —Г—З–∞—Б—В–Є—О –Ы–∞—Б—Б–Є –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –Ф–∞–љ–љ—Л–є —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В —В–µ–Ї—Б—В–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–µ–і–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –µ–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ь—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Г–≤–Є–і–µ—В—М, –Ї–∞–Ї —Б–њ—Г—Б—В—П –≥–Њ–і—Л –Њ–љ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є–≤–∞–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤—Л–і–µ–ї—П—П –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –Є –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–µ, –Є –≤–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –µ–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л. –¶–µ–ї—Л–є —А—П–і –і–µ—В–∞–ї–µ–є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤—Л—А–Њ—Б—И–Є–є –≤ –Ш—А–ї–∞–љ–і–Є–Є –Є —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Я–Є—В–µ—А –і–µ –Ы—Н–є—Б–Є –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–Љ. –Ш –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О —Б–≤–Њ—О –Њ–љ –њ–Є—Б–∞–ї –≤ —А–∞—Б—З–µ—В–µ –љ–∞ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П: —Б–Њ—В–љ—П –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —А–Њ—В–Њ–є –Љ—Г—И–Ї–µ—В–µ—А–Њ–≤, –І—Г–і—Б–Ї–Њ–µ –Њ–Ј–µ—А–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Њ –Я–µ–є–њ—Г—Б, –∞ –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —Б–љ–∞–±–ґ–∞—О—В—Б—П –њ–Њ—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ї–∞–Ї –Є—Е –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ¬ї, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–∞—П –Љ–µ—А—Л –і–ї–Є–љ—Л —В—Г–∞–Ј (—А–∞–≤–љ–∞ 6 —Д—Г—В–∞–Љ –Є–ї–Є 2 –Љ–µ—В—А–∞–Љ) –Є —В. –і. –Э–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–і–∞—В—М –Є–Ј–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Н–њ–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–∞ –≤–Њ —Д—А–∞–Ј–∞—Е –≤—А–Њ–і–µ ¬Ђ18-–≥–Њ –Љ—Л –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї –љ–∞—И–Є–Љ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П–Љ, –љ–µ—Б—П –њ–Њ–ґ–∞—А—Л –Є –Њ–њ—Г—Б—В–Њ—И–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–Љ –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г –У–µ–≤–µ–ї–µ–Љ –Є –Я–Є—В–∞–Љ–Є¬ї –Є –≤ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ф–љ–µ–њ—А–∞ –∞–љ—В–Є—З–љ—Л–Љ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –С–Њ—А–Є—Б—Д–µ–љ.
–Я—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–є –љ–Є–ґ–µ —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞–Љ–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і —Б –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —В–µ–Ї—Б—В–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ 1698 –≥. —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є—П –Я. –Я. –Ы–∞—Б—Б–Є –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г. –°–∞–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –і–Є–ї–µ–Љ–Љ—Г, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б—В—А–Њ–є –Є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XVIII –≤. –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ, –∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —П–Ј—Л–Ї вАУ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є —Б—В–∞–ї–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Є –µ–≥–Њ —А–µ—З–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–∞ –Є –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г–і–∞—З–љ—Л–µ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, —В–Њ—З–љ–µ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —Д—А–∞–Ј–∞–Љ. –° —В–Њ–є –ґ–µ —Ж–µ–ї—М—О –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л –ї–Є—И—М –Њ—И–Є–±–Ї–Є, –Љ–µ—И–∞—О—Й–Є–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Е–Њ–і–∞ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П.
–Ц—Г—А–љ–∞–ї –µ–≥–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –≥—А–∞—Д–∞ –Я–µ—В—А–∞ –і–µ –Ы–∞—Б—Б–Є, –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—А—Г—З–љ–Њ –Є–Љ –њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є
–Я–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –С—А–Є–Ј–∞–Ї–∞ –Є –†–Є—Б–≤–Є–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –њ–Њ–ї–Ї –±—Л–ї —А–∞—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —З–µ–≥–Њ —П –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г —Б –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤–µ–ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Є —В—Г—А–Ї–Є. –Э–Њ –Љ–Є—А –±—Л–ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –Т–µ–љ–≥—А–Є—О, —П —А–µ—И–Є–ї –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Б–≤–Њ—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Љ–∞—А—И–∞–ї—Г –≥–µ—А—Ж–Њ–≥—Г –і–µ –Ъ—А–Њ–∞, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–Є–Љ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ–Њ–Љ, –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–Љ –Я–Њ–ї—М—И–Є, –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –≤ –Т–µ–љ—Г. –Ю–љ –Њ—В–≤–µ–Ј –Љ–µ–љ—П –Ї–∞–Ї –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –≤ –Я–Њ–ї—М—И—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б—В–≤–∞ –Ї –†–Є–≥–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Ї–Њ—А–Њ–ї—М –Њ—Б–∞–ґ–і–∞–ї —Б–∞–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –≥–µ—А—Ж–Њ–≥ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Є–і—В–Є –Ї –Э–∞—А–≤–µ, —Б –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ —Б —Б–Њ–±–Њ–є –њ—А–Є–≤–µ–Ј, –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —Б —Б–Њ—В–љ—О; –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Я–µ—В—А I, –≤ —Б–Њ—О–Ј–µ —Б –Я–Њ–ї—М—И–µ–є, –љ—Г–ґ–і–∞–ї—Б—П –≤ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞—Е –і–ї—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–µ —Б–≤–Њ–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –У–µ—А—Ж–Њ–≥ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞—Б –Х–≥–Њ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і–∞ –њ–Њ–і –Э–∞—А–≤—Г, –Њ—Б–∞–ґ–і–µ–љ–љ—Г—О —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є. –Ю–љ —Б–∞–Љ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ, –∞ –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є–µ —Б –љ–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є–µ, –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –њ–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ. –ѓ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —А–Њ—В—Г –≤ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –С—А—О—Б–∞. 9 –љ–Њ—П–±—А—П 1700 –≥–Њ–і–∞ —И–≤–µ–і—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –њ—А–Є–±—Л–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –≥–Њ—А–Њ–і—Г –Є —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–±–Є—В–∞ –Є –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Г.
–Т –≥–Њ–і—Г 1701 –љ–∞—И –њ–Њ–ї–Ї –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤ –і–ї—П —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —Б –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–љ—П–Ј—П –†–µ–њ–љ–Є–љ–∞. 1 –Љ–∞—П –Љ—Л –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ –Ы–Є–≤–Њ–љ–Є—О –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 19 –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –і–ї—П —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —Б —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –µ—Й–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –Њ—Б–∞–ґ–і–∞—В—М –†–Є–≥—Г. –Т —Б–Ї–Њ—А–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–±–Є—В–∞ —И–≤–µ–і–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –Ы–Є—В–≤—Г. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤. –§–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї –®–µ—А–µ–Љ–µ—В–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ы–Є–≤–Њ–љ–Є—О –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А—Г –®–ї–Є–њ–њ–µ–љ–±–∞—Е—Г –≤ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е –Ф–µ—А–њ—В–∞.
–Т —Н—В–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —И–≤–µ–і—Л, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є —Г–±–Є—В—Л –Є –≤–Ј—П—В—Л –≤ –њ–ї–µ–љ, –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—О –Є –∞–Љ—Г–љ–Є—Ж–Є—О. –Т –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї —Б–љ–Њ–≤–∞ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї —И–≤–µ–і—Б–Ї—Г—О –∞—А–Љ–Є—О –≤–Њ–Ј–ї–µ –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –•–∞–Љ–Љ–µ—А—Б—Е–Њ—Д, –≥–і–µ —И–≤–µ–і—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ–ї–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, —Б –њ–Њ—В–µ—А–µ–є 3000 —Г–±–Є—В—Л–Љ–Є –Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ —А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ–Є –Є –≤—Б–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±–∞–≥–∞–ґ–∞ –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є.
–Т —Н—В—Г –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—О –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А, –ї–Є—З–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—П –∞—А–Љ–Є–µ–є, —В–∞–Ї–ґ–µ –і–Њ–±–Є–ї—Б—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤ –љ–∞–і —И–≤–µ–і–∞–Љ–Є –≤ –Ш–љ–≥—А–Є–Є. –Т –Ы–Є–≤–Њ–љ–Є–Є –Ь–∞—А–Є–µ–љ–±—Г—А–≥ –Є –Т–Њ–ї—М–Љ–∞—А —Б–і–∞–ї–Є—Б—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –Є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є.
–Т –≥–Њ–і—Г 1703 —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї –®–µ—А–µ–Љ–µ—В–µ–≤ –≤–Ј—П–ї –Ъ–Њ–њ—А—М–µ –Є –ѓ–Љ–±—Г—А–≥ –≤ –Ш–љ–≥—А–Є–Є. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–µ —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞–і —А–Њ—В–Њ–є –Љ—Г—И–Ї–µ—В–µ—А–Њ–≤, —З–Є—Б–ї–Њ–Љ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –і–Њ 100, –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–є –Є–Ј —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –і–≤–Њ—А—П–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, –Ј–∞ –Є—Е —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б—З–µ—В, —Б–љ–∞–±–ґ–∞—В—М —Б–µ–±—П –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –Є –ї–Њ—И–∞–і—М–Љ–Є.
–Т –≥–Њ–і—Г 1704 —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї –®–µ—А–µ–Љ–µ—В–µ–≤ –і–Њ–±–Є–ї—Б—П —Б—А–∞–≤–љ–Є–Љ—Л—Е –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤ –љ–∞–і —И–≤–µ–і–∞–Љ–Є, –љ–∞ –Њ–Ј–µ—А–µ –Я–µ–є–њ—Г—Б, –Њ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Ј—П–ї –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ф–µ—А–њ—В –Є –Э–∞—А–≤–∞, –Ї—Г–і–∞ –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –њ—А–Є–±—Л–ї –ї–Є—З–љ–Њ.
–Т –≥–Њ–і—Г 1705 –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –њ–Њ—И–µ–ї —Б –∞—А–Љ–Є–µ–є –≤ –Я–Њ–ї—М—И—Г, –≥–і–µ —П –±—Л–ї –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ –≤ —З–Є–љ –Љ–∞–є–Њ—А–∞ –≤ –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Ї –®–µ—А–µ–Љ–µ—В–µ–≤–∞. –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В–і–µ–ї–Є–ї —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞—В—М —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ы–µ–≤–µ–љ–≥–∞—Г–њ—В–∞, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ь—Г—А-–Љ—Л–Ј—Л –≤ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е –Ь–Є—В–∞–≤—Л, –љ–Њ –±—Л–ї –Њ—В–±—А–Њ—И–µ–љ —Б –њ–Њ—В–µ—А–µ–є: —Н—В–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є–ї–Є –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Є–і—В–Є —Б –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–є—Б—П –∞—А–Љ–Є–µ–є –≤ –Ъ—Г—А–ї—П–љ–і–Є—О –≤—Л—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Ы–µ–≤–µ–љ–≥–∞—Г–њ—В–∞. –Э–Њ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –љ–µ —Б—З–µ–ї –±–ї–∞–≥–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–Љ –і–Њ–ґ–Є–і–∞—В—М—Б—П –µ–≥–Њ, –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –Ф–≤–Є–љ—Г –Є –Ј–∞–љ—П–ї –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –њ–Њ–і –≤–∞–ї–∞–Љ–Є –†–Є–≥–Є, –∞ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –≤–Ј—П–ї–∞ –≥–Њ—А–Њ–і –Ь–Є—В–∞–≤—Г.
–Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –≥–Њ–і –љ–∞—И–∞ –∞—А–Љ–Є—П –њ–Њ—И–ї–∞ –Є–Ј –Я–Њ–ї—М—И–Є –љ–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Г, –Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞ –≤ –Љ–∞–µ. 29 –Є—О–ї—П, –≤ –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ—Г –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —В–Њ–≥–і–∞ –≤ –У–Њ—А–Њ–і–Ї–µ, –≤ –і–≤—Г—Е –Љ–Є–ї—П—Е –Њ—В –Ъ–Є–µ–≤–∞, –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Њ –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї –Љ–љ–µ —З–Є–љ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–≤ –Љ–љ–µ, –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Ї –њ–Њ–ї–Ї—Г –≤ –Я–Њ–ї–Њ—Ж–Ї–µ. –Ь–љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –љ–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М, —Б –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –±—Л—Б—В—А–Њ—В–Њ–є, —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–Љ—Г —Г—З–µ–љ–Є—О –љ–Њ–≤–Њ–љ–∞–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –ї–∞–≥–µ—А–µ–Љ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –Љ–µ—Б—В–µ.
–Т –≥–Њ–і—Г 1707 —И–µ—Б—В—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—И–ї–Є –Ї –С—Л—Е–Њ–≤—Г, –≥–Њ—А–Њ–і—Г –≤ –Я–Њ–ї—М—И–µ, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Ї –Ї–љ—П–Ј—О –°–∞–њ–µ–≥–µ. –Ю—В—А—П–і –њ–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є —В—Г–і–∞ –≤ –Љ–∞–µ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П –Ї –≤–µ–і—Г—Й–µ–Љ—Г –Њ—Б–∞–і—Г –Ї–Њ—А–њ—Г—Б—Г –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –С–Њ—Г—А–∞. 7 –Є—О–љ—П –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В—М —В—А–∞–љ—И–µ–Є –≤ –і–µ—Б—П—В–Є —В–∞—Г–Ј–∞—Е –Њ—В –Ї–Њ–љ—В—А—Н—Б–Ї–∞—А–њ–∞. –Я–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї—Г, —П –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–ї –µ–≥–Њ —Б –њ–Њ—В–µ—А–µ–є. 14-–≥–Њ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є –Љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Ї –±—Л–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л –≤ –Ы–Є—В–≤—Г.
–Т –≥–Њ–і—Г 1708 —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –Є –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –і–Њ–±—А–Њ—В–µ —Б–≤–Њ–µ–є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї –Љ–µ–љ—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ. –Р—А–Љ–Є—П –њ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ї –Ъ–Њ–њ–∞—Б–Є –љ–∞ –С–Њ—А–Є—Б—Д–µ–љ–µ, –≥–і–µ –Є —Г–Ї—А–µ–њ–Є–ї–∞—Б—М –≤ —А–∞—Б—З–µ—В–µ –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є—В—М –њ—А–Њ—Е–Њ–і —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є, –Є–і—Г—Й–µ–є –Є–Ј –°–∞–Ї—Б–Њ–љ–Є–Є; –љ–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Ї–љ—П–Ј—П –†–µ–њ–љ–Є–љ–∞ –±—Л–ї –њ–Њ–±–µ–ґ–і–µ–љ —И–≤–µ–і–∞–Љ–Є, –∞—А–Љ–Є—П –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Ї –У–Њ—А–Ї–∞–Љ, –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –С–Њ—А–Є—Б—Д–µ–љ–∞, –њ–Њ–Ї–∞ –Ъ–Њ—А–Њ–ї—М –љ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л, –≤ —А–∞—Б—З–µ—В–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П —Б –Ь–∞–Ј–µ–њ–Њ–є, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ, —З—В–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ы–µ–≤–µ–љ–≥–∞—Г–њ—В –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –†–Є–≥–Є, —Б 18 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П —Б –∞—А–Љ–Є–µ–є –Ъ–Њ—А–Њ–ї—П –љ–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ, –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, —Б –≥–≤–∞—А–і–Є–µ–є –Є —З–∞—Б—В—М—О –∞—А–Љ–Є–Є, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –і–∞—В—М –Є–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –њ—А–Є –Ы–µ—Б–љ–Њ–є, –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–∞, –≥–і–µ –Њ–љ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є–ї –µ–≥–Њ –Ї —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О –Є –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї –µ–≥–Њ. –С–Њ–ї—М—И–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ —И–≤–µ–і–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ —Г–±–Є—В–Њ –Є–ї–Є —Б—Е–≤–∞—З–µ–љ–Њ; –∞ —Б–∞–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї, —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, —Б–њ–∞—Б—Б—П –±–µ–≥—Б—В–≤–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞—И–∞ –∞—А–Љ–Є—П –њ–Њ—И–ї–∞ –љ–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Г. 5 –љ–Њ—П–±—А—П —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л –Є–і—В–Є —Б –і–≤—Г–Љ—П –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є –Ї –Я–µ—А–µ–≥–Њ–≤–µ, –≥–і–µ —И–≤–µ–і—Л —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–≤–µ—Б—В–Є –Љ–Њ—Б—В —З–µ—А–µ–Ј –Ф–µ—Б–љ—Г. –С—Л—Б—В—А–∞—П –∞–Ї—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ, –Є —И–≤–µ–і—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г —Б–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г—А–Њ–љ–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ–Є –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–µ—Б–µ—З—М —А–µ–Ї—Г –љ–Є–ґ–µ –њ–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—О, –≤–Њ–Ј–ї–µ –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –Ь–Є—И–Є–љ, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ–µ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ —П —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–Є–ї, –ї–Є—З–љ–Њ –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–≤ —А–µ–і—Г—В –Є –±–∞—В–∞—А–µ—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ–Є —Б–Њ–Њ—А—Г–і–Є–ї–Є. –ѓ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Б—В–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –ї–Є–≥—Г –≤–љ–Є–Ј –њ–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—О —А–µ–Ї–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П; –љ–Њ –Њ–љ–Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ь–Є—И–Є–љ, –≥–і–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –У–Њ—А–і–Њ–љ –Ј–∞–љ—П–ї –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —П –µ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї: —И–≤–µ–і—Л –њ–µ—А–µ—И–ї–Є —А–µ–Ї—Г –Є —А–∞–Ј–±–Є–ї–Є –µ–≥–Њ. –Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Р–ї–ї–∞—А—В –Њ—В—А—П–і–Є–ї –Љ–µ–љ—П —Б 15 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–ї—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –†–Њ–Љ–љ—Л, –≥–і–µ –Ї–Њ—А–Њ–ї—М –®–≤–µ—Ж–Є–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–≤–Њ—О –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г. –Э–Њ –Њ–љ —Г—И–µ–ї –њ–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є –≤ –У–∞–і—П—З, —В–∞–Ї —З—В–Њ —П –Ј–∞–љ—П–ї –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –≤ –†–Њ–Љ–љ–µ —Б —В—А–µ–Љ—П –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞–Љ–Є –њ–µ—Е–Њ—В—Л, –њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –і—А–∞–≥—Г–љ, —А–Њ—В–Њ–є –≥—А–µ–љ–∞–і–µ—А –Є 500 –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —И–≤–µ–і—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і, —П —Б–і–µ–ї–∞–ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–ї—П —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л.
1 —П–љ–≤–∞—А—П 1709 –≥–Њ–і–∞ –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, –≤ –≤–Є–і–µ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –љ–∞–≥—А–∞–і—Л –Ј–∞ –Љ–Њ—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г, –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї –Љ–љ–µ –≥—А–µ–љ–∞–і–µ—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А–∞ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –њ—А–∞–≤—Л–Љ —Д–ї–∞–љ–≥–Њ–Љ, —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —А–∞–љ–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞—И–∞ –∞—А–Љ–Є—П –њ–Њ—И–ї–∞ –≤ –Ы–Є–≤–Њ–љ–Є—О, –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –®–µ—А–µ–Љ–µ—В–µ–≤–∞. –Ь—Л –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –Ї –†–Є–≥–µ 15 –Њ–Ї—В—П–±—А—П, –±–ї–Њ–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Н—В–Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і –Є –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≤—Б—О –Ј–Є–Љ—Г; –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ф–Є–љ–∞–Љ—О–љ–і–µ, –≥–і–µ —П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П–Љ–Є.
20 –Є—О–љ—П 1710 –≥–Њ–і–∞ —П –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—Б—В—М—П –†–Є–≥–Є, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —А–≤–Њ–Љ –Є –њ–∞–ї–Є—Б–∞–і–Њ–Љ. –ѓ –≤—Л–±–Є–ї –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –Є–Ј –њ—А–µ–і–Љ–µ—Б—В—М—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–љ –њ—А–µ–і–∞–ї –Њ–≥–љ—О: —П –њ–Њ—В–µ—А—П–ї 15 –Љ–Њ–Є—Е –≥—А–µ–љ–∞–і–µ—А, –Є –Њ–і–Є–љ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –±—Л–ї —А–∞–љ–µ–љ. –° –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ—З–Є —П –Њ—В–Ї—А—Л–ї —В—А–∞–љ—И–µ–Є –њ–µ—А–µ–і —Ж–Є—В–∞–і–µ–ї—М—О, –Є –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Њ —Г–±–Є—В–Њ –Є —А–∞–љ–µ–љ–Њ —Б–Њ—А–Њ–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. 27 –Є—О–љ—П –≥–Њ—А–Њ–і, —Ж–Є—В–∞–і–µ–ї—М –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Ј–∞—В–µ–Љ —Д–Њ—А—В –Ф–Є–љ–∞–Љ—О–љ–і–µ –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї—П—Ж–Є–Є —П –±—Л–ї –≤—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Б –љ–∞—И–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤–Њ—И–µ–ї –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П –±—Л–ї –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ.
–Т –≥–Њ–і—Г 1711 —В—Г—А–Ї–Є –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Є –≤–Њ–є–љ—Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —В—Г—В –ґ–µ –њ—А–µ—Г—Б–њ–µ–ї–Є –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ 3 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П. –ѓ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –†–Є–≥—Г —Б 3 –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Њ—И–µ–ї —З–µ—А–µ–Ј –Я–Њ–ї—М—И—Г –Ї –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Њ–є –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–∞ –∞—А–Љ–Є—П –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–ї–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—В—А–∞–і–∞–ї–∞ –Њ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –љ–µ—Е–≤–∞—В–Ї–Є –≤–Њ–і—Л –Є —Д—Г—А–∞–ґ–∞. –Ь–Є—А –±—Л–ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Я—А—Г—В–∞, –Є –∞—А–Љ–Є—П –њ—А–Є—И–ї–∞ –≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –≤ –Я–Њ–ї—М—И—Г, –≥–і–µ –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Њ–≤–Є–Ј–Є—О –Є —Д—Г—А–∞–ґ, –і–ї—П –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї.
3 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1712 (–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ вАУ 1711) –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї –Љ–µ–љ—П –≤ –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А—Л –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ –Љ–∞—А—И–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї —Б –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ –љ–∞—И–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–є –Ї–љ—П–Ј—П –†–µ–њ–љ–Є–љ–∞. –Т —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Ї–љ—П–Ј—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Є–і—В–Є —З–µ—А–µ–Ј –Я–Њ–ї—М—И—Г –≤ –Я–Њ–Љ–µ—А–∞–љ–Є—О, —Б –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М—О –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–≤–∞ –±—Л–ї–Є –≥—А–µ–љ–∞–і–µ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є. –Т –Ґ–Њ—А–љ–µ —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –≤–Ј—П—В—М 3000 –њ–µ—Е–Њ—В—Л –Є 1000 –і—А–∞–≥—Г–љ –Є –Є–і—В–Є –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Г –У—А–∞–Ј–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Г —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–ґ–µ–≥ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–∞—И–Є—Е –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–Њ–≤ –Є —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–ї –≤—Б–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П —В–Њ–є –ґ–µ —Б—Г–і—М–±–Њ–є; –љ–Њ –Њ–љ —А–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –°–Є–ї–µ–Ј–Є—О, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞—Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ –љ–∞—И–µ–Љ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–Є. –ѓ –і–Њ–ґ–Є–і–∞–ї—Б—П, –њ–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, —Б –Љ–Њ–Є–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Я–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є –Ї–љ—П–Ј—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ –≤–µ–ї –љ–∞—И—Г –∞—А–Љ–Є—О —З–µ—А–µ–Ј —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –С—А–∞–љ–і–µ–љ–±—Г—А–≥–∞, –Ї –®—В–µ—В–Є–љ—Г, –≤ –Я–Њ–Љ–µ—А–∞–љ–Є–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П —В–Њ–≥–і–∞ –≤ –Њ—Б–∞–і–µ. –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –њ—А–Є–±—Л–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Ь–µ–љ—М—И–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Ї –∞—А–Љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–љ—П–ї–∞ –Њ—Б–∞–і—Г –®—В–µ—В–Є–љ–∞ –Є 22 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–є –Љ–∞—А—И –≤ –Ь–µ–Ї–ї–µ–љ–±—Г—А—Г–≥, –Ї—Г–і–∞ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є –Љ–∞—А—И–∞–ї, –≥—А–∞—Д –®—В–µ–є–љ–±–Њ–Ї, —Г–ґ–µ –≤–Њ—И–µ–ї –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ф—Г–љ–≥–∞—А—В–µ–љ–∞ –Є –Ј–∞–љ—П–ї –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Љ–µ–ґ–і—Г –Т–Є—Б–Љ–∞—А–Њ–Љ –Є –†–Њ—Б—В–Њ–Ї–Њ–Љ. –Ь–љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В—М, —Б —В—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ—Е–Њ–і –≤–Њ–Ј–ї–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞ –Ы–µ—Б–Ј—Ж–Є–љ, –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є 3 –Љ–Є–ї—М –Њ—В –†–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞.
12 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Є–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–Њ–Љ. –У—А–∞—Д –®—В–µ–є–љ–±–Њ–Ї, –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј–±–Є—В–Є—П –і–∞—В—З–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–µ–ї –≤ –Ь–µ–Ї–ї–µ–љ–±—Г—А–≥ —Б–∞–Љ –Ї–Њ—А–Њ–ї—М, –і–∞–±—Л —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є, —Г—И–µ–ї –≤ –У–Њ–ї—И—В–Є–љ–Є—О, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –Є —Б —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є, –Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П —Б –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–Љ –Ф–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–і –†–µ–љ–і—Б–±—Г—А–≥–Њ–Љ 13 —П–љ–≤–∞—А—П 1713. –°–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤ —Б–Є–µ, –і–≤–∞ —Б—Г–≤–µ—А–µ–љ–∞ –њ–Њ—И–ї–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –∞—А–Љ–Є—П–Љ–Є –Є —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З—Г —Б –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ. –Ю–љ–Є –љ–∞–љ–µ—Б–ї–Є –µ–Љ—Г –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –Є –њ—А–Є–љ—Г–і–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Ґ–µ–љ–љ–Є–љ–≥–µ–љ, —З—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –Ї –Њ—Б–∞–і–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –Њ—В—А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї. –ѓ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –љ–∞–і —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–Љ –Є–Ј 13 –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤, –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –і–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –°–∞–є–Ј–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ. –Ґ—А–∞–љ—И–µ–Є –±—Л–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л 3 [??], –∞ 26 —З–Є—Б–ї–∞ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –®—В–µ–є–љ–±–Њ–Ї —Б–і–∞–ї –≥–Њ—А–Њ–і, –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ —Б–і–µ–ї–∞–ї—Б—П –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–є–љ—Л. –Ю—А—Г–ґ–Є–µ, —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П, –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є, –і–∞—В—З–∞–љ–∞–Љ–Є –Є —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Ж–∞–Љ–Є, –Є —П –±—Л–ї –≤—Л–±—А–∞–љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М —А–∞–Ј–і–µ–ї. –Ю—В –Ґ—С–љ–љ–Є–љ–≥–µ–љ–∞ –љ–∞—И–∞ –∞—А–Љ–Є—П –њ–Њ—И–ї–∞ —З–µ—А–µ–Ј –У–∞–Љ–±—Г—А–≥ –Ї –®–µ—Ж–Є–љ—Г, –Ї—Г–і–∞ –Љ—Л –њ—А–Є–±—Л–ї–Є 29 –Є—О–љ—П. 13 –љ–Њ—П–±—А—П [—В–∞–Ї –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ] –њ–µ—А–µ–і –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –±—Л–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л —В—А–∞–љ—И–µ–Є, –Є 29-–≥–Њ –Њ–љ —Б–і–∞–ї—Б—П. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–є –Њ—Б–∞–і—Л —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –њ—А–Њ—И–ї–∞ —З–µ—А–µ–Ј –С—А–∞–љ–і–µ–љ–±—Г—А–≥ –Є –Я–Њ–ї—М—И—Г –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О. –ѓ –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ 1714 –≥–Њ–і–∞ —Б —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї, –≥–і–µ –њ—А–Њ–≤–µ–ї –Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –Ј–Є–Љ—Л. –Ы–µ—В–Њ–Љ –∞—А–Љ–Є—П —Б—В–Њ—П–ї–∞ –ї–∞–≥–µ—А–µ–Љ —Г –Ѓ–љ—Д–Њ—А-–≥–Њ—Д, –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Є–≥–Є –Њ—В –†–Є–≥–Є –≤ –Ы–Є–≤–Њ–љ–Є–Є, –∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –Ј–Є–Љ—Г –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞. 8 –љ–Њ—П–±—А—П —П –Њ—В–±—Л–ї –≤ –Љ–Њ–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М–µ –Ы—С–Ј–µ—А, –≥–і–µ —П –њ—А–Њ–≤–µ–ї –Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –Ј–Є–Љ—Л —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –Є —Б–µ–Љ—М–µ–є.
–Т –≥–Њ–і—Г 1715 —П –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–∞–љ –≤ –Ъ—Г—А–ї—П–љ–і–Є—О, –љ–∞ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ы–Є–±–∞–≤—Л, –і–ї—П –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ—Б–∞–љ—В–∞. 19 –Є—О–ї—П —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Є–і—В–Є —З–µ—А–µ–Ј –°–∞–Љ–Њ–≥–Є—В–Є—О, —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї—М—Б–Ї—Г—О –Я—А—Г—Б—Б–Є—О –Є —З–µ—А–µ–Ј –Я–Њ–ї—М—И—Г –≤ –Я–Њ–Љ–µ—А–∞–љ–Є—О, –љ–Њ –Њ—В–Љ–µ–љ—П—О—Й–Є–є –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –љ–∞—Б—В–Є–≥ –Љ–µ–љ—П –≤ –С–Є—А–љ–±–∞—Г–Љ–µ –≤ –Я–Њ–ї—М—И–µ.
–Т –≥–Њ–і—Г 1716 —П –њ–Њ—И–µ–ї —Б –њ—П—В—М—О –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є –Є–Ј –Я–Њ–ї—М—И–Є —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї—М—Б–Ї—Г—О –Я—А—Г—Б—Б–Є—О, —З–µ—А–µ–Ј –Ъ—Г–ї—М–Љ –Є –≠–ї—М–±–Є–љ–≥, –њ—А–Њ—И–µ–ї —А—П–і–Њ–Љ —Б –Ф–∞–љ—Ж–Є–≥–Њ–Љ, —З–µ—А–µ–Ј –®—В–µ—В—В–Є–љ –Ї –Т–Є—Б–Љ–∞—А—Г, –Ї—Г–і–∞ —П –њ—А–Є–±—Л–ї 31 –Љ–∞—А—В–∞ –Є —Г—Б–Є–ї–Є–ї 5 –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –њ–Њ–і –Љ–Њ–Є–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ, –і–∞—В—Б–Ї–Є–µ, –њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Є –≥–∞–љ–љ–Њ–≤–µ—А—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б–∞–ґ–і–∞–ї–Є —Н—В–Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—Л–є –Љ–µ—Б—П—Ж. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є—П –Њ–љ —Б–і–∞–ї—Б—П —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї–љ—П–Ј—М –†–µ–њ–љ–Є–љ –њ—А–Є–±—Л–ї —Б –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є, –љ–∞—И–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –њ–Њ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞–Љ –≤ –Ь–µ–Ї–ї–µ–љ–±—Г—А–≥–µ. –Ъ–Њ—А–њ—Г—Б –®–µ—А–µ–Љ–µ—В–µ–≤–∞ —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞—Е –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ —Б —Н—В–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, –Љ–Њ–є –±—Л–ї —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ –≤ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–µ –Ъ—А–µ–≤–љ–Є—Ж, –≥–і–µ —П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –і–Њ –Є—О–љ—П –Љ–µ—Б—П—Ж–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –С–∞—А–љ—Б–і–Њ—А—Д, –≤ –ї–Є–≥–µ –Њ—В –†–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞, –Љ–µ—Б—В–µ —А–∞–љ–і–µ–≤—Г –љ–∞—И–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є. 2 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –Х–≥–Њ –Т–µ–ї. –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –≥—А—Г–Ј–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Б—Г–і–∞ –≤—Б–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–≤—И–µ–є –≤ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є –Є –њ–µ—Е–Њ—В–µ 30 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ь—Л –Њ—В–њ–ї—Л–ї–Є –≤ —В–Њ—В –ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–є –і–µ–љ—М –≤ –Ъ–Њ–њ–µ–љ–≥–∞–≥–µ–љ, –Ї—Г–і–∞ –њ—А–Є–±—Л–ї–Є 3-–≥–Њ, –≤ 10 —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞. –Ч–∞–≤–µ—А—И–Є–≤ –≤—Л—Б–∞–і–Ї—Г, 5-–≥–Њ –Љ—Л –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –љ–∞—И–Є –њ–∞–ї–∞—В–Ї–Є —А—П–і–Њ–Љ —Б –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ, –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—П–≤ –ї–∞–≥–µ—А–µ–Љ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –≤–Њ—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –і–љ–µ–є, –Љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞–Ј–∞–і –≤ –Ь–µ–Ї–ї–µ–љ–±—Г—А–≥; —В–∞–Љ –∞—А–Љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞—Е –і–Њ 12 –Є—О–ї—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ [?? вАУ 1717], –Ї–Њ–≥–і–∞ –∞—А–Љ–Є—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О. –Я–Њ—Б–ї–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ –Є —В—А—Г–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—А—И–∞, —П –њ—А–Є–±—Л–ї 5 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1717 [–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ вАУ 1718], —Б –Љ–Њ–Є–Љ –Њ—В—А—П–і–Њ–Љ –Є–Ј —З–µ—В—Л—А–µ—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤, –≤ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї—Г—О –Ы–Є–≤–Њ–љ–Є—О, –≥–і–µ –Љ—Л —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞—Е; –Љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Ї –±—Л–ї –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –Ы–Є–Ї—Б–љ–∞. 20 –Љ–∞—П 1718 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ–ї–Ї–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –Ы–Є—В–≤–µ –Є —З–∞—Б—В–Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ы–Є–≤–Њ–љ–Є–Є, –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ—Л –Ї –Ф–∞–љ—Ж–Є–≥—Г, –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –Ї–љ—П–Ј—П –†–µ–њ–љ–Є–љ–∞, –і–∞–±—Л –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Н—В–Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–љ —А–∞–љ–µ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є–ї —Б –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ. –Ц–Є—В–µ–ї–Є –Ф–∞–љ—Ж–Є–≥–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–ї–Є –і–µ–ї–∞ —Б –Ъ–љ—П–Ј–µ–Љ, –∞—А–Љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ–∞ –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л –≤ –Т–µ—А–і–µ—А–µ –Є –≤ –њ–∞–ї–∞—В–Є–љ–∞—В–µ –Я–Њ–Љ–µ—А–µ–ї–Є—П.
–Т –≥–Њ–і—Г 1719 –∞—А–Љ–Є—П –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ –†–Є–≥—Г; —П –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Љ–Њ—О –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –≤ –Я—А–∞—Г—Б—В–µ, –≤ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е –Ф–∞–љ—Ж–Є–≥–∞, –Є –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –†–Є–≥—Г 24 –∞–њ—А–µ–ї—П, —Б —В—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–і –Љ–Њ–Є–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –Я–Њ –Љ–Њ–µ–Љ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Г–Ї–∞–Ј, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, –Ї—Г–і–∞ —П –њ—А–Є–±—Л–ї 11 –Љ–∞—П. –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –і–∞–ї –Љ–љ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ —Б—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П –≤ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й—Г—О –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—О –љ–∞ –≥–∞–ї–µ—А–∞—Е, –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –≥—А–∞—Д–∞ –Р–њ—А–∞–Ї—Б–Є–љ–∞. –Ь—Л –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б—Г–і–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ 31 –Љ–∞—П –Є 1 –Є—О–љ—П –Њ—В–њ–ї—Л–ї–Є –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И–ї–Њ—В, –Ї—Г–і–∞ –њ—А–Є–±—Л–ї–Є 2-–≥–Њ –Є –≤–љ–Њ–≤—М –Њ—В–њ–ї—Л–ї–Є 9-–≥–Њ –≤ –§–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Є–≤, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ. –Ь–љ–µ –≤—Л–њ–∞–ї–∞ —З–µ—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –∞—А—М–µ—А–≥–∞—А–і–Њ–Љ. –Р–≤–∞–љ–≥–∞—А–і–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –С—Г—В—Г—А–ї–Є–љ, –∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї. 16-–≥–Њ –љ–∞—И–Є –≥–∞–ї–µ—А—Л –≤—Б—В–∞–ї–Є –љ–∞ —П–Ї–Њ—А—М –≤ –У–µ–ї—М—Б–Є–љ—Д–Њ—А—Б–µ, –≤ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є. –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В–≤–µ–ї —Д–ї–Њ—В –≤ –†–µ–≤–µ–ї—М, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П —Б —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞ —В–∞–Љ –Ј–Є–Љ—Г; 19-–≥–Њ –Љ—Л –њ–Њ—И–ї–Є –Є–Ј –У–µ–ї—М—Б–Є–љ—Д–Њ—А—Б–∞ –Ї –У–∞–љ–≥—Г—В—Г. –Ч–і–µ—Б—М –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П –Ї –љ–∞–Љ —Б —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ, –Є —П –Є–Љ–µ–ї —З–µ—Б—В—М –Њ–±–µ–і–∞—В—М —Б –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г –µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є 29-–≥–Њ, –≤ –і–µ–љ—М –µ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. 30-–≥–Њ —П –±—Л–ї –Њ—В–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤–њ–µ—А–µ–і, —Б 26 –≥–∞–ї–µ—А–∞–Љ–Є –Є 4000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ї –Р–ї–∞–љ–і—Г, –≥–і–µ —П –≤—Б—В–∞–ї –љ–∞ —П–Ї–Њ—А—М 4 –Є—О–ї—П –Є –љ–∞—И–µ–ї –Ї–љ—П–Ј—П –У–Њ–ї–Є—Ж–Є–љ–∞ —Б –µ–≥–Њ –≥–∞–ї–µ—А–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–Є–Љ–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –Р–±–Њ; –Љ–µ–ґ–і—Г –Ѓ–љ–≥—Д–µ—А–љ—Б—З–Є—А–µ–љ –Є –°–Њ—В—В–Є–љ–≥–∞—Г —П –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–є —И—В–Њ—А–Љ. –Т —Н—В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М, 4 –Є—О–ї—П –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–±—Л–ї —Б –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –Ї –Р–ї–∞–љ–і—Г; 6 –Љ—Л –Њ—В–±—Л–ї–Є –Ї –§–Є–ї—Е–∞–Љ—Г; –Є 7-–≥–Њ –Њ–і–Є–љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –±—А–Њ—Б–Є–ї —П–Ї–Њ—А—М —Г –Ы–∞–Љ–µ–ї–∞–љ–і–∞. 10 –Є—О–ї—П –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Њ—В–њ–ї—Л–ї –Ї –Р–ї–∞–љ–і—Б–≥–Њ—Д—Г, –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –°—В–Њ–Ї–≥–Њ–ї—М–Љ–∞, —Б–Њ 115 –≥–∞–ї–µ—А–∞–Љ–Є, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–Љ–Є 22 –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–∞ –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г —Б –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ—В–љ—П–Љ–Є –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Е –ї–Њ—И–∞–і—М–Љ–Є. 11-–≥–Њ –≤ 9 —З–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г–љ–Њ—З–Є –Љ—Л –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –Ї –°–≤–µ–љ—Б–Ї–µ–С–Њ—В–Є–љ, –≤ 12 –ї–Є–≥–∞—Е –Њ—В –°—В–Њ–Ї–≥–Њ–ї—М–Љ–∞; 12 –Є—О–ї—П —П –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ —Б 22 –≥–∞–ї–µ—А–∞–Љ–Є, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–Љ–Є 4000 –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г, –Њ—В —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –Ї –У–µ–≤–µ–ї—О, –≤ –Т–µ—Б—В–µ—А–ї–∞–љ–і–µ. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї —Б –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –≤–Ј—П–ї –Ї—Г—А—Б –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –Њ—В –°—В–Њ–Ї–≥–Њ–ї—М–Љ–∞, –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Э–Њ—А—З–µ–њ–Є–љ–≥–∞. –Т —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М —П –њ—А–Є—Б—В–∞–ї –Ї –Р—А–љ–≥–Њ–ї—М–Љ—Г; 13-–≥–Њ —П –њ—А–Є–њ–ї—Л–ї –Ї –°–Є–љ–≥–µ–Љ—Г, 14-–≥–Њ –Ї –•–∞—А—А–Є–µ–љ—Г, –≥–і–µ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і—П –≤—Л—Б–∞–і–Ї—Г, —П —А–∞–Ј—А—Г—И–Є–ї –Ј–∞–≤–Њ–і—Л –Є –≤–Ј—П–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е. –Ю—В –•–∞—А—А–Є–µ–љ–∞ —П –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї –У–µ–±–Њ–љ–Є–Ї—Г, –Ј–∞—В–µ–Љ –Ї –Ю—В–ї–∞–±—А—О–≥—Г, –Ї—Г–і–∞ –њ—А–Є–±—Л–≤ 16-–≥–Њ, —П –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ –Є —А–∞–Ј–Њ—А–Є–ї –Ј–∞–≤–Њ–і—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞; –Њ—В—В—Г–і–∞ —П –њ–Њ–њ–ї—Л–ї –Ї –Ю—Б—В—Е–∞–Љ–Љ–µ—А—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ –Є —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ. 19-–≥–Њ —П –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї –і–≤—Г—Е —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–њ—Ж–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–ї–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –С—А–µ—Б–Њ–љ. 20–≥–Њ —П –і–Њ—Б—В–Є–≥ –§–Њ—А—И—В –Ь–∞—А–Ї –±—А—Г–Ї–∞, –≥–і–µ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А —Б—В–Њ—П–ї –≤ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–Є —Б –і–≤—Г–Љ—П –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є. –ѓ –≤—Л—Б–∞–і–Є–ї 1400 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї –Є –њ—А–Є–љ—Г–і–Є–ї –Є—Е –Ї –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О, —Б –њ–Њ—В–µ—А–µ–є 3 —А–Њ—В–љ—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –њ–Њ–Ј–∞–і–Є. –Ю—В —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ —П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї –Љ–Њ–є –њ—Г—В—М –Ї –Ы–Є—Б—В—Г, –≥–і–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М —Г–Ї—А–µ–њ–Є–ї—Б—П —Б—Е–Њ–і–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Я–Њ —А–µ–њ–Њ—А—В–∞–Љ —В–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –і–Њ 900 –њ–µ—Е–Њ—В—Л –Є 600 –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л. –ѓ —Б–Њ—И–µ–ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ –Є, –љ–µ —В–µ—А—П—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї; –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–±–Є—В—Л, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ 7 —А–Њ—В–љ—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї –Є 2 –Ї—Г–ї–µ–≤—А–Є–љ—Л –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –Ї –љ–∞–Љ –≤ —А—Г–Ї–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ы–µ—Б—В–∞–±—А—Г–Ї –±—Л–ї –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ –≤ –њ–µ–њ–µ–ї, –Є —П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї –њ—Г—В—М –Ї –У–µ–≤–µ–ї—О, —Б–ґ–Є–≥–∞—П –Є –Њ–њ—Г—Б—В–Њ—И–∞—П –≤—Б–µ –љ–∞ –њ—Г—В–Є –≤–і–Њ–ї—М –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П, —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є –љ–∞ –њ—А–Є–ї–µ–≥–∞—О—Й–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е. 3 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ —П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Њ—В –°—Г–Є—В–ї–∞–љ–і–∞ –Ї –Р–ї–∞–љ–і–∞–Љ, –Ї—Г–і–∞ –њ—А–Є–±—Л–ї 15-–≥–Њ: —П –љ–∞—И–µ–ї –Х–µ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Ю–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Љ–љ–µ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –ї—О–±–µ–Ј–љ—Г—О –≤—Б—В—А–µ—З—Г, —Б–∞–ї—О—В–Њ–≤–∞–ї–∞ –Љ–љ–µ –Є –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–ї–∞ –Њ–±–µ–і–∞—В—М —Б –љ–µ–є. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—П –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –±—Л–ї–Є —Б—Е–Њ–і–љ—Л —Б –Љ–Њ–Є–Љ–Є. –Ю–љ —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–Є–ї, —Б–ґ–µ–≥, —А–∞–Ј—А—Г—И–Є–ї –Э–Њ—А–і–Ї–Њ–њ–Є–љ–≥, —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є –Є –і–µ—А–µ–≤–љ—П–Љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Н—В–Є–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –Є –°—В–Њ–Ї–≥–Њ–ї—М–Љ–Њ–Љ, –і–∞–ґ–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Є–≥–µ –Њ—В —Н—В–Њ–є —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є–Є. 19–≥–Њ –Њ–љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –Ы–∞–Љ–µ–ї–∞–љ–і—Г, –∞ 21-–≥–Њ –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Є –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А—Л –Њ—В–њ–ї—Л–ї–Є –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥; –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї–љ—П–Ј—М –У–Њ–ї–Є—Ж–Є–љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –≤ –Р–±–Њ. –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –Љ–љ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤ –Ы–Є–≤–Њ–љ–Є—О. –ѓ –Њ—В–±—Л–ї –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є –≥–∞–ї–µ—А—Л –≤ –Р–±–Њ, –њ—А–Є–±—Л–≤ –Ї—Г–і–∞, 24-–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –і–∞–ї–µ–µ –≤ –У–µ–ї—М—Б–Є–љ–≥—Д–Њ—А—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Є–≥ 27-–≥–Њ. –Ч–∞—В–µ–Љ —П –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї –§–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Є–≤, –љ–∞ –±—А–Є–≥–∞–љ—В–Є–љ–µ –і–Њ –†–µ–≤–µ–ї—П: –њ—А–Є–±—Л–≤ —В—Г–і–∞ 29-–≥–Њ, —П –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –≤ –†–Є–≥—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П –і–Њ—Б—В–Є–≥ 1 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П, –Є 2-–≥–Њ —П –±—Л–ї –≤ –Љ–Њ–µ–Љ –і–Њ–Љ–µ –≤ –Ы—С–Ј–µ—А.
1 –Љ–∞—А—В–∞ 1720 –≥–Њ–і–∞ —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ –Р–±–Њ –≤ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є, –і–ї—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –У–Њ–ї–Є—Ж–Є–љ—Л–Љ —Б–Њ–±–Є—А–∞–≤—И–µ–є—Б—П –∞—А–Љ–Є–µ–є. –ѓ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Є–Ј –Ы–Њ–Ј–µ—А–∞ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –Є –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –†–Є–≥—Г 15-–≥–Њ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞. 18-–≥–Њ —П –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –†–Є–≥—Г –Є –Љ–Є–љ–Њ–≤–∞–ї –Я–µ—А–љ–∞—Г 20-–≥–Њ, –†–µ–≤–µ–ї—М 24-–≥–Њ, –Э–∞—А–≤—Г 28-–≥–Њ, –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ 31-–≥–Њ, –Т—Л–±–Њ—А–≥ 4 –∞–њ—А–µ–ї—П, –Ґ–∞–≤–∞—Б—В—Г–≥ 8-–≥–Њ, –Є 10-–≥–Њ —П –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –Р–±–Њ. 24 –∞–њ—А–µ–ї—П 15 –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–Њ—В –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Є –і—А–∞–≥—Г–љ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ –≥–∞–ї–µ—А—Л; 25-–≥–Њ –Љ—Л –Њ—В–њ–ї—Л–ї–Є –Є–Ј –Р–±–Њ –Є –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –Ї –Р–ї–∞–љ–і—Г 27-–≥–Њ. –Т–≤–Є–і—Г –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–≤–∞–љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–Љ —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–∞ –Р–ї–µ–љ—Б–і—Е–Њ—Д, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ—Л —А–∞–љ–µ–µ —А–µ—И–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ—Б–µ—З—М –≤ —А–∞—Б—З–µ—В–µ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П, –Ј–∞–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –≤ –У–µ–≤–µ–ї–µ. 9 –Љ–∞—П –Љ—Л –Њ—В–њ–ї—Л–ї–Є –Њ—В –Р–ї–∞–љ–і–∞ –Ї –У–µ–ї—М—Б–Є–љ–≥—Д–Њ—А—Б—Г, –Ї—Г–і–∞ –њ—А–Є–і—П 17-–≥–Њ, –∞—А–Љ–Є—П –≤—Л—Б–∞–і–Є–ї–∞—Б—М 19-–≥–Њ –Є —Б—В–∞–ї–∞ –ї–∞–≥–µ—А–µ–Љ –≤–±–ї–Є–Ј–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –У–µ–ї—М—Б–Є–љ–≥—Д–Њ—А—Б–∞. 26–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ї–љ—П–Ј—М –У–Њ–ї–Є—Ж–Є–љ –њ–Њ—И–µ–ї —Б 10 –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є –Ї –Ъ–Є—А–Ї–µ –њ–Њ—О, –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –њ—Г—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –У–µ–ї—М—Б–Є–љ—Д–Њ—А—Б–Њ–Љ –Є –Р–±–Њ, –≥–і–µ –Є –≤—Б—В–∞–ї –ї–∞–≥–µ—А–µ–Љ. –ѓ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ –У–µ–ї—М—Б–Є–љ–≥—Д–Њ—А—Б–µ, –Є–Љ–µ—П –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —И–µ—Б—В—М –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤, –≤–µ—Б—М —Д–ї–Њ—В, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–є –Є–Ј 105 –≥–∞–ї–µ—А, –Є –≥–Њ—А–Њ–і, –≥–і–µ —П –Є –њ—А–Њ–≤–µ–ї –≤—Б—О –Ј–Є–Љ—Г. 17 –Є—О–ї—П 1720 –≥–Њ–і–∞ –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–љ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –њ–Њ—З—В–Є—В—М –Љ–µ–љ—П –Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞.
1 –Љ–∞—П 1721 –≥–Њ–і–∞ —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Г–Ї–∞–Ј –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –®–≤–µ—Ж–Є—О, —Б–Њ 130 [—В–∞–Ї –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ] –≥–∞–ї–µ—А–∞–Љ–Є, 5000 –њ–µ—Е–Њ—В—Л, 2 –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є –Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –і—А–∞–≥—Г–љ –Є 370 –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞–Љ–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–µ—А—Е–Њ–Љ. –ѓ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї—Б—П –і–ї—П —Н—В–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л 3-–≥–Њ, –±—Л–ї –≤ –У—Г—Б —Д–µ–ї–Є–љ, –љ–∞ –Р–ї–∞–љ–і–µ, 15-–≥–Њ; –Љ—Л –≤–Ј—П–ї–Є –Ї—Г—А—Б –Ї –Э–Њ—А–і –С–Њ–і–µ–љ, –Є 17-–≥–Њ –≤ 9 —З–∞—Б–Њ–≤ –≤–µ—З–µ—А–∞ –Љ—Л –≤—Б—В–∞–ї–Є –љ–∞ —П–Ї–Њ—А—М –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –У–µ–≤–µ–ї—П. 18-–≥–Њ –Љ—Л –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї –љ–∞—И–Є–Љ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П–Љ, –љ–µ—Б—П –њ–Њ–ґ–∞—А—Л –Є –Њ–њ—Г—Б—В–Њ—И–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–Љ –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –У–µ–≤–µ–ї–µ–Љ –Є –Я–Є—В–∞–Љ–Є, –Њ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 100 —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є—Е –ї–Є–≥. 21-–≥–Њ –Љ—Л –њ—А–Є—И–ї–Є –≤ –°–Њ–і–µ—А–≥–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ –Є —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –±—Л–≤—И–Є–Љ–Є –≤ –≥–∞–≤–∞–љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є. 22-–≥–Њ –Љ—Л —Б–Њ–ґ–≥–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і –У—Г–і–≤–Є–Ї—Б–≤–∞–ї—М –Є, –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –Њ—Б–њ–Њ—А–Є–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞—И—Г –≤—Л—Б–∞–і–Ї—Г, –Љ—Л –≤–Ј—П–ї–Є —Г –љ–Є—Е 4 –њ—Г—И–Ї–Є –Є 10 –њ–∞—А –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ; 40 —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –≤–Ј—П—В—Л –≤ –њ–ї–µ–љ. 25-–≥–Њ –Љ—Л –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і –°–∞–љ–і—Е–µ—А—А–Њ—В –≤ –≥—А—Г–і—Г –њ–µ–њ–ї–∞; –Ј–і–µ—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ –±—Л–ї –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ –≤ –±–µ–≥—Б—В–≤–Њ, –Є —И–µ—Б—В—М –Є–Ј –Є—Е –≥–∞–ї–µ—А, –Ї–∞–Ї –Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –±—Г—Е—В–µ —Б—Г–і–∞, –±—Л–ї–Є —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ—Л. –Т —Н—В–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –Љ—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞–Љ–Є 2 –њ—Г—И–µ–Ї, –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–љ–і–∞—А—В–∞ –Є 4 –њ–∞—А –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ; 20 —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є –і–≤—Г—Е —В—А—Г–±–∞—З–µ–є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є. 30-–≥–Њ –Љ—Л –њ—А–µ–і–∞–ї–Є –Њ–≥–љ—О –≥–Њ—А–Њ–і –≠–≥–≥–µ—А—Б—Г–љ–і –Є —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ –≤ –≥–∞–≤–∞–љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. 6 –Є—О–љ—П –Э–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–љ –њ–Њ—Б—В–Є–≥–ї–∞ —В–∞ –ґ–µ —Г—З–∞—Б—В—М; —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–є —В–∞–Љ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є—В—М, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е. 8-–≥–Њ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ —П –≤—Л—Б–∞–і–Є–ї—Б—П –≤ –£–Љ–∞—Е –≤ –Т–µ—Б—В–µ—А–±–Њ—В—В–љ–Є–Є, –≥–і–µ –і–≤–∞ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–∞ —Б—В–Њ—П–ї–Є –≤ —А–µ—В—А–∞–љ—И–µ–Љ–µ–љ—В–∞—Е. –Ю–љ–Є –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —А–µ—В—А–∞–љ—И–µ–Љ–µ–љ—В—Л, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Л –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є, –Є –љ–∞—И–Є –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є, –њ—А–µ—Б–ї–µ–і—Г—П –Є—Е, –≤–Ј—П–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е. 13-–≥–Њ —П –њ—А–Є—Б—В–∞–ї –≤–Њ–Ј–ї–µ –Я–Є—В, –љ–∞ –С–Њ—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ, –Є, –Ї–∞–Ї –Є —А–∞–љ—М—И–µ, –њ—А–Є–љ—Г–і–Є–≤ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П, —П —Б–ґ–µ–≥ –Я–Є—В—Л, –Ї–∞–Ї —Б—В–∞—А—Л–є, —В–∞–Ї –Є –љ–Њ–≤—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і. 15-–≥–Њ —П –і—Г–Љ–∞–ї –Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є, –Є –њ–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є –≤ –†–∞—В–Њ–љ, 16-–≥–Њ, –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —Г–Ї–∞–Ј –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –®–≤–µ—Ж–Є—О, –њ–Њ –њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г –Њ—В —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤, —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –Ї–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б–µ –≤ –Э–Є—И—В–∞–і—В–µ. 17-–≥–Њ —П –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї –§–Є–љ—Б–Ї–Є–є [–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ вАУ –С–Њ—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є] –Ј–∞–ї–Є–≤ –Є –≤ —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б—В—А–∞—И–љ—Г—О –±—Г—А—О, —П –≤—Б—В–∞–ї –љ–∞ —П–Ї–Њ—А—М –≤–Њ–Ј–ї–µ –Т–∞–Ј –≤ –Ю—Б—В–µ—А–±–Њ—В—В–љ–Є–Є. 20-–≥–Њ —П –њ–Њ—И–µ–ї –њ–Њ–і –њ–∞—А—Г—Б–∞–Љ–Є –Ї –Р–±–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Є–≥ 23-–≥–Њ. 4 –Є—О–ї—П, –њ–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є –≤ –У–µ–ї—М—Б–Є–љ–≥—Д–Њ—А—Б, —П –≤—Л–≥—А—Г–Ј–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –Ї–љ—П–Ј—П –У–Њ–ї–Є—Ж–Є–љ–∞. 20 –Є—О–ї—П –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –У–µ–ї—М—Б–Є–љ—Д–Њ—А—Б, —Б 17 –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є, 300 –і—А–∞–≥—Г–љ–∞–Љ–Є –Є 600 –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г 50 –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Є 48 –Љ–∞–ї—Л—Е –≥–∞–ї–µ—А, –Є–ї–Є –Ъ–∞–ї–µ—Д–µ–Љ-–Ю—Б—В—А–Њ—Д—Б–Ї–Є, –Ї–∞–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Є—Е –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П —Б –њ–Њ—Б–њ–µ—И–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї –Ъ–Њ—А–њ–Њ –Ї–Є—А–Ї–µ, –Њ—Б—В—А–Њ–≤—Г, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–µ–ґ–і—Г –Р–±–Њ –Є –°—В–Њ–Ї–≥–Њ–ї—М–Љ–Њ–Љ. –ѓ –њ—А–Є–±—Л–ї –Ї –Љ–µ—Б—В—Г –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П 24-–≥–Њ, –∞ –Ї–љ—П–Ј—М –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ 13 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ —Б –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –≥–∞–ї–µ—А–∞–Љ–Є, –Љ—Л –њ–Њ–њ–ї—Л–ї–Є –≤–љ–Њ–≤—М 16-–≥–Њ, –Ї –Р–ї–∞–љ–і—Г, —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є 130 –≥–∞–ї–µ—А–∞–Љ–Є, –Є –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є —П–Ї–Њ—А—М 19-–≥–Њ —Г –§–µ–ї–Є—Б—Б–µ–Љ–±–µ—А–≥–∞, –≤ 12 –Љ–Є–ї—П—Е –Њ—В –°—В–Њ–Ї–≥–Њ–ї—М–Љ–∞. 27-–≥–Њ —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –≤—Л—Б–∞–і–Є—В—М—Б—П —Б –∞–≤–∞–љ–≥–∞—А–і–Њ–Љ; –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –і–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Є –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–Љ –®–≤–µ—Ж–Є–Є. –Я–Њ–Ї–Є–љ—Г–≤ –®–≤–µ—Ж–Є—О, –Љ—Л –Њ—В–њ–ї—Л–ї–Є 8-–≥–Њ –Њ—В –Р–ї–∞–љ–і–∞ –Ї –У–µ–ї—М—Б–Є–љ–≥—Д–Њ—А—Б—Г, –Ї—Г–і–∞ –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –Є –≤—Л–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М 14-–≥–Њ. 7 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –Љ—Л –Њ—В–њ–ї—Л–ї–Є —Б 50 –≥–∞–ї–µ—А–∞–Љ–Є –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –Љ—Л –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –љ–∞—И–Є—Е –ї—Г—З—И–Є—Е –≥–∞–ї–µ—А –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–є –±—Г—А–Є. 14-–≥–Њ –Љ—Л –њ—А–Є—Б—В–∞–ї–Є –Ї –С–µ—А–Ї—Е–Њ–ї—М–Љ—Г, –Є–ї–Є –С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Њ—Б—В—А–Њ–≤—Г, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Є–Љ—П –µ–Љ—Г –і–∞–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ. –Ґ–∞–Љ —П –і–Њ–ґ–і–∞–ї—Б—П –Ї–љ—П–Ј—П –У–Њ–ї–Є—Ж–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П –Ї –љ–∞–Љ 20-–≥–Њ —Б –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ –Љ—Л –Њ—В–њ–ї—Л–ї–Є –Ї –Ъ—А–Њ–љ—И–ї–Њ—В—Г, –∞ –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, –≥–і–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤—Л—Б–∞–і–Є–ї–Є—Б—М –Є —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ј–Є–Љ–љ–Є–µ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л. 22 –љ–Њ—П–±—А—П —П –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г, –і–∞–±—Л –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В—М –Љ–Њ–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–µ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ –≤ –Ы—С–Ј–µ—А –≤ –Ы–Є–≤–Њ–љ–Є–Є, –≥–і–µ —П –Њ—В–і—Л—Е–∞–ї –≤—Б—О –Ј–Є–Љ—Г.
1 Traduction du Journal ecrit de main propre de S. E. Mr. Le Marechal, Comte Pierre de Lasy, du 12. Janvier, 1751. De Ligne, Prince Charles-Josrph. Melanges militaires, litteraires et sentimentaires. Tome VI. Viene, 1796. P. 20вАУ63.
2 –С–∞–љ—В—Л—И-–Ъ–∞–Љ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Ф. –Э. –°–ї–Њ–≤–∞—А—М –і–Њ—Б—В–Њ–њ–∞–Љ—П—В–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є. –І. 3. –Ь., 1836. –°. 147вАУ157 (–Є ¬Ђ–С–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Є—Б—Б–Є–Љ—Г—Б–Њ–≤ –Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–Њ–≤¬ї. –°–Я–±., 1840. –І. 1.); –С–µ—А–≥–Љ–∞–љ –Т. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –Ґ. 6. –°–Я–±., 1834. –°. 271вАУ276.
3 A Journal of his Exellency the Marshal Count Peter de Lasy, in the service of Russia, written with his own hand / The British military library... Vol. I. London, 1804. P. 340вАУ345, 388вАУ392.
4 –£—Б—В—А—П–ї–Њ–≤ –Э. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –Ґ. 4. –І. 2. –Я—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –°–Я–±., 1863. –°. 224вАУ225.
5 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 153.
6 –Ь–∞—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ф. –§. –Ы–∞—Б—Б–Є // –≠–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї. –Ґ. 4. –°–Я–±., 1889. –°. 50.
7 –Я–Є—Б—М–Љ–∞ –Є –±—Г–Љ–∞–≥–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –Ґ. 4. –°–Я–±., 1900. –°. 952; –Ґ. 6. –°–Я–±., 1900. –°. 614.
8 –Ь—Л—И–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Р.–Ч. –°–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–∞ –Ш–љ–≥–µ—А–Љ–∞–љ–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–Љ –Є –§–Є–љ–ї—П–љ–і—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–∞—Е –≤ 1708вАУ1714 –≥–≥. (–Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –≥–Њ—Б. –∞—А—Е–Є–≤–∞). –°–Я–±., 1893. –°. 338.
9 –Я–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї 1719 –≥–Њ–і–∞. –°–Я–±., 1855. –°. 48вАУ49.
10 –Р—А—Е–Є–≤ –°–Я–±–Ш–Ш –†–Р–Э. –§. 83. –Ю–њ. 1. –Ф. 5214.
11 –У–Є—Б—В–Њ—А–Є—П –°–≤–µ–є—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л (–Я–Њ–і–µ–љ–љ–∞—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ). –Т—Л–њ. 1. –Ь., 2004. –°. 381.
12 –Р—А—Е–Є–≤ –°–Я–±–Ш–Ш –†–Р–Э. –§. 83. –Ю–њ. 1. –Ф. 5711.
13 –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ —Б–Љ. –Ъ—Г–і–Ј–µ–µ–≤–Є—З –Ы. –Т. –§–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї –Я. –Я. –Ы–∞—Б—Б–Є –≤ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В—Л –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ—Л // –Ґ—А—Г–і—Л –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≠—А–Љ–Є—В–∞–ґ–∞: [–Ґ.] 78: –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –ї–Є—Ж–∞—Е вАУ 2015: –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є / –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≠—А–Љ–Є—В–∞–ґ. –°–Я–±.; 2015. –°. 261вАУ263.


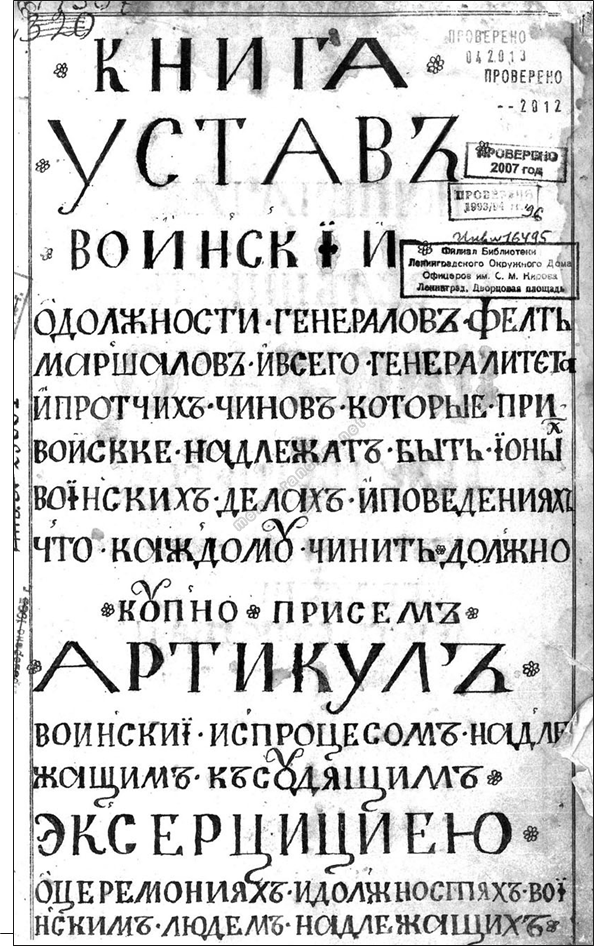


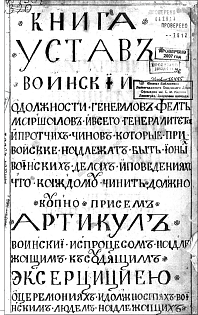



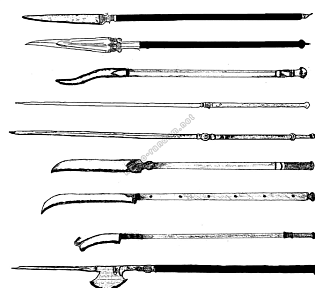
–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є