п∙.п▓. п▒п╣п╧ (п°п╬я│п╨п╡п╟) п▓п·п∙п²п²п╚п≥ п°п≤п²п≤п║п╒п═ п⌠п∙п²п∙п═п░п⌡ п·п╒ п≤п²п╓п░п²п╒п∙п═п≤п≤ п░.п░. п÷п·п⌡п≤п▓п░п²п·п▓ п≤ п∙п⌠п· п═п·п⌡п╛ п▓ п÷п═п∙п·п■п·п⌡п∙п²п≤п≤ п п═п≤п≈п≤п║п░ п▓п·п·п═пёп√п∙п²п≤п╞ 1915Б─⌠1916 п⌠п·п■п·п▓
пёп©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╣ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ п°п╦п╫п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀ п═п╬я│я│п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐ п░п╨п╟п╢п╣п╪п╦я▐ я─п╟п╨п╣я┌п╫я▀я┘ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ п╫п╟я┐п╨ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐п╥п╣п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦п╫п╤п╣п╫п╣я─п╫я▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐п╥п╦
п╖п╟я│я┌я▄ Iп║п╟п╫п╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ
б╘п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, 2016
б╘п п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡, 2015
б╘ п║п÷п╠п⌠пёп÷п╒п■, 2016
п░п╩п╣п╨я│п╣п╧ п░п╫п╢я─п╣п╣п╡п╦я┤ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡ Б─⌠ п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫п╟я▐ я└п╦пЁя┐я─п╟ п╡ п╬я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ п÷п╣я─п╡п╬п╧ п╪п╦я─п╬п╡п╬п╧ п╡п╬п╧п╫я▀ (1914Б─⌠1918). п п╩п╦я┤п╫п╬я│я┌п╦ я█я┌п╬пЁп╬ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╦ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╢п╣я▐я┌п╣п╩я▐ п©п╬я│п╩п╣п╢п╫п╣пЁп╬ п╢п╣я│я▐я┌п╦п╩п╣я┌п╦я▐ п╪п╬п╫п╟я─я┘п╦п╦ п╦я│я┌п╬я─п╦п╨п╦ п╡ п╬п╠я┴п╣п╪ п╬я┌п╫п╬я│я▐я┌я│я▐ п╠п╩п╟пЁп╬п╤п╣п╩п╟я┌п╣п╩я▄п╫п╬, я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╦п╥я┐я▐ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩п╟ п╨п╟п╨ п©я─п╦п╫я├п╦п©п╦п╟п╩я▄п╫п╬пЁп╬, п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬пЁп╬ я│я┌п╬я─п╬п╫п╫п╦п╨п╟ я─п╣я└п╬я─п╪ п╦ п╠п╩п╣я│я┌я▐я┴п╣пЁп╬ п╟п╢п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟я┌п╬я─п╟. п÷я─п╦п╫я▐я┌п╬ я│я┤п╦я┌п╟я┌я▄, я┤я┌п╬ п╥п╟ п╫п╣п╢п╬п╩пЁп╬п╣ п╡я─п╣п╪я▐ я┐п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦я▐ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡я▀п╪ п▓п╬п╣п╫п╫я▀п╪ п╪п╦п╫п╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╬п╪ (я│ п╦я▌п╫я▐ 1915 п©п╬ п╪п╟я─я┌ 1916) п╬я│я┌я─я▀п╧ п╨я─п╦п╥п╦я│ п╡ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫п╦п╦ п╟я─п╪п╦п╦ п╠я▀п╩ п╡ я├п╣п╩п╬п╪ п©я─п╣п╬п╢п╬п╩п╣п╫. п▓ п╢п╟п╫п╫п╬п╧ я│я┌п╟я┌я▄п╣ п╪я▀ п©п╬я│я┌п╟я─п╟п╣п╪я│я▐ п╡я▀я▐я│п╫п╦я┌я▄, п╫п╟я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╡п╣я─п╫я▀ п╢п╟п╫п╫я▀п╣ я┐я┌п╡п╣я─п╤п╢п╣п╫п╦я▐, п©п╬я│я┌п╟п╡п╦п╡ я─п╟я│я│п╪п╟я┌я─п╦п╡п╟п╣п╪я┐я▌ п©п╣я─я│п╬п╫п╟п╩п╦я▌ п╬я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦ п╫п╟ п╢п╬п╩п╤п╫п╬п╣ п╪п╣я│я┌п╬.
п░п╩п╣п╨я│п╣п╧ п░п╫п╢я─п╣п╣п╡п╦я┤ я─п╬п╢п╦п╩я│я▐ 4 п╪п╟я─я┌п╟ 1855 пЁ. п╡ я│п╣п╪я▄п╣ п©п╬я┌п╬п╪я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀я┘ п╢п╡п╬я─я▐п╫ п п╬я│я┌я─п╬п╪я│п╨п╬п╧ пЁя┐п╠п╣я─п╫п╦п╦1. п÷п╬п╩я┐я┤п╦п╩ п©я─п╣п╨я─п╟я│п╫п╬п╣ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╡п╟п╫п╦п╣, п╬п╨п╬п╫я┤п╦п╡ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╡я│п╨п╬п╣ п╦п╫п╤п╣п╫п╣я─п╫п╬п╣ я┐я┤п╦п╩п╦я┴п╣ п╡ 1874 пЁ., п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╡я│п╨я┐я▌ п╦п╫п╤п╣п╫п╣я─п╫я┐я▌ п╟п╨п╟п╢п╣п╪п╦я▌ п╡ 1880 пЁ. (п©п╬ 1-п╪я┐ я─п╟п╥я─я▐п╢я┐) п╦ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╡я│п╨я┐я▌ п╟п╨п╟п╢п╣п╪п╦я▌ п⌠п╣п╫п╣я─п╟п╩я▄п╫п╬пЁп╬ я┬я┌п╟п╠п╟ п╡ 1888 пЁ. (п©п╣я─п╡я▀п╪ п╡ я│п╡п╬п╣п╪ п╨п╩п╟я│я│п╣). пёя┤п╟я│я┌п╡я┐я▐ п╡ п═я┐я│я│п╨п╬-я┌я┐я─п╣я├п╨п╬п╧ п╡п╬п╧п╫п╣ (1877Б─⌠1878) п╠я▀п╩ я┌я▐п╤п╣п╩п╬ я─п╟п╫п╣п╫ п©я┐п╩п╣п╧ п╫п╟п╡я▀п╩п╣я┌ п╡ п©я─п╟п╡я┐я▌ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ пЁя─я┐п╢п╦ п╡ п╠п╬я▌ п©п╬п╢ п⌠п╬я─п╫я▀п╪ п■я┐п╠п╫я▐п╨п╬п╪2. п÷п╬я│п╩п╣п╢я│я┌п╡п╦п╣п╪ я─п╟п╫п╣п╫п╦я▐ п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╟я│я▄ я┐я┌я─п╟я┌п╟ п©п╬п╢п╡п╦п╤п╫п╬я│я┌п╦ п╡ п©п╩п╣я┤п╣ п╦ я┬п╣п╣, б╚п╩п╦я├п╬ п░п╩п╣п╨я│п╣я▐ п░п╫п╢я─п╣п╣п╡п╦я┤п╟ п╠я▀п╩п╬ я│п╡п╣я─п╫я┐я┌п╬ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╫п╟п╠п╬п╨, п╣пЁп╬ я┤п╟я│я┌п╬ п╡я│п╣пЁп╬ п©п╣я─п╣п╢п╣я─пЁп╦п╡п╟п╩п╬б╩3.
п·п╢п╫п╟п╨п╬, п╫п╣я│п╪п╬я┌я─я▐ п╫п╟ я└п╦п╥п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╫п╣п╢п╬я│я┌п╟я┌п╬п╨, п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡ я┐п╡п╣я─п╣п╫п╫п╬ п©п╬п╢п╫п╦п╪п╟п╩я│я▐ п©п╬ я│я┌я┐п©п╣п╫я▐п╪ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╧ п╨п╟я─я▄п╣я─я▀ п╦ я│ я┐я│п©п╣я┘п╬п╪ я│п╩я┐п╤п╦п╩ я│п╫п╟я┤п╟п╩п╟ п╡ п п╦п╣п╡я│п╨п╬п╪ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╪ п╬п╨я─я┐пЁп╣, п╟ п©п╬я┌п╬п╪ п╡ п⌠п╩п╟п╡п╫п╬п╪ я┬я┌п╟п╠п╣, пЁп╢п╣ п╠я▀п╩ я─п╣п╢п╟п╨я┌п╬я─п╬п╪ п╬я└п╦я├п╦п╟п╩я▄п╫я▀я┘ п╡п╣п╢п╬п╪я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀я┘ п╦п╥п╢п╟п╫п╦п╧: п╤я┐я─п╫п╟п╩п╟ б╚п▓п╬п╣п╫п╫я▀п╧ я│п╠п╬я─п╫п╦п╨б╩ п╦ пЁп╟п╥п╣я┌я▀ б╚п═я┐я│я│п╨п╦п╧ п╦п╫п╡п╟п╩п╦п╢б╩. п║п╩п╣п╢я┐п╣я┌ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ п╢п╬ п©я▐я┌п╦п╢п╣я│я▐я┌п╦п╩п╣я┌п╫п╣пЁп╬ п╡п╬п╥я─п╟я│я┌п╟ п╨п╟я─я▄п╣я─п╟ п░п╩п╣п╨я│п╣я▐ п░п╫п╢я─п╣п╣п╡п╦я┤п╟ п╫п╦я┤п╣п╪ п╬я│п╬п╠п╣п╫п╫я▀п╪ п╫п╣ п╬я┌п╩п╦я┤п╟п╩п╟я│я▄ п╬я┌ п╨п╟я─я▄п╣я─я▀ п╥п╟я┐я─я▐п╢п╫п╬пЁп╬ п╬я└п╦я├п╣я─п╟ п⌠п╣п╫п╣я─п╟п╩я▄п╫п╬пЁп╬ я┬я┌п╟п╠п╟ я┌п╬пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦.
п═я┐я│я│п╨п╬-я▐п©п╬п╫я│п╨п╟я▐ п╡п╬п╧п╫п╟ (1904Б─⌠1905) п╬я┌п╡п╩п╣п╨п╩п╟ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫я┐я▌ я┤п╟я│я┌я▄ п╬я└п╦я├п╣я─п╬п╡ п⌠п╣п╫п╣я─п╟п╩я▄п╫п╬пЁп╬ я┬я┌п╟п╠п╟ п╫п╟ я└я─п╬п╫я┌, п╦ я█я┌п╬я┌ я└п╟п╨я┌п╬я─ п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ п©п╬п╡п╩п╦я▐п╩ п╫п╟ я│я┌я─п╣п╪п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╧ п╨п╟я─я▄п╣я─п╫я▀п╧ я─п╬я│я┌ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-п╪п╟п╧п╬я─п╟ (п©я─п╬п╦п╥п╡п╣п╢п╣п╫ п╥п╟ п╬я┌п╩п╦я┤п╦п╣ п╡ 1899 пЁ.)4, п╢п╬я│я┌п╦пЁя┬п╣пЁп╬ п╡я│п╣пЁп╬ п╥п╟ п©п╬п╩я┌п╬я─п╟ пЁп╬п╢п╟ п©п╬я│я┌п╟ я┌п╬п╡п╟я─п╦я┴п╟ (п©п╬п╪п╬я┴п╫п╦п╨п╟) п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟ п╦п╪п©п╣я─п╦п╦. п▓ я█я┌п╬п╧ п╢п╬п╩п╤п╫п╬я│я┌п╦ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡я┐ п©я─п╦я┘п╬п╢п╦п╩п╬я│я▄ п╬п╠я▀я┤п╫п╬ п╡я▀я│я┌я┐п©п╟я┌я▄ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╦я┌п╣п╩п╣п╪ п▓п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╟ п╡ п╥п╟п╨п╬п╫п╬п╢п╟я┌п╣п╩я▄п╫я▀я┘ я┐я┤я─п╣п╤п╢п╣п╫п╦я▐я┘. п²п╟я┤п╦п╫п╟я▐ я│ 1906 пЁ. пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩ я│п╠п╩п╦п╥п╦п╩я│я▐ я│ я┤п╩п╣п╫п╟п╪п╦ п╨п╬п╪п╦я│я│п╦п╦ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п╢я┐п╪я▀ п©п╬ п╬п╠п╬я─п╬п╫п╣, п╬я│п╬п╠п╣п╫п╫п╬ я│ п░.п≤. п⌠я┐я┤п╨п╬п╡я▀п╪ Б─⌠ п╬п╢п╫п╦п╪ п╦п╥ п╬я│п╫п╬п╡п╟я┌п╣п╩п╣п╧ п╦ п©я─п╣п╢я│п╣п╢п╟я┌п╣п╩п╣п╪ п╩п╦п╠п╣я─п╟п╩я▄п╫п╬-п╨п╬п╫я│п╣я─п╡п╟я┌п╦п╡п╫п╬п╧ п©п╟я─я┌п╦п╦ б╚п║п╬я▌п╥ 17 п╬п╨я┌я▐п╠я─я▐б╩. пёп╪, п╡я▀я│п╬п╨п╟я▐ я─п╟п╠п╬я┌п╬я│п©п╬я│п╬п╠п╫п╬я│я┌я▄, п╟ я┌п╟п╨п╤п╣ п╠п╩п╣я│я┌я▐я┴п╦п╣ п╟п╢п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟я┌п╦п╡п╫я▀п╣ п╫п╟п╡я▀п╨п╦ я│п©п╬я│п╬п╠я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦ п©п╬п©я┐п╩я▐я─п╫п╬я│я┌п╦ п░п╩п╣п╨я│п╣я▐ п░п╫п╢я─п╣п╣п╡п╦я┤п╟ п╡ я│я─п╣п╢п╣ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╦я┌п╣п╩п╣п╧ п■я┐п╪я▀ п╦ п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦. п▓ я│п╡п╬я▌ п╬я┤п╣я─п╣п╢я▄ я┌п╟п╨п╬п╣ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╣ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п╬п╠п╩п╣пЁя┤п╟п╩п╬ п©я─п╬п╡п╣п╢п╣п╫п╦п╣ п╥п╟п╨п╬п╫п╬п©я─п╬п╣п╨я┌п╬п╡, п╬п╢п╫п╟п╨п╬ п╡ п©я─п╦п╢п╡п╬я─п╫я▀я┘ п╨я─я┐пЁп╟я┘ п╡я▀п╥п╡п╟п╩п╬ п╬п╠п╡п╦п╫п╣п╫п╦я▐ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡п╟ п╡ б╚п╩п╣п╡п╦п╥п╫п╣б╩.
п╖п╣п╪ п╠п╩п╦п╤п╣ п╬п╫ я│я┌п╟п╫п╬п╡п╦п╩я│я▐ п╨ п░.п≤. п⌠я┐я┤п╨п╬п╡я┐, я┌п╣п╪ п╢п╟п╩я▄я┬п╣ п╬я┌я│я┌я─п╟п╫я▐п╩ п╣пЁп╬ п╫п╟ п╥п╟п╢п╫п╦п╧ п©п╩п╟п╫ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╧ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩ п▓.п░. п║я┐я┘п╬п╪п╩п╦п╫п╬п╡. п▓ п╨п╬п╫я├п╣ п╨п╬п╫я├п╬п╡, п╡ 1912 пЁ. я┌п╬п╡п╟я─п╦я┴ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟ п╠я▀п╩ п╬я┌я│я┌я─п╟п╫п╣п╫ п╬я┌ п╥п╟п╫п╦п╪п╟п╣п╪п╬п╧ п╢п╬п╩п╤п╫п╬я│я┌п╦ я│ п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╣п╪ я┤п╩п╣п╫п╬п╪ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬пЁп╬ я│п╬п╡п╣я┌п╟. п·я│п╫п╬п╡п╫п╬п╧ п©я─п╦я┤п╦п╫п╬п╧ п©п╬я│п╩я┐п╤п╦п╩ я│п╨п╟п╫п╢п╟п╩, я─п╟п╥п╢я┐я┌я▀п╧ п⌠я┐я┤п╨п╬п╡я▀п╪ п©я─п╦ я│п╬п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╦ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡п╟ п╡п╬п╨я─я┐пЁ п╤п╟п╫п╢п╟я─п╪я│п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╢п©п╬п╩п╨п╬п╡п╫п╦п╨п╟ п║.п². п°я▐я│п╬п╣п╢п╬п╡п╟ я│ я├п╣п╩я▄я▌ п©я─п╬п©п╟пЁп╟п╫п╢я▀ б╚п╥п╟я│п╩я┐пЁб╩ п╬п╨я┌я▐п╠я─п╦я│я┌п╬п╡ п╡ п╢п╣п╩п╣ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀, п╢п╦я│п╨я─п╣п╢п╦я┌п╟я├п╦п╦ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟ п╦ п©п╬я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╣п╧ п╣пЁп╬ п╥п╟п╪п╣п╫я▀ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩п╬п╪ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡я▀п╪. п▓ 1912 пЁ. я█я┌п╟ п╦п╫я┌я─п╦пЁп╟ п©я─п╬п╡п╟п╩п╦п╩п╟я│я▄, п╫п╬ п╡п╬ п╡я─п╣п╪я▐ п╡п╬п╧п╫я▀ я┐ п╣п╣ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡ п©п╬я▐п╡п╦п╩я│я▐ я┬п╟п╫я│ п╢п╬п╠п╦я┌я▄я│я▐ я─п╣п╡п╟п╫я┬п╟5.
п▓ 1915 пЁ. п╡я▀я▐п╡п╦п╡я┬п╦п╧я│я▐ п╬я│я┌я─я▀п╧ п╫п╣п╢п╬я│я┌п╟я┌п╬п╨ п╠п╬п╣п╡п╬пЁп╬ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫п╦я▐ п╦ п╢я─я┐пЁп╦п╣ п╫п╣п╢п╬я┤п╣я┌я▀ п▓п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╟ я│я┌п╟п╩п╦ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╬п╪ я┐я│п╦п╩п╣п╫п╫п╬п╧ п╨я─п╦я┌п╦п╨п╦ п╢я┐п╪я│п╨п╦я┘ п╩п╦п╠п╣я─п╟п╩п╬п╡, я┐п©я─п╣п╨п╟п╡я┬п╦я┘ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╣ п╦ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀п╣ я│я┌я─я┐п╨я┌я┐я─я▀ п╡ п╨п╬я─я─я┐п©я├п╦п╦ п╦ п╫п╣я│п©п╬я│п╬п╠п╫п╬я│я┌п╦ п╫п╟п╩п╟п╢п╦я┌я▄ п╢п╣п╩п╬. п÷п╣я─я│п╬п╫п╟п╩я▄п╫п╟я▐ п╤п╣ п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬я│я┌я▄ п╡п╬п╥п╩п╟пЁп╟п╩п╟я│я▄ п╫п╟ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟ п▓.п░. п║я┐я┘п╬п╪п╩п╦п╫п╬п╡п╟.

п÷п╬п╪п╬я┴п╫п╦п╨ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-п╩п╣п╧я┌п╣п╫п╟п╫я┌ п░.п░. п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡ п╦ я┌п╬п╡п╟я─п╦я┴ п╪п╬я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟ п╡п╦я├п╣-п╟п╢п╪п╦я─п╟п╩ п≤.п . п⌠я─п╦пЁп╬я─п╬п╡п╦я┤. 1910 пЁ.
п▓ п╫п╟я┤п╟п╩п╣ п╪п╟я▐ п©я─п╣п╢я│п╣п╢п╟я┌п╣п╩я▌ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п╢я┐п╪я▀ п°.п▓. п═п╬п╢п╥я▐п╫п╨п╬ я┐п╢п╟п╩п╬я│я▄ п╢п╬п╠п╦я┌я▄я│я▐ п╬я┌ п²п╦п╨п╬п╩п╟я▐ II п╬я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╩п╣п╫п╦я▐ п©я─п╣п╢п╩п╬п╤п╣п╫п╦я▐ я┌п╬я─пЁп╬п╡п╬-п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫я▀я┘ п╨я─я┐пЁп╬п╡ п©п╬ я│п╬п╥п╢п╟п╫п╦я▌ п·я│п╬п╠п╬пЁп╬ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦я▐ п©п╬ п╬п╠п╬я─п╬п╫п╣ п©п╬п╢ п©я─п╣п╢я│п╣п╢п╟я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╬п╪ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟6. п╜я┌п╟ п╦п╫п╦я├п╦п╟я┌п╦п╡п╟ п╠я▀п╩п╟ п╫п╣п╪п╣п╢п╩п╣п╫п╫п╬ п©п╬п╢п╢п╣я─п╤п╟п╫п╟ п▓п╣я─я┘п╬п╡п╫я▀п╪ пЁп╩п╟п╡п╫п╬п╨п╬п╪п╟п╫п╢я┐я▌я┴п╦п╪ Б─⌠ п╡п╣п╩п╦п╨п╦п╪ п╨п╫я▐п╥п╣п╪ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╪ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╡п╦я┤п╣п╪, я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ п╥п╟п╢я┐п╪п╟п╫п╫п╬п╣ п║п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦п╣ п╢п╬п╩п╤п╫п╬ п╠я▀п╩п╬ я│я┌п╟я┌я▄ я│п╡я▐п╥я┐я▌я┴п╦п╪ я├п╣п╫я┌я─п╬п╪ п╪п╣п╤п╢я┐ п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀п╪п╦ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я├п╦я▐п╪п╦, п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╧ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌я▄я▌ п╦ я└я─п╬п╫я┌п╬п╪ (я┌. п╣. п⌠п╩п╟п╡п╨п╬п╡п╣я─я┘п╬п╪).
п▒п╩п╦п╤п╟п╧я┬п╦п╧ я│п╬я┌я─я┐п╢п╫п╦п╨ п©я─п╣п╢я│п╣п╢п╟я┌п╣п╩я▐ п⌠п╬я│п╢я┐п╪я▀ п╞.п▓. п⌠п╩п╦п╫п╨п╟ п╡ я│п╡п╬п╣п╪ п╢п╫п╣п╡п╫п╦п╨п╣ п╬я┌п╪п╣я┤п╟п╩, я┤я┌п╬ б╚п║я┐я┘п╬п╪п╩п╦п╫п╬п╡ я│п©п╣я─п╡п╟ п©я─п╬я┌п╦п╡п╬п╢п╣п╧я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩ я┐я┌п╡п╣я─п╤п╢п╣п╫п╦я▌ я█я┌п╬пЁп╬ п║п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦я▐, п©п╬я┌п╬п╪ я┐я┘п╡п╟я┌п╦п╩я│я▐ п╥п╟ п╫п╣пЁп╬, п╢я┐п╪п╟я▐ я┌п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╪ я┐п©я─п╬я┤п╦я┌я▄Б─╕ я│п╡п╬п╣ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╣б╩7. 14 п╪п╟я▐ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩ п║я┐я┘п╬п╪п╩п╦п╫п╬п╡ п╡п╫п╣я│ п╡ п║п╬п╡п╣я┌ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╬п╡ п©я─п╬п╣п╨я┌ п÷п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦я▐ п╬п╠ п·я│п╬п╠п╬п╪ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦п╦.
п║п╬п╥п╢п╟п╫п╦п╣ б╚п·я│п╬п╠п╬пЁп╬ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦я▐ п╢п╩я▐ п╬п╠я┼п╣п╢п╦п╫п╣п╫п╦я▐ п╪п╣я─п╬п©я─п╦я▐я┌п╦п╧ п©п╬ я┐я│п╦п╩п╣п╫п╦я▌ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫п╦я▐ п╢п╣п╧я│я┌п╡я┐я▌я┴п╣п╧ п╟я─п╪п╦п╦ пЁп╩п╟п╡п╫п╣п╧я┬п╦п╪п╦ п╡п╦п╢п╟п╪п╦ п╢п╬п╡п╬п╩я▄я│я┌п╡п╦я▐б╩, пЁп╢п╣ п©я─п╣п╢я│п╣п╢п╟я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩ п║я┐я┘п╬п╪п╩п╦п╫п╬п╡, п╣я┴п╣ п╠п╬п╩п╣п╣ п╬п╠п╬я│я┌я─п╦п╩п╬ п╢п╟п╡п╫п╦п╣ п©я─п╬я┌п╦п╡п╬я─п╣я┤п╦я▐ п╪п╣п╤п╢я┐ п╫п╦п╪ п╦ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╪ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╡п╦я┤п╣п╪, п©п╬я│п╨п╬п╩я▄п╨я┐ п©п╬я│п╩п╣п╢п╫п╦п╧ я│я┌я─п╣п╪п╦п╩я│я▐ п╨ я┌п╬я┌п╟п╩я▄п╫п╬п╪я┐ п©п╬п╢я┤п╦п╫п╣п╫п╦я▌ я│п╣п╠п╣ я┌я▀п╩п╟ п╟я─п╪п╦п╦. п÷п╩п╟п╫я▀ п║я┌п╟п╡п╨п╦ п╠я▀п╩п╦ я─п╣я┬п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪п╦ Б─⌠ я┌п╟п╪ п╦я│п╨п╟п╩п╦ п╬п©п╬я─я▀ п╡ п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦, п©я─п╦я┤п╣п╪ п╦п╫п╬пЁп╢п╟ я█я┌п╬я┌ п©п╬п╦я│п╨ я│п╩п╟п╠п╬ п╪п╟я│п╨п╦я─п╬п╡п╟п╩я│я▐ я│п╬п╬п╠я─п╟п╤п╣п╫п╦я▐п╪п╦ я┌п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╟8. п▓ п╦я┌п╬пЁп╣, п▓п╣я─я┘п╬п╡п╫я▀п╧ пЁп╩п╟п╡п╫п╬п╨п╬п╪п╟п╫п╢я┐я▌я┴п╦п╧ я│я┐п╪п╣п╩ п╢п╬п╠п╦я┌я▄я│я▐ п╬я┌я│я┌п╟п╡п╨п╦ п║я┐я┘п╬п╪п╩п╦п╫п╬п╡п╟, я│п╨п╬п╪п©я─п╬п╪п╣я┌п╦я─п╬п╡п╟п╡ п╣пЁп╬ б╚я┬п©п╦п╬п╫я│п╨п╦п╪б╩ п╪я▐я│п╬п╣п╢п╬п╡я│п╨п╦п╪ б╚п╢п╣п╩п╬п╪б╩, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ п╠я▀п╩п╬ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╬п╡п╟п╫п╬ п©я─п╦ я│п╦п╩я▄п╫п╣п╧я┬п╣п╪ п╢п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╦ п╫п╟ я│я┐п╢ я│п╬ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ п╡п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬ п╨п╫я▐п╥я▐ п╦ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩п╟ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡п╟. б╚п■п╬п╡п╣я─п╦п╣ п╨ п║я┐я┘п╬п╪п╩п╦п╫п╬п╡я┐ п╬п╨п╬п╫я┤п╟я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п©п╬п╢я─я▀п╡п╟п╩п╬я│я▄, пЁп╬п╡п╬я─п╦п╩п╦ п╢п╟п╤п╣ п╬п╠ п╦п╥п╪п╣п╫п╣. п²п╣п©п╬п╨п╬п╩п╣п╠п╦п╪п╬п╧ п╬я│я┌п╟п╡п╟п╩п╟я│я▄ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╡п╣я─п╟ п╡ п╡п╣я─я┘п╬п╡п╫п╬пЁп╬ пЁп╩п╟п╡п╫п╬п╨п╬п╪п╟п╫п╢я┐я▌я┴п╣пЁп╬ п╡. п╨. п²п╦п╨п╬п╩п╟я▐ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╡п╦я┤п╟б╩, Б─⌠ п╡я│п©п╬п╪п╦п╫п╟п╩ п°.п▓. п═п╬п╢п╥я▐п╫п╨п╬9.
п÷я─п╦ п©п╬п╢п╢п╣я─п╤п╨п╣ п▓п╣я─я┘п╬п╡п╫п╬пЁп╬ пЁп╩п╟п╡п╫п╬п╨п╬п╪п╟п╫п╢я┐я▌я┴п╣пЁп╬ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡ п╫п╟п╥п╫п╟я┤п╣п╫ я│п╫п╟я┤п╟п╩п╟ я┐п©я─п╟п╡п╩я▐я▌я┴п╦п╪ п▓п╬п╣п╫п╫я▀п╪ п╪п╦п╫п╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╬п╪, п╟ я│ 10 я│п╣п╫я┌я▐п╠я─я▐ 1915 пЁ. п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╪ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╬п╪, п╡п╬п╥пЁп╩п╟п╡п╦п╡я┬п╦п╪ п©п╬ п╢п╬п╩п╤п╫п╬я│я┌п╦ п·я│п╬п╠п╬п╣ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦п╣ п©п╬ п╬п╠п╬я─п╬п╫п╣ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╟. п▓ п║я┌п╟п╡п╨п╣ п╩п╦п╨п╬п╡п╟п╩п╦, я┌п╟п╪ я┐п╤п╣ п╬я┌п╨я─я▀я┌п╬ п╬п╠я│я┐п╤п╢п╟п╩п╦я│я▄ п©п╬п╢я─п╬п╠п╫п╬я│я┌п╦ п╫п╬п╡п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╦я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╨я┐я─я│п╟ б╚п╫п╟ п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬я│я┌я▄б╩, п©я─п╦п╫я▐я┌п╬пЁп╬ п©п╬ п╫п╟я│я┌п╬я▐п╫п╦я▌ п⌠п╩п╟п╡п╨п╬п╡п╣я─я┘п╟10. п■я┐п╪я│п╨п╦п╣ п╢я─я┐п╥я▄я▐ п░п╩п╣п╨я│п╣я▐ п░п╫п╢я─п╣п╣п╡п╦я┤п╟ я─п╣п╨п╩п╟п╪п╦я─п╬п╡п╟п╩п╦ п╫п╬п╡п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟ п╨п╟п╨ п╠п╣п╥я┐п©я─п╣я┤п╫п╬ я┤п╣я│я┌п╫п╬пЁп╬ п╦ п©я─п╦п╫я├п╦п©п╦п╟п╩я▄п╫п╬пЁп╬ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟, п©я─п╦п©п╦я│я▀п╡п╟я▐ п╣п╪я┐ п╡я│п╣ п©п╬п╩п╬п╤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╣, я┤я┌п╬ п╠я▀п╩п╬ я│п╢п╣п╩п╟п╫п╬ п╡ п╟я─п╪п╦п╦ п╡ п©я─п╣п╢п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╣ пЁп╬п╢я▀. п°п╦п╫п╦я│я┌я─ п╦п╫п╬я│я┌я─п╟п╫п╫я▀я┘ п╢п╣п╩ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╦п╪п©п╣я─п╦п╦ п║.п■. п║п╟п╥п╬п╫п╬п╡ п╬я┌п╪п╣я┤п╟п╩, я┤я┌п╬ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╟ п©п╬п╩п╦я┌п╦п╨п╟ п╠я▀п╩п╦ п╡ п╡я▀я│я┬п╣п╧ я│я┌п╣п©п╣п╫п╦ п©я─п╦я│я┐я┴п╦ п╩п╦я┤п╫п╬я│я┌п╦ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡п╟: б╚п≈п╫п╟я▌я┴п╦п╧ я│п╣п╠п╣ я├п╣п╫я┐ п╦ я┤п╣я│я┌п╬п╩я▌п╠п╦п╡я▀п╧, п╬п╫ я│ п╫п╣я┌п╣я─п©п╣п╫п╦п╣п╪ п╬п╤п╦п╢п╟п╩ п╠п╩п╟пЁп╬п©я─п╦я▐я┌п╫п╬п╧ п╪п╦п╫я┐я┌я▀, я┤я┌п╬п╠я▀ п╡я▀п╢п╡п╦п╫я┐я┌я▄я│я▐ п╫п╟ п©п╣я─п╡я▀п╧ п©п╩п╟п╫ п╦ п╥п╟п╫я▐я┌я▄ п©п╬п╢п╬п╠п╟п╡я┬п╣п╣ п╣п╪я┐ п╪п╣я│я┌п╬. п÷п╬ я┐п╠п╣п╤п╢п╣п╫п╦я▐п╪ я│п╡п╬п╦п╪ п╬п╫ п©я─п╦п╪я▀п╨п╟п╩ п╨ п╩п╦п╠п╣я─п╟п╩я▄п╫я▀п╪ п©п╟я─я┌п╦я▐п╪б╩11. п÷п╬п╢п╬п╠п╫п╟я▐ п╥п╟п╪п╣п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ я▐п╡п╫п╬п╧ я┐я│я┌я┐п©п╨п╬п╧ п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦, я┌п╣п╪ п╠п╬п╩п╣п╣ п╬п╤п╦п╢п╟п╩п╬я│я▄ я│п╨п╬я─п╬п╣ п╬я┌п╨я─я▀я┌п╦п╣ я┤п╣я┌п╡п╣я─я┌п╬п╧ я│п╣я│я│п╦п╦ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п╢я┐п╪я▀ IV я│п╬п╥я▀п╡п╟, п╦ п╠я▀п╩п╬ п╬я┤п╣п╡п╦п╢п╫п╬, я┤я┌п╬ п╢п╣я▐я┌п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌я▄ п║я┐я┘п╬п╪п╩п╦п╫п╬п╡п╟ Б─⌠ п©я─п╣п╢п╟п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╬п╫п╟я─я┘п╦я│я┌п╟ п╦ п╢п╬п╡п╣я─п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╩п╦я├п╟ п╦п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─п╟ Б─⌠ п╠я▀п╩п╟ п╠я▀ п©п╬п╢п╡п╣я─пЁп╫я┐я┌п╟ п╡ п╫п╣п╧ п╠п╣я│п©п╬я┴п╟п╢п╫п╬п╧ п╨я─п╦я┌п╦п╨п╣.
п÷п╬я┤я┌п╦ я│я─п╟п╥я┐ п╤п╣ п©п╬ п╡я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╦ п╡ п╢п╬п╩п╤п╫п╬я│я┌я▄ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╧ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─ п╥п╟я▐п╡п╦п╩ я└я─п╟п╫я├я┐п╥я│п╨п╬п╪я┐ п©п╬я│п╩я┐ п√.п°. п÷п╟п╩п╣п╬п╩п╬пЁя┐ п╬ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ я─я┐я│я│п╨п╦п╣ я│п╪п╬пЁя┐я┌ я│п╫п╬п╡п╟ п╫п╟я┤п╟я┌я▄ п╢п╡п╦пЁп╟я┌я▄я│я▐ п╡п©п╣я─п╣п╢ я┐п╤п╣ б╚п╨ п╨п╬п╫я├я┐ п╢п╣п╨п╟п╠я─я▐б╩12. п÷п╬я─п╟п╤п╣п╫п╦я▐ п═п╬я│я│п╦п╦ п╡ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╧ п╨п╟п╪п©п╟п╫п╦п╦ 1915 пЁ. п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ п╬п╠п╣я│п╨я─п╬п╡п╦п╩п╦ я─я┐я│я│п╨я┐я▌ п╟я─п╪п╦я▌. п÷п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╢п╩я▐ п╡я▀п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦я▐ я┌п╟п╨п╦я┘ пЁя─п╬п╪п╬пЁп╩п╟я│п╫я▀я┘ п╥п╟я▐п╡п╩п╣п╫п╦п╧ я┌я─п╣п╠п╬п╡п╟п╩п╬я│я▄ п©я─п╦п╡п╣я│я┌п╦ п╡ п╫п╟п╢п╩п╣п╤п╟я┴п╣п╣ я│п╬я│я┌п╬я▐п╫п╦п╣ я│п╦я│я┌п╣п╪я┐ п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╨п╦ п╦ п©п╬п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦я▐ п╩п╦я┤п╫п╬пЁп╬ я│п╬я│я┌п╟п╡п╟. п╖я┌п╬п╠я▀ п╬п╠п╣я│п©п╣я┤п╦я┌я▄ п©я─п╦п╥я▀п╡п╟п╣п╪я▀п╧ п╨п╬п╫я┌п╦п╫пЁп╣п╫я┌ п╦ п■п╣п╧я│я┌п╡я┐я▌я┴я┐я▌ п╟я─п╪п╦я▌ п╡я│п╣п╪ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪я▀п╪, я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╩п╬ я─п╟п╥я─п╣я┬п╦я┌я▄ п©я─п╬п╠п╩п╣п╪я▀ п©п╩п╬я┘п╬пЁп╬ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▄п╫п╬-я┌п╣я┘п╫п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╬п╠п╣я│п©п╣я┤п╣п╫п╦я▐ п╡п╬п╧я│п╨, п╫п╣я┘п╡п╟я┌п╨п╦ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╦ б╚я│п╫п╟я─я▐п╢п╫п╬пЁп╬ пЁп╬п╩п╬п╢п╟б╩.

п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╦п╧ п©п╬п╩п╦я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╢п╣я▐я┌п╣п╩я▄ п░.п≤. п⌠я┐я┤п╨п╬п╡. 1910 пЁ.
п·я┌п╡п╣я┌п╬п╪ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡п╟ я│я┌п╟п╩п╬ п©п╬п╢п╫я▐я┌п╦п╣ п©я─п╦п╥я▀п╡п╫я▀я┘ п╨п╡п╬я┌ п╦ п©я─п╦п╥я▀п╡ пЁя─я┐п©п© п╥п╟п©п╟я│п╫п╦п╨п╬п╡, п©я─п╣п╤п╢п╣ п╬я│п╡п╬п╠п╬п╤п╢п╣п╫п╫я▀я┘ п╬я┌ я│п╩я┐п╤п╠я▀ (п╣п╢п╦п╫я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀я┘ п╨п╬я─п╪п╦п╩я▄я├п╣п╡, я─п╟я┌п╫п╦п╨п╬п╡ II я─п╟п╥я─я▐п╢п╟ п╦ я┌. п╢.). п▓ я─п╣п╥я┐п╩я▄я┌п╟я┌п╣ п╥п╟ я│я─п╟п╡п╫п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п╨п╬я─п╬я┌п╨п╦п╧ я│я─п╬п╨ я─я┐я│я│п╨п╟я▐ п╟я─п╪п╦я▐ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╟ п╢п╬п©п╬п╩п╫п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п╬п╨п╬п╩п╬ п╢п╡я┐я┘ п╪п╦п╩п╩п╦п╬п╫п╬п╡ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨13.
п■я─я┐пЁп╬п╧ п╡п╬п©я─п╬я│, п╫п╟я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫я▀п╪п╦ п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╦я│я▄ п©п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫я▀п╣ п©п╬п╢ я─я┐п╤я▄п╣ п╫п╬п╡п╬п╠я─п╟п╫я├я▀, п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╢п╟п╤п╣ я│я┌п╟п╩п╦ п╫п╟п╥я▀п╡п╟я┌я▄ б╚п©п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡я├п╟п╪п╦б╩? п║п©п╣я├п╦п╟п╩п╦я│я┌ п©п╬ я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦ пё. п╓я┐п╩п╩п╣я─ я│п©я─п╟п╡п╣п╢п╩п╦п╡п╬ п╥п╟п╪п╣я┤п╟п╣я┌, я┤я┌п╬ п╢п╟п╩п╣п╨п╬ п╫п╣ п╡я│п╣ п╠я▀п╩п╦ п╡ я┘п╬я─п╬я┬п╣п╧ я└п╦п╥п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ я└п╬я─п╪п╣, я┐я┤п╦я┌я▀п╡п╟я▐ я┐п╡п╣п╩п╦я┤п╣п╫п╫я▀п╧ п©я─п╦п╥я▀п╡п╫п╬п╧ п╡п╬п╥я─п╟я│я┌; п╠п╬п╩п╣п╣ я┌п╬пЁп╬, п©я┐я┌я▄ п╬я┌ п©я─п╦п╥я▀п╡п╫п╬пЁп╬ п©я┐п╫п╨я┌п╟ п╢п╬ п╪п╟я─я┬п╣п╡п╬п╧ я─п╬я┌я▀ п╦ п╢п╟п╩п╣п╣ п╡ п╬п╨п╬п©я▀ п╫п╟ п©п╣я─п╣п╢п╬п╡я┐я▌ п╠я▀п╩ я│я┌п╬п╩я▄ я│я┌я─п╣п╪п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪, я┤я┌п╬ п╫п╬п╡я▀п╣ я─п╣п╨я─я┐я┌я▀ я┐я│п©п╣п╡п╟п╩п╦ п©я─п╬п╧я┌п╦ п╩п╦я┬я▄ п©п╣я─п╡п╦я┤п╫я┐я▌ п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╨я┐14. п║п╩п╬п╤п╦п╡я┬я┐я▌я│я▐ я│п╦я┌я┐п╟я├п╦я▌ я┐я│я┐пЁя┐п╠п╩я▐п╩ п╬я│я┌я─я▀п╧ п╫п╣п╢п╬я│я┌п╟я┌п╬п╨ я┐п╫я┌п╣я─п╬я└п╦я├п╣я─п╬п╡ п╦ п╬я└п╦я├п╣я─п╬п╡ Б─⌠ п╥п╟ п©п╣я─п╡я▀п╧ пЁп╬п╢ п╡п╬п╧п╫я▀ п╡я▀п╠я▀п╩ п╦п╥ я│я┌я─п╬я▐ п╣п╢п╡п╟ п╩п╦ п╫п╣ п╡п╣я│я▄ п╨п╟п╢я─п╬п╡я▀п╧ п╬я└п╦я├п╣я─я│п╨п╦п╧ я│п╬я│я┌п╟п╡15. п∙я│я┌п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬, я┤я┌п╬ п╡ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡п╦п╣ п╨п╬п╪п©п╣я┌п╣п╫я┌п╫я▀я┘ п╦п╫я│я┌я─я┐п╨я┌п╬я─п╬п╡ п╫п╬п╡я▀п╣ я─п╣п╨я─я┐я┌я▀ п╦ п╫п╟ я└я─п╬п╫я┌п╣ п╪п╟п╩п╬ я┤п╣п╪я┐ п╪п╬пЁп╩п╦ п╫п╟я┐я┤п╦я┌я▄я│я▐.
п║п╩п╣п╢я┐п╣я┌ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ я│п╦я┌я┐п╟я├п╦я▐ я│ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╪ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫п╦п╣п╪, п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╧ п╟п╪я┐п╫п╦я├п╦п╣п╧ я┌п╟п╨п╤п╣ я┐п╩я┐я┤я┬п╦п╩п╟я│я▄. п▓п╬п╥пЁп╩п╟п╡п╦п╡ п·я│п╬п╠п╬п╣ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦п╣ п©п╬ п╬п╠п╬я─п╬п╫п╣, п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡ я│я─п╟п╥я┐ п╤п╣ я─п╟я│я┬п╦я─п╦п╩ п╣пЁп╬ я│п╬я│я┌п╟п╡, п╢п╣п╩п╟я▐ я┐п©п╬я─ п╫п╟ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╦я┌п╣п╩п╣п╧ б╚п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╟б╩, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ п╦ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ я┤я┌п╬ п╡п╬п╥п╫п╦п╨я┬п╣п╣ п╢п╣я┌п╦я┴п╣ п░.п≤. п⌠я┐я┤п╨п╬п╡п╟ Б─⌠ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫я▀п╧ п╨п╬п╪п╦я┌п╣я┌.
п▓ п╟п╡пЁя┐я│я┌п╣ 1915 пЁ. я─п╟п╠п╬я┌п╟п╩п╬ я┐п╤п╣ п©я▐я┌я▄ п·я│п╬п╠я▀я┘ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦п╧ Б─⌠ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀я┘ я┐я┤я─п╣п╤п╢п╣п╫п╦п╧ п╢п╩я▐ я─я┐п╨п╬п╡п╬п╢я│я┌п╡п╟ я─п╟п╥п╩п╦я┤п╫я▀п╪п╦ п╬я┌я─п╟я│п╩я▐п╪п╦ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╧ я█п╨п╬п╫п╬п╪п╦п╨п╦. п·п╫п╦ п╦п╪п╣п╩п╦ п╪п╫п╬пЁп╬я┤п╦я│п╩п╣п╫п╫я▀п╣ п╨п╬п╪п╦я┌п╣я┌я▀ п╦ п╨п╬п╪п╦я│я│п╦п╦, п╟ я┌п╟п╨п╤п╣ я│п╡п╬п╦я┘ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╦я┌п╣п╩п╣п╧ п╫п╟ п╪п╣я│я┌п╟я┘. п÷я─п╦ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪п╬я│я┌п╦ я│п╬пЁп╩п╟я│п╬п╡п╟п╫п╦я▐ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ п╡я│п╣я┘ п║п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦п╧ я│п╬п╠п╦я─п╟п╩п╦я│я▄ п╬п╠я┼п╣п╢п╦п╫п╣п╫п╫я▀п╣ п╥п╟я│п╣п╢п╟п╫п╦я▐ п©п╬п╢ п©я─п╣п╢я│п╣п╢п╟я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╬п╪ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟16.
п╒п╣п©п╣я─я▄, п©п╬ п©я─п╦п╪п╣я─я┐ п╢я─я┐пЁп╦я┘ п╡п╬я▌я▌я┴п╦я┘ я│я┌я─п╟п╫, я█п╨п╬п╫п╬п╪п╦п╨п╟ (п╦ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ п╡я│я▐ я┌я▐п╤п╣п╩п╟я▐ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌я▄) я│я┌я─п╟п╫я▀ п╠я▀п╩п╟ я│п╬я│я─п╣п╢п╬я┌п╬я┤п╣п╫п╟ п╫п╟ я┐п╢п╬п╡п╩п╣я┌п╡п╬я─п╣п╫п╦п╦ п©п╬я┌я─п╣п╠п╫п╬я│я┌п╣п╧ п╟я─п╪п╦п╦. п п╨п╬п╫я├я┐ 1916 пЁ. 1800 я└п╟п╠я─п╦п╨ п╦ п╥п╟п╡п╬п╢п╬п╡ п╠я▀п╩п╦ п╥п╟п╫я▐я┌я▀ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п╡ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╪ п©я─п╬п╦п╥п╡п╬п╢я│я┌п╡п╣; 604 п╦п╥ п╫п╦я┘ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩я▐п╩п╦ п╠п╬п╣п©я─п╦п©п╟я│я▀, п©я─п╦я┤п╣п╪ п╥п╟ пЁп╬п╢ я│я┌п╬п╦п╪п╬я│я┌я▄ п╦я┘ п©я─п╬п╢я┐п╨я├п╦п╦ (я│ я┐я┤п╣я┌п╬п╪ п╦п╫я└п╩я▐я├п╦п╦) я┐я┌я─п╬п╦п╩п╟я│я▄17. п▓ 1916 пЁ. п╬я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌я▄я▌ п╠я▀п╩п╬ п©я─п╬п╦п╥п╡п╣п╢п╣п╫п╬ 3721 я┌я─п╣я┘п╢я▌п╧п╪п╬п╡п╬п╣ п╬я─я┐п╢п╦п╣, п©п╬ я│я─п╟п╡п╫п╣п╫п╦я▌ я│ 1349 п╡ 1915 пЁ. п║я┌п╬п╩я▄ п╤п╣ п╡п©п╣я┤п╟я┌п╩я▐я▌я┴п╦п╣ я─п╣п╥я┐п╩я▄я┌п╟я┌я▀ п╠я▀п╩п╦ п╢п╬я│я┌п╦пЁп╫я┐я┌я▀ п╡ п©я─п╬п╦п╥п╡п╬п╢я│я┌п╡п╣ я│п╫п╟я─я▐п╢п╬п╡ Б─⌠ п╡ 1915 пЁ. я│ п╨п╬п╫п╡п╣п╧п╣я─п╬п╡ я│п╬я┬п╩п╬ п©п╬я┤я┌п╦ 10 п╪п╩п╫ я┬я┌я┐п╨, п╦ п©п╬я┤я┌п╦ 31 п╪п╩п╫ п╡ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╣п╪ пЁп╬п╢я┐18.
п⌠п╬п╡п╬я─я▐ п╬ п╫п╣п╢п╬я│я┌п╟я┌п╨п╟я┘ п╟п©п©п╟я─п╟я┌п╟ п·я│п╬п╠я▀я┘ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦п╧, я│п╩п╣п╢я┐п╣я┌ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄ п╣пЁп╬ пЁя─п╬п╪п╬п╥п╢п╨п╬я│я┌я▄. б╚п║п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦п╣ п╠я▀п╩п╬ я│п╩п╦я┬п╨п╬п╪ п╪п╫п╬пЁп╬пЁп╬п╩п╬п╡я▀п╪, я┤я┌п╬п╠я▀ п╠я▀я┌я▄ я─п╟п╠п╬я┤п╦п╪ п╦ п╢п╬я│я┌п╟я┌п╬я┤п╫п╬ п©я─п╬п╢я┐п╨я┌п╦п╡п╫я▀п╪: 50Б─⌠60 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨, п╢п╟ п╣я┴п╣ я┌п╟п╨п╬пЁп╬ я─п╟п╥п╫п╬я┬п╣я─я│я┌п╫п╬пЁп╬ я│п╬я│я┌п╟п╡п╟б╩, Б─⌠ п╡я│п©п╬п╪п╦п╫п╟п╩ п╠я▀п╡я┬п╦п╧ п╫п╟я┤п╟п╩я▄п╫п╦п╨ п⌠п╩п╟п╡п╫п╬пЁп╬ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ я┐п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦я▐ (п⌠п░пё) пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩ п░.п░. п°п╟п╫п╦п╨п╬п╡я│п╨п╦п╧19. п я┌п╬п╪я┐ п╤п╣ я─п╟п╠п╬я┌п╟ п║п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦п╧ п╥п╟я┌я─я┐п╢п╫я▐п╩п╟я│я▄ я│п╩п╬п╤п╫п╬п╧ я│п╦я│я┌п╣п╪п╬п╧ п©я─п╬я┘п╬п╤п╢п╣п╫п╦я▐ п╢п╣п╩ п╦ п╡п╥п╟п╦п╪п╬п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐ я│ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╪ п╡п╣п╢п╬п╪я│я┌п╡п╬п╪.
п▓ я─п╣п╥я┐п╩я▄я┌п╟я┌п╣ я█я┌п╟ я│п╦я│я┌п╣п╪п╟ п╫п╣ п©я─п╦п╡п╣п╩п╟ п╫п╦ п╨ я─п╟я├п╦п╬п╫п╟п╩п╦п╥п╟я├п╦п╦, п╫п╦ п╨ я├п╣п╫я┌я─п╟п╩п╦п╥п╟я├п╦п╦ я█п╨п╬п╫п╬п╪п╦п╨п╦ п╦, п╫п╟п©я─п╬я┌п╦п╡, я│я┌п╟п╩п╟ п╦я│я┌п╬я┤п╫п╦п╨п╬п╪ п╢я┐п╠п╩п╦я─п╬п╡п╟п╫п╦я▐ я└я┐п╫п╨я├п╦п╧, п╥п╩п╬я┐п©п╬я┌я─п╣п╠п╩п╣п╫п╦п╧ п╦ п╫п╣п©я─п╬п╦п╥п╡п╬п╢п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀я┘ я─п╟я│я┘п╬п╢п╬п╡. п▓ я│п╡п╬п╣п╪ п╡п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╪ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╫п╦п╦ п∙.п≈. п▒п╟я─я│я┐п╨п╬п╡ я┌п╟п╨ п╬я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╦п╥п╬п╡п╟п╩ п╡я▀я┬п╣п╬п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╫я┐я▌ п©я─п╬п╠п╩п╣п╪я┐: б╚п▓п╬п╣п╫п╫я▀п╧ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─, п╨п╟п╨ п©я─п╣п╢я│п╣п╢п╟я┌п╣п╩я▄ п╬я│п╬п╠п╬пЁп╬ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦я▐, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ п╠я▀п╩п╬ п©я─п╦ п╫п╣п╪ п╩п╦я┬я▄ Б─°я│п╬п╡п╣я┴п╟я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪Б─² п╬я─пЁп╟п╫п╬п╪, я▐п╡п╩я▐п╩я│я▐ я▐п╨п╬п╠я▀ п©п╬п╩п╫я▀п╪ я┘п╬п╥я▐п╦п╫п╬п╪ п╢п╣п╩п╟, п╫п╬ п╫п╟ я│п╟п╪п╬п╪ п╢п╣п╩п╣, п╨п╟п╨ я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫п╦п╨ п╦п╫п╦я├п╦п╟я┌п╬я─п╬п╡ п╦ п╢я─я┐пЁп╦я┘ п╠п╬п╩п╣п╣ п╡п╩п╦я▐я┌п╣п╩я▄п╫я▀я┘ я┤п╩п╣п╫п╬п╡ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦я▐, п╬п╫ п╠я▀п╩ п©п╬я│п╩я┐я┬п╫я▀п╪ п╬я─я┐п╢п╦п╣п╪ п╡ п╦я┘ я─я┐п╨п╟я┘ п╦ п╬п╫п╦ п╢п╣п╩п╟п╩п╦, я┤я┌п╬ я┘п╬я┌п╣п╩п╦ п╦ я┤я┌п╬ я│я┐п╩п╦п╩п╬ п╦п╪ п╦п╥п╡п╩п╣я┤я▄ п©п╬п╠п╬п╩я▄я┬п╣ п╩п╦я┤п╫я▀я┘ п╡я▀пЁп╬п╢ п╦п╥ п╡п╬п╧п╫я▀.

п≈п╟я│п╣п╢п╟п╫п╦п╣ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п╢я┐п╪я▀. 1915 пЁ.
п·я│п╬п╠п╬п╣ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦п╣ я│п╬я│я┌п╬я▐п╩п╬ пЁп╩п╟п╡п╫я▀п╪ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╪ п╦п╥ я┌п╟п╨п╦я┘ Б─°п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀я┘ п╢п╣я▐я┌п╣п╩п╣п╧Б─², п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ я│я┌п╟п╡п╦п╩п╦ я│п╣п╠п╣ п╥п╟п╢п╟я┤я┐ Б─⌠ п╢п╬п╨п╟п╥п╟я┌я▄ п╡п╬ я┤я┌п╬ п╠я▀ я┌п╬ п╫п╦ я│я┌п╟п╩п╬, п╡п╬-п©п╣я─п╡я▀я┘, п©п╬п╩п╫я┐я▌ п╫п╣я│п╬я│я┌п╬я▐я┌п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌я▄ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╡п╣п╢п╬п╪я│я┌п╡п╟ п╡ п╢п╣п╩п╣ п╬п╠п╣я│п©п╣я┤п╣п╫п╦я▐ п╟я─п╪п╦п╦ п╠п╬п╣п©я─п╦п©п╟я│п╟п╪п╦, п╟ п╡п╬-п╡я┌п╬я─я▀я┘, я┤я┌п╬ Б─°я│п©п╟я│п╣п╫п╦п╣ я─п╬п╢п╦п╫я▀Б─² п╫п╟я┘п╬п╢п╦я┌я│я▐ п╡ п╦я┘ я─я┐п╨п╟я┘б╩20.
п■п╩я▐ п╬п©я┌п╦п╪п╟п╩я▄п╫п╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦ п╡ я┐я│п╩п╬п╡п╦я▐я┘ п÷п╣я─п╡п╬п╧ п╪п╦я─п╬п╡п╬п╧ п╡п╬п╧п╫я▀ я┌я─п╣п╠п╬п╡п╟п╩п╟я│я▄ я█п╨п╬п╫п╬п╪п╦я┤п╣я│п╨п╟я▐ п╢п╦п╨я┌п╟я┌я┐я─п╟, п╫п╬ п╡ я┬п╦я─п╬п╨п╦я┘ п╨я─я┐пЁп╟я┘ п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╟, п╨п╟п╨ п╦ п╡ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫я▀я┘ п╨я─я┐пЁп╟я┘, п╢п╟п╤п╣ я│п╟п╪п╟ я█я┌п╟ п╦п╢п╣я▐ п╡я▀п╥я▀п╡п╟п╩п╟ я─п╣п╥п╨п╬ п╬я┌я─п╦я├п╟я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╣ п╬я┌п╫п╬я┬п╣п╫п╦п╣. п▓ п╣п╤п╣пЁп╬п╢п╫п╦п╨п╣ пЁп╟п╥п╣я┌я▀ б╚п═п╣я┤я▄б╩ п╥п╟ 1915 пЁ. Б─⌠ я├п╣п╫я┌я─п╟п╩я▄п╫п╬п╪ п╬я─пЁп╟п╫п╣ п╨п╟п╢п╣я┌я│п╨п╬п╧ п©п╟я─я┌п╦п╦ Б─⌠ п╪п╣п╤п╢я┐ п©я─п╬я┤п╦п╪ п╥п╟я▐п╡п╩я▐п╩п╬я│я▄, я┤я┌п╬ б╚я│п╡п╬п╠п╬п╢п╫п╟я▐ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌я▄, п╬п©п╦я─п╟я▌я┴п╟я▐я│я▐ п╫п╟ п©я─п╦п╫я├п╦п©п╟я┘ п╩п╦я┤п╫п╬п╧ п╦п╫п╦я├п╦п╟я┌п╦п╡я▀ п╦ я│п╡п╬п╠п╬п╢п╫п╬п╧ п©я─п╣п╢п©я─п╦п╦п╪я┤п╦п╡п╬я│я┌п╦, я│п╨я─я▀п╡п╟п╣я┌ п╡ я│п╣п╠п╣ пЁп╬я─п╟п╥п╢п╬ п╠п╬п╩я▄я┬п╣ я┌п╡п╬я─я┤п╣я│п╨п╦я┘ я│п╦п╩, п╠п╬п╩п╣п╣ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀я┘, я┤п╣п╪ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌я▄, п╫п╟я┘п╬п╢я▐я┴п╟я▐я│я▐ п©п╬п╢ я─п╣п╤п╦п╪п╬п╪ п©я─п╦п╫я┐п╤п╢п╣п╫п╦я▐ п╦ п╡п╫п╣я┬п╫п╣п╧ я─п╣пЁп╩п╟п╪п╣п╫я┌п╟я├п╦п╦б╩21. п²п╟п╩п╦я├п╬ п╠я▀п╩п╟ я│п╩п╟п╠п╬я│я┌я▄ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п╡п╩п╟я│я┌п╦, п╡ я├п╣п╩п╬п╪, п╦ п╣п╣ я█п╨п╬п╫п╬п╪п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п©п╬п╩п╦я┌п╦п╨п╦, п╡ я┤п╟я│я┌п╫п╬я│я┌п╦, п╫п╣ п©п╬п╥п╡п╬п╩я▐п╡я┬п╟я▐ п╦п╥п╪п╣п╫п╦я┌я▄ я│п╨п╩п╟п╢я▀п╡п╟я▌я┴я┐я▌я│я▐ я┌п╣п╫п╢п╣п╫я├п╦я▌.
п п╬пЁп╢п╟ п╡ п╢п╣п╨п╟п╠я─п╣ 1914 пЁ. п╦ я└п╣п╡я─п╟п╩п╣ 1915 пЁ. п⌠п░пё п╦ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╧ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─ п▓.п░. п║я┐я┘п╬п╪п╩п╦п╫п╬п╡ п╡п╫п╬п╡я▄, п╨п╟п╨ п╦ п╡ п©п╣я─п╡я▀п╣ п╢п╫п╦ п╡п╬п╧п╫я▀, п╬п╠я─п╟я┌п╦п╩п╦я│я▄ п╡ п║п╬п╡п╣я┌ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╬п╡ я│ п©я─п╣п╢п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╣п╪ я┐я┌п╡п╣я─п╢п╦я┌я▄ п©я─п╬п╣п╨я┌ б╚п╬п╠ п╬я│п╬п╠п╬п╪ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╦б╩ п╡ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╧ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦, п©я─п╟п╡п╦я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╬ п╬п©я▐я┌я▄ п╫п╣ п©п╬п╢п╢п╣я─п╤п╟п╩п╬ п╣пЁп╬22. п▓ п╦я┌п╬пЁп╣ п║п╬п╡п╣я┌ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╬п╡ я┌я─п╦п╤п╢я▀ п╬я┌п╨п╩п╬п╫я▐п╩ п╥п╟п╨п╬п╫п╬п©я─п╬п╣п╨я┌ п╬ п╪п╦п╩п╦я┌п╟я─п╦п╥п╟я├п╦п╦ п╥п╟п╡п╬п╢п╬п╡, я─п╟п╠п╬я┌п╟п╡я┬п╦я┘ п╫п╟ п╬п╠п╬я─п╬п╫я┐. б╚п²п╣я│п╬п╪п╫п╣п╫п╫п╬, я┤я┌п╬ п╬п╫ п╠п╬я▐п╩я│я▐ я─п╟п╠п╬я┤п╦я┘. п╒п╟п╨ п╤п╣ я┌п╬я┤п╫п╬ п╬п╫ п╫п╣ я│п╪п╣п╩ п©п╬-п╫п╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╪я┐ п╠п╬я─п╬я┌я▄я│я▐ я│п╬ п╥п╩п╬я┐п©п╬я┌я─п╣п╠п╩п╣п╫п╦я▐п╪п╦ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╦п╨п╬п╡б╩, Б─⌠ п╥п╟п╨п╩я▌я┤п╟п╩ п╡ я│п╡п╬п╣п╪ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╫п╦п╦ п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫я▀п╧ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╧ я┌п╣п╬я─п╣я┌п╦п╨ п².п². п⌠п╬п╩п╬п╡п╦п╫23.
п▓ я├п╣п╩п╬п╪ п╫п╣п╩я▄п╥я▐ п╬я┌я─п╦я├п╟я┌я▄ п©п╬п╩п╬п╤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╧ я─п╬п╩п╦ я│п╬п╥п╢п╟п╫п╫я▀я┘ п·я│п╬п╠я▀я┘ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦п╧, п╡ п╬я│п╬п╠п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦ б╚п·я│п╬п╠п╬пЁп╬ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦я▐ п╢п╩я▐ п╬п╠я│я┐п╤п╢п╣п╫п╦я▐ п╦ п╬п╠я┼п╣п╢п╦п╫п╣п╫п╦я▐ п╪п╣я─п╬п©я─п╦я▐я┌п╦п╧ п©п╬ п╬п╠п╬я─п╬п╫п╣ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╟б╩, я│я┌п╟п╡я┬п╣пЁп╬ п╨п╩я▌я┤п╣п╡я▀п╪ п╦п╫я│я┌п╦я┌я┐я┌п╬п╪ п╡ я─п╟я│я┬п╦я─п╣п╫п╦п╦ я┐я┤п╟я│я┌п╦я▐ я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦ п╡ я─п╟п╠п╬я┌п╣ п╫п╟ п╫я┐п╤п╢я▀ я└я─п╬п╫я┌п╟.
п║п╬п╡п╣я─я┬п╣п╫п╫п╬ п╢я─я┐пЁп╬п╣ п╢п╣п╩п╬ Б─⌠ п╡п╬п╣п╫п╫п╬-п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫я▀п╣ п╨п╬п╪п╦я┌п╣я┌я▀ (п▓п÷п ). п≤п╢п╣я▐ п╦я┘ я│п╬п╥п╢п╟п╫п╦я▐ п╠я▀п╩п╟ п©я─п╬п╡п╬п╥пЁп╩п╟я┬п╣п╫п╟ п╡п╬ п╡я─п╣п╪я▐ Iп╔ я┌п╬я─пЁп╬п╡п╬-п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╬пЁп╬ я│я┼п╣п╥п╢п╟, п©я─п╬п╡п╬п╢п╦п╡я┬п╣пЁп╬я│я▐ п╡ п÷п╣я┌я─п╬пЁя─п╟п╢п╣ п╡ п╨п╬п╫я├п╣ п╪п╟я▐ 1915 пЁ. п·я─пЁп╟п╫п╦п╥п╬п╡п╟п╫п╫я▀п╣ п╠я┐я─п╤я┐п╟п╥п╦п╣п╧ п▓п÷п я│я┌п╟п╩п╦ п╡п╟п╤п╫я▀п╪ я│п╬п╠я▀я┌п╦п╣п╪, п╨п╟п╨ п╡ я█п╨п╬п╫п╬п╪п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧, я┌п╟п╨ п╦ п╡ п©п╬п╩п╦я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╤п╦п╥п╫п╦ я│я┌я─п╟п╫я▀. п║п╬п╥п╢п╟п╫п╫я▀п╣ п©п╬п╢ п╩п╬п╥я┐п╫пЁп╟п╪п╦ п©п╬п╪п╬я┴п╦ п╡ п╢п╣п╩п╣ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫п╦я▐ п╟я─п╪п╦п╦, п╬п╫п╦ п╠я▀я│я┌я─п╬ я─п╟п╥я─п╬я│п╩п╦я│я▄ п╡ п╪п╬я┴п╫я┐я▌ п╬п╠я┴п╣я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨я┐я▌ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я├п╦я▌, п©я─п╣я┌п╣п╫п╢я┐я▌я┴я┐я▌ п╡ я│п╡п╬п╣п╧ п╢п╣я▐я┌п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌п╦ п╫п╟ п╦я│п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦п╣ я─я▐п╢п╟ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀я┘ я└я┐п╫п╨я├п╦п╧ п╦ я─я┐п╨п╬п╡п╬п╢п╦п╡я┬я┐я▌ я─п╟п╠п╬я┌п╬п╧ п╪п╫п╬пЁп╦я┘ я┌я▀я│я▐я┤ п©я─п╣п╢п©я─п╦я▐я┌п╦п╧ п═п╬я│я│п╦п╦.
п∙я┴п╣ п╬п╢п╫п╦п╪ п╡п╟п╤п╫я▀п╪ я│п╩п╣п╢я│я┌п╡п╦п╣п╪ я│я┼п╣п╥п╢п╟ я│я┌п╟п╩п╬ я│п╬п╥п╢п╟п╫п╦п╣ 27 п╦я▌п╩я▐ п╕п╣п╫я┌я─п╟п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п▓п÷п п©п╬п╢ п©я─п╣п╢я│п╣п╢п╟я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╬п╪ п╣п╢п╦п╫п╬пЁп╩п╟я│п╫п╬ п╦п╥п╠я─п╟п╫п╫п╬пЁп╬ п░.п≤. п⌠я┐я┤п╨п╬п╡п╟. п п╬п╪п╦я┌п╣я┌я▀ п╬я┤п╣п╫я▄ п╠я▀я│я┌я─п╬ п╫п╟я┤п╟п╩п╦ п╡п╬п╥п╫п╦п╨п╟я┌я▄ п╡ я─п╟п╥п╫я▀я┘ пЁп╬я─п╬п╢п╟я┘. п▓ я├п╣п╩я▐я┘ я┐я│я┌п╟п╫п╬п╡п╩п╣п╫п╦я▐ я│п╡п╬п╣пЁп╬ п╨п╬п╫я┌я─п╬п╩я▐ п╫п╟п╢ п©п╬п╩п╦я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╤п╦п╥п╫я▄я▌ я│я┌я─п╟п╫я▀ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫я▀п╣ п╨п╬п╪п╦я┌п╣я┌я▀ я│п╬п╥п╢п╟п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╢п╟п╤п╣ я┌п╟п╪, пЁп╢п╣ п╫п╣ п╠я▀п╩п╬ п╫п╣ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╧, п╫п╬ п╦ п╡п╬п╬п╠я┴п╣ п╩я▌п╠п╬п╧ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦ (п╡ п░п╫п╢п╦п╤п╟п╫п╣ п╓п╣я─пЁп╟п╫я│п╨п╬п╧ п╬п╠п╩., п я┐я─пЁп╟п╫п╣ п╒п╬п╠п╬п╩я▄я│п╨п╬п╧ пЁя┐п╠., п÷п╣я┌я─п╬п©п╟п╡п╩п╬п╡я│п╨п╣ п░п╨п╪п╬п╩п╦п╫я│п╨п╬п╧ пЁя┐п╠., п■п╟пЁп╣я│я┌п╟п╫п╣ п╦ п╢я─.). п▒п╣я│п©п╬п╩п╣п╥п╫п╬я│я┌я▄ я█я┌п╦я┘ я┐я┤я─п╣п╤п╢п╣п╫п╦п╧ п╢п╩я▐ п╫я┐п╤п╢ п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀ п©я─п╦п╥п╫п╟п╡п╟п╩п╟я│я▄ п╢п╟п╤п╣ п╦я┘ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я┌п╬я─п╟п╪п╦24. п 1916 пЁ. п╠я▀п╩п╬ я│п╬п╥п╢п╟п╫п╬ 220 п╪п╣я│я┌п╫я▀я┘ п▓п÷п , п╬п╠я┼п╣п╢п╦п╫п╣п╫п╫я▀я┘ п╡ 33 п╬п╠п╩п╟я│я┌п╫я▀я┘.
п║ п©я─п╦я┘п╬п╢п╬п╪ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩п╟ п░.п░. п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡п╟ п╡ п▓п╬п╣п╫п╫п╬п╣ п╪п╦п╫п╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╬ п╨я─п╣п╢п╦я┌я▀, п╬я┌п©я┐я│п╨п╟п╣п╪я▀п╣ п▓п÷п , п©п╬я│я┌п╬я▐п╫п╫п╬ я─п╬я│п╩п╦. п²п╟ 15 я│п╣п╫я┌я▐п╠я─я▐ 1915 пЁ. п╨п╬п╪п╦я┌п╣я┌п╟п╪ п╠я▀п╩п╬ п╬я┌п©я┐я┴п╣п╫п╬ 7500 я┌я▀я│. я─. п²п╟ 1 п╬п╨я┌я▐п╠я─я▐ Б─⌠ 8500 я┌я▀я│. я─. п²п╟ 1 п╫п╬я▐п╠я─я▐ Б─⌠ 12 619 я┌я▀я│. я─. п═п╣п╥п╨п╬ п╦ я│п╬п╡п╣я─я┬п╣п╫п╫п╬ п╫п╣п©я─п╬п©п╬я─я├п╦п╬п╫п╟п╩я▄п╫п╬ я─п╬я│п╩п╦ п╦ п╡я▀п╢п╟п╡п╟п╣п╪я▀п╣ п╟п╡п╟п╫я│я▀. п▓ я─п╣п╥я┐п╩я▄я┌п╟я┌п╣ п╨ п╢п╣п╨п╟п╠я─я▌ 1915 пЁ. п╦п╥ п╡я▀п╢п╣п╩п╣п╫п╫я▀я┘ п▓п÷п 15 954 457,25 я─. п╟п╡п╟п╫я│п╬п╪ п╠я▀п╩п╬ п╡я▀п©п╩п╟я┤п╣п╫п╬ 12 932 346,81 я─., я┌. п╣. я│п╡я▀я┬п╣ 81 %25. п²п╟я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╬п©я─п╟п╡п╢п╟п╫п╬ п╠я▀п╩п╬ я┌п╟п╨п╬п╣ п╢п╬п╡п╣я─п╦п╣? пёя┤п╦я┌я▀п╡п╟я▐ я┌п╬, я┤я┌п╬ п╨п╬п╩п╬я│я│п╟п╩я▄п╫п╟я▐ п╫п╟п╤п╦п╡п╟ я┤п╟я│я┌п╫я▀я┘ п©я─п╣п╢п©я─п╦п╫п╦п╪п╟я┌п╣п╩п╣п╧ п╫п╟ п╡п╬п╣п╫п╫я▀я┘ п©п╬я│я┌п╟п╡п╨п╟я┘ п╫п╦ я┐ п╨п╬пЁп╬ п╫п╣ п╡я▀п╥я▀п╡п╟п╩п╟ я│п╬п╪п╫п╣п╫п╦п╧, п╦ п╣п╣ п╫п╣ п╬я┌я─п╦я├п╟п╩п╦ п╢п╟п╤п╣ я│п╟п╪п╦ п©п╬я│я┌п╟п╡я┴п╦п╨п╦. п²п╟ п╥п╟я│п╣п╢п╟п╫п╦п╦ п║п╬п╡п╣я┌п╟ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╬п╡ 3 п╫п╬я▐п╠я─я▐ 1915 пЁ. п╠я▀п╩п╟ п╬я┌п╪п╣я┤п╣п╫п╟ б╚я┤я─п╣п╥п╪п╣я─п╫п╟я▐ п©я─п╣я┐п╡п╣п╩п╦я┤п╣п╫п╫п╬я│я┌я▄ я├п╣п╫ п©п╬ п©п╣я─п╣п╢п╟п╡п╟п╣п╪я▀п╪ я┤п╟я│я┌п╫п╬п╧ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦ п╥п╟п╨п╟п╥п╟п╪б╩. п▓ п╤я┐я─п╫п╟п╩п╣ п╥п╟я│п╣п╢п╟п╫п╦п╧ я█я┌п╬ п©п╬п╢я┌п╡п╣я─п╤п╢п╟п╩п╬я│я▄ я│п╬п©п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╣п╪ я┌п╣я┘ я├п╣п╫, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╫п╟п╥п╫п╟я┤п╟п╩п╦ я┤п╟я│я┌п╫я▀п╣ п╥п╟п╡п╬п╢я▀, я│ я┌п╣п╪п╦, п©п╬ п╨п╬я┌п╬я─я▀п╪ я─п╟п╠п╬я┌п╟п╩п╦ п╨п╟п╥п╣п╫п╫я▀п╣ п╥п╟п╡п╬п╢я▀ пЁп╬я─п╫п╬пЁп╬ п╡п╣п╢п╬п╪я│я┌п╡п╟. п▒я▀п╩ п©я─п╦п╡п╣п╢п╣п╫ п╦ я│п╟п╪я▀п╧ я─п╟п╥п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╧ п©я─п╦п╪п╣я─ б╚п╫п╣п©п╬п╪п╣я─п╫п╬пЁп╬ п©п╬п╢я┼п╣п╪п╟ я├п╣п╫б╩: б╚я│я┌п╬п╦п╪п╬я│я┌я▄ 3-п╢я▌п╧п╪п╬п╡я▀я┘ п©п╬п╩п╣п╡я▀я┘ п©я┐я┬п╣п╨, п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩я▐п╣п╪я▀я┘ п╨п╟п╥п╣п╫п╫я▀п╪п╦ п╥п╟п╡п╬п╢п╟п╪п╦ п©п╬ п╫п╬я─п╪п╟п╩я▄п╫п╬п╧ я├п╣п╫п╣ 3750 я─я┐п╠.б╩, п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╩п╟я│я▄ п©я─п╦ п╥п╟п╨п╟п╥п╣ я┤п╟я│я┌п╫я▀п╪ п╥п╟п╡п╬п╢п╟п╪ б╚п╡ 7000 я─я┐п╠., 9000 я─я┐п╠. п╦ п╢п╟п╤п╣ 12 000 я─я┐п╠. п╥п╟ п╬я─я┐п╢п╦п╣б╩26. п▒п╬п╩п╣п╣ я┌п╬пЁп╬, п©я─п╬п╦п╥п╡п╬п╢п╦п╪п╟я▐ п╢п╩я▐ п╫я┐п╤п╢ п╟я─п╪п╦п╦ п©я─п╬п╢я┐п╨я├п╦я▐ п╥п╟я┤п╟я│я┌я┐я▌ п╠я▀п╩п╟ п╫п╦п╥п╨п╬пЁп╬ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╟, п╟ я┌п╬ п╦ п╡п╬п╡я│п╣ п╫п╣ пЁп╬п╢п╫п╬п╧. п╒п╟п╨, я┘п╬я┌я▐ п╡ 1915 п╦ 1916 пЁпЁ. п╡п╬п╣п╫п╫п╬-п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫я▀п╣ п╨п╬п╪п╦я┌п╣я┌я▀ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п╬я┌пЁя─я┐п╥п╦п╩п╦ я└я─п╬п╫я┌я┐ п╠п╬п╩п╣п╣ 14 п╪п╩п╫ я─я┐я┤п╫я▀я┘ пЁя─п╟п╫п╟я┌ Б─⌠ п©п╬я┤я┌п╦ п©п╬п╩п╬п╡п╦п╫я┐ п╡я│п╣я┘ п©п╬я│я┌п╟п╡п╬п╨ п╥п╟ я█я┌п╦ пЁп╬п╢я▀, Б─⌠ п©я─п╬п╡п╣п╢п╣п╫п╫я▀п╣ п╡ 1916 пЁ. п©п╬п╩п╣п╡я▀п╣ п╦я│п©я▀я┌п╟п╫п╦я▐ п©п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╦, я┤я┌п╬ п╢п╬ 65 % п©п╬п╩я┐я┤п╣п╫п╫я▀я┘ пЁя─п╟п╫п╟я┌ п╠я▀п╩п╦ п╠я─п╟п╨п╬п╪: п╬п╫п╦ п╫п╣ п╡п╥я─я▀п╡п╟п╩п╦я│я▄27.

пёп©я─п╟п╡п╩я▐я▌я┴п╦п╧ п▓п╬п╣п╫п╫я▀п╪ п╪п╦п╫п╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╬п╪ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩ п░.п░. п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡, п▓п╣я─я┘п╬п╡п╫я▀п╧ пЁп╩п╟п╡п╫п╬п╨п╬п╪п╟п╫п╢я┐я▌я┴п╦п╧ п╡п╣п╩п╦п╨п╦п╧ п╨п╫я▐п╥я▄ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╧ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╡п╦я┤ п╦ п²п╟я┤п╟п╩я▄п╫п╦п╨ п╗я┌п╟п╠п╟ п▓п╣я─я┘п╬п╡п╫п╬пЁп╬ пЁп╩п╟п╡п╫п╬п╨п╬п╪п╟п╫п╢я┐я▌я┴п╣пЁп╬ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩ п².п². п╞п╫я┐я┬п╨п╣п╡п╦я┤ п╡ п║я┌п╟п╡п╨п╣. 13 п╦я▌п╫я▐ 1915 пЁ.
п║п╡п╬п╦ п╫п╣п╢п╬я┤п╣я┌я▀ п╡я▀п╫я┐п╤п╢п╣п╫я▀ п╠я▀п╩п╦ п©я─п╦п╥п╫п╟п╡п╟я┌я▄ п╦ я│п╟п╪п╦ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╦я┌п╣п╩п╦ п╡п╬п╣п╫п╫п╬-п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫я▀я┘ п╨п╬п╪п╦я┌п╣я┌п╬п╡. 10 п╪п╟я▐ 1916 пЁ. п╫п╟ п╥п╟я│п╣п╢п╟п╫п╦п╦ п╕п▓п÷п я─я┐п╨п╬п╡п╬п╢я│я┌п╡п╬ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я├п╦п╦ п╢п╬п╨п╩п╟п╢я▀п╡п╟п╩п╬ п╬ п╡я▀п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦п╦ п╨п╬п╪п╦я┌п╣я┌п╟п╪п╦ п╨ 1 п╪п╟я▐ п╡я│п╣пЁп╬ 25 % п╬п╠я┐я│п╩п╬п╡п╩п╣п╫п╫я▀я┘ п╨ я█я┌п╬п╪я┐ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦ п╥п╟п╨п╟п╥п╬п╡ п©п╬ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╟п╪ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ я│п╫п╟я─я▐п╤п╣п╫п╦я▐ п╦ 50 % Б─⌠ п©п╬ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╟п╪ п╦п╫я┌п╣п╫п╢п╟п╫я┌я│п╨п╬пЁп╬ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫п╦я▐28.
п÷п╬ п╥п╟п╪п╣я┤п╟п╫п╦я▌ п╠я▀п╡я┬п╣пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦ п╦ я┌п╬я─пЁп╬п╡п╩п╦ п▓.п². п╗п╟я┘п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬, п╦п╥ п╢п╬я│я┌п╦п╤п╣п╫п╦п╧ п▓п÷п п╡п╪п╣я│я┌п╬ я─п╟п╠п╬я┌я▀ б╚п©п╬ п╡п╬я│п©п╬я│п╬п╠п╩п╣п╫п╦я▌ п╟я─п╪п╦п╦б╩ б╚п╫п╟ п©п╣я─п╡п╬п╣ п╪п╣я│я┌п╬ я│п╩п╣п╢я┐п╣я┌ п╬я┌п╫п╣я│я┌п╦ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я├п╦я▌ я┬п╦я─п╬п╨п╬п╧ п╦ п╠п╣я│я│п╬п╡п╣я│я┌п╫п╬п╧ я─п╣п╨п╩п╟п╪я▀б╩29. п²п╟п©я─п╦п╪п╣я─, п╢п╩я▐ п©я─п╬п©п╟пЁп╟п╫п╢я▀ я│п╡п╬п╣п╧ п©я─п╬п╢я┐п╨я┌п╦п╡п╫п╬п╧ п╢п╣я▐я┌п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌п╦ п╕п▓п÷п я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄п╫п╬ п╬я┌п╨я─я▀п╩ п╡ п║п╦п╠п╦я─п╦ я▐я┴п╦я┤п╫я▀п╧ п╥п╟п╡п╬п╢, п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩я▐я▌я┴п╦п╧ я▐я┴п╦п╨п╦ п╢п╩я▐ п╠п╬п╣п╡п╬пЁп╬ я│п╫п╟я─я▐п╤п╣п╫п╦я▐, п╬я┌п©я─п╟п╡п╩я▐п╣п╪п╬пЁп╬ п╫п╟ я└я─п╬п╫я┌. п╞я┴п╦п╨п╦ п©п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╦я│я▄ п©п╬я┤я┌п╦ п╫п╟ п╡я│п╣ п╥п╟п╡п╬п╢я▀ п═п╬я│я│п╦п╦, я─п╟п╠п╬я┌п╟п╡я┬п╦п╣ п╫п╟ п╬п╠п╬я─п╬п╫я┐, п╦ я┌п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╪ п©п╬я┤я┌п╦ п╡я│п╣ п╠п╬п╣п╡п╬п╣ я│п╫п╟я─я▐п╤п╣п╫п╦п╣, п©п╬п╩я┐я┤п╟п╣п╪п╬п╣ п╫п╟ я└я─п╬п╫я┌п╣ п╡ я▐я┴п╦п╨п╟я┘ я│ п╦п╫п╦я├п╦п╟п╩п╟п╪п╦ п╕п▓п÷п , я│п╬п╥п╢п╟п╡п╟п╩п╬ п╩п╬п╤п╫п╬п╣ п©п╬п╫я▐я┌п╦п╣ п╬ п╫п╣п╬п╠я▀п╨п╫п╬п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п©я─п╬п╢я┐п╨я┌п╦п╡п╫п╬я│я┌п╦ я█я┌п╬п╧ п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я├п╦п╦, я▐п╡п╩я▐я▌я┴п╣п╧я│я▐ я┤я┐я┌я▄ п╩п╦ п╫п╣ п╣п╢п╦п╫я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п©п╬п╩п╣п╥п╫п╬п╧ п╡ п╢п╣п╩п╣ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫п╦я▐ п╟я─п╪п╦п╦30. п÷я─п╦ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ п©п╬ п╢п╟п╫п╫я▀п╪ п⌠п╩п╟п╡п╫п╬пЁп╬ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ я┐п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦я▐ п╨ п╬я│п╣п╫п╦ 1915 пЁ. п╬я┌ п╕п▓п÷п п╫п╣ п╠я▀п╩п╬ п©п╬п╩я┐я┤п╣п╫п╬ п╫п╦ п╬п╢п╫п╬пЁп╬ я│п╫п╟я─я▐п╢п╟, п╟ п╠п╬п╣п©я─п╦п©п╟я│я▀ п╡ я▐я┴п╦п╨п╟я┘ я│ п╫п╟п╢п©п╦я│я▄я▌ б╚п║п╫п╟я─я▐п╢п╬п╡ п╫п╣ п╤п╟п╩п╣я┌я▄ Б─⌠ п╕п╣п╫я┌я─п╟п╩я▄п╫я▀п╧ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п÷я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫я▀п╧ п п╬п╪п╦я┌п╣я┌б╩ Б─⌠ п©п╬я▐п╡п╦п╩п╦я│я▄ я┐п╤п╣ п╡ п╟п╡пЁя┐я│я┌п╣ 1915 пЁ.31
п╖я─п╣п╥п╡я▀я┤п╟п╧п╫п╬ п╡п╟п╤п╫п╬ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄ п╦ я┌п╬я┌ я└п╟п╨я┌, я┤я┌п╬ п╢п╬ п╟п╡пЁя┐я│я┌п╟ 1915 пЁ. п╨п╬п╪п╦я┌п╣я┌я▀ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦ п╡п╬п╬п╠я┴п╣ п╠п╣п╥ п╬я└п╦я├п╦п╟п╩я▄п╫п╬ я┐я┌п╡п╣я─п╤п╢п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦я▐. п·я│п╬п╠п╣п╫п╫п╬ п╣я│п╩п╦ я┐я┤п╣я│я┌я▄, я┤я┌п╬ п╥п╟ я│я┤п╣я┌ п╨п╟п╥п╫я▀ я│я┌п╟п╩п╟ п╡п╬п╥п╫п╦п╨п╟я┌я▄ п╫п╣п╨п╬п╫я┌я─п╬п╩п╦я─я┐п╣п╪п╟я▐ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╬п╪ п©п╟я─п╟п╩п╩п╣п╩я▄п╫п╟я▐ я│п╦я│я┌п╣п╪п╟ я┐п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦я▐, п╨п╬я┌п╬я─п╟я▐ я│я─п╟п╥я┐ п╤п╣ п©п╬п╢п╢п╣я─п╤п╟п╩п╟ п╡п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬ п╨п╫я▐п╥я▐ п²п╦п╨п╬п╩п╟я▐ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╡п╦я┤п╟ п╡ п╣пЁп╬ п╠п╬я─я▄п╠п╣ я│ п▓.п░. п║я┐я┘п╬п╪п╩п╦п╫п╬п╡я▀п╪. п▓я│п╣ я█я┌п╬ п╠я▀п╩п╬ я└п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ п©п╣я─п╡я▀п╪ я┬п╟пЁп╬п╪ п╢п╩я▐ п╡п╥я─я▀п╡п╟ п╡п╩п╟я│я┌п╦ п╦п╥п╫я┐я┌я─п╦32. п▓п©п╬я│п╩п╣п╢я│я┌п╡п╦п╦ п╦я│я┌п╦п╫п╫я┐я▌ п╨п╟я─я┌п╦п╫я┐ б╚я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╫п╟ я└я─п╬п╫я┌б╩ п╬я┌я─п╟п╥п╦п╩ п░.п≤. п⌠я┐я┤п╨п╬п╡, п╨п╬пЁп╢п╟ п╡ я▐п╫п╡п╟я─п╣ 1917 пЁ. п╠я▀п╩п╟ п╟я─п╣я│я┌п╬п╡п╟п╫п╟ п═п╟п╠п╬я┤п╟я▐ пЁя─я┐п©п©п╟ п▓п÷п : б╚п≤ п╡п╬я┌ я┌п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╪ п╪я▀, п╪п╦я─п╫п╟я▐, п╢п╣п╩п╬п╡п╟я▐, п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╟я▐, я┘п╬я┌я▐ п╦ п╡п╬п╣п╫п╫п╬-п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╟я▐ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я├п╦я▐, п╡я▀п╫я┐п╤п╢п╣п╫я▀ п╠я▀п╩п╦ п╡п╨п╩я▌я┤п╦я┌я▄ п╡ п╬я│п╫п╬п╡п╫п╬п╧ п©я┐п╫п╨я┌ п╫п╟я┬п╣п╧ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п©я─п╬пЁя─п╟п╪п╪я▀ п©п╣я─п╣п╡п╬я─п╬я┌, я┘п╬я┌я▐ п╠я▀ п╦ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╫я▀п╧б╩33.

п▓п╬п╣п╫п╫я▀п╧ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩ п╬я┌ п╦п╫я└п╟п╫я┌п╣я─п╦п╦ п░п╩п╣п╨я│п╣п╧ п░п╫п╢я─п╣п╣п╡п╦я┤ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡. 1915 пЁ.
п■п╬п╠я─п╟п╡я┬п╦я│я▄ п╢п╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌п╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п╨я─п╣я│п╩п╟, п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡ п╡я│п╣ п╢п╟п╩я▄я┬п╣ я┐пЁп╩я┐п╠п╩я▐п╩я│я▐ п╡ п©п╬п╩п╦я┌п╦п╨я┐, п╡ я┌п╬ п╡я─п╣п╪я▐ п╨п╬пЁп╢п╟ п╟я─п╪п╦п╦ п╫я┐п╤п╣п╫ п╠я▀п╩ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╧ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─ Б─⌠ п╦п╫я┌п╣п╫п╢п╟п╫я┌ п╦ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я┌п╬я─. п▓ п╦я┌п╬пЁп╣ п╡я│п╣ п╡п╬п╥я─п╟я│я┌п╟я▌я┴п╣п╣ п╫п╣п╢п╬п╡п╣я─п╦п╣ п²п╦п╨п╬п╩п╟я▐ II п╨ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩я┐ п╡я▀п╩п╦п╩п╬я│я▄ п╡ п╣пЁп╬ я┐п╡п╬п╩я▄п╫п╣п╫п╦п╣. п▓ п©п╦я│я▄п╪п╣ п╬я┌ 13 п╪п╟я─я┌п╟ 1916 пЁ., п╨п╬я┌п╬я─я▀п╪ п╦п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─ п╦п╥п╡п╣я┴п╟п╩ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡п╟ п╬ я│п╡п╬п╣п╪ я─п╣я┬п╣п╫п╦п╦, п╥п╫п╟я┤п╦п╩п╬я│я▄: б╚п я│п╬п╤п╟п╩п╣п╫п╦я▌, я▐ п©я─п╦я┬п╣п╩ п╨ п╥п╟п╨п╩я▌я┤п╣п╫п╦я▌, я┤я┌п╬ п╪п╫п╣ п╫я┐п╤п╫п╬ я│ п▓п╟п╪п╦ я─п╟я│я│я┌п╟я┌я▄я│я▐. п▓ я█я┌я┐ п╡п╣п╩п╦п╨я┐я▌ п╡п╬п╧п╫я┐ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╧ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐, п╡ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌п╦, пЁп╩п╟п╡п╫я▀п╪ п╫п╟я┤п╟п╩я▄п╫п╦п╨п╬п╪ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫п╦я▐ п╟я─п╪п╦п╦ п©п╬ п╡я│п╣п╪ п╡п╦п╢п╟п╪ п╢п╬п╡п╬п╩я▄я│я┌п╡п╦я▐. п я─п╬п╪п╣ я┌п╬пЁп╬, п╣п╪я┐ п©я─п╦я┘п╬п╢п╦я┌я│я▐ п╬п╠я┼п╣п╢п╦п╫я▐я┌я▄ п╦ п╫п╟п©я─п╟п╡п╩я▐я┌я▄ п╢п╣я▐я┌п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌я▄ п╡п╬п╣п╫п╫п╬-п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫я▀я┘ п╨п╬п╪п╦я┌п╣я┌п╬п╡ п╢п╩я▐ я┌п╬п╧ п╤п╣ п╣п╢п╦п╫п╬п╧ я├п╣п╩п╦Б─╕ п■п╣я▐я┌п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌я▄ п©п╬я│п╩п╣п╢п╫п╦я┘ п╪п╫п╣ п╫п╣ п╡п╫я┐я┬п╟п╣я┌ п╢п╬п╡п╣я─п╦я▐, п╟ я─я┐п╨п╬п╡п╬п╢я│я┌п╡п╬ п▓п╟я┬п╣ я█я┌п╬п╧ п╢п╣я▐я┌п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌я▄я▌ п╫п╣п╢п╬я│я┌п╟я┌п╬я┤п╫п╬ п╡п╩п╟я│я┌п╫п╬ п╡ п╪п╬п╦я┘ пЁп╩п╟п╥п╟я┘Б─╕б╩34
б╚п÷я─п╦я┤п╦п╫п╟ я┐я┘п╬п╢п╟ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡п╟ я─п╬п╢п╦п╩п╟я│я▄ п╡ п╢п╣п╫я▄ п╫п╟п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╦я▐ п╣пЁп╬ п╫п╟ п╢п╬п╩п╤п╫п╬я│я┌я▄ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟, я├п╟я─я▄ п╫п╣ п╪п╬пЁ я│п©п╬п╨п╬п╧п╫п╬ п©я─п╦п╫я▐я┌я▄ я█я┌п╬пЁп╬ я│п╡п╬п╣пЁп╬ я┬п╟пЁп╟, я│п╢п╣п╩п╟п╫п╫п╬пЁп╬ п╨п╟п╨ я┐я│я┌я┐п©п╨п╟ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п■я┐п╪п╣ п©п╬ п©п╬п╩п╦я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦п╪ я│п╬п╬п╠я─п╟п╤п╣п╫п╦я▐п╪. п╒п╟п╨п╦п╣ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─я▀ я┐ п╫п╟я│ п╫п╣ я┌п╣я─п©я▐я┌я│я▐ п╢п╬п╩пЁп╬б╩, Б─⌠ п╬я┌п╪п╣я┤п╟п╩ п╡ я│п╡п╬п╣п╪ п╢п╫п╣п╡п╫п╦п╨п╣ п╠я▀п╡я┬п╦п╧ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╧ я├п╣п╫п╥п╬я─ п╡ п║я┌п╟п╡п╨п╣ п°.п . п⌡п╣п╪п╨п╣35.
п²п╬ п©п╬п╪п╦п╪п╬ я█я┌п╬п╧ п╬я┤п╣п╡п╦п╢п╫п╬п╧ п╠я▀п╩п╟ п╦ п╣я┴п╣ п╬п╢п╫п╟ п©я─п╦я┤п╦п╫п╟ я┐п╡п╬п╩я▄п╫п╣п╫п╦я▐ я│я┌п╬п╩я▄ п©п╬п©я┐п╩я▐я─п╫п╬пЁп╬ п╡ п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╣ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟. п÷п╬ п╪п╫п╣п╫п╦я▌ я│п╬п╡я─п╣п╪п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╦я│я┌п╬я─п╦п╨п╟ п·.п═. п░п╧я─п╟п©п╣я┌п╬п╡п╟, п╬я┌я│я┌п╟п╡п╨п╟ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡п╟ я┌п╣я│п╫п╬ я│п╡я▐п╥п╟п╫п╟ я│ п©я─п╬п╡п╟п╩п╬п╪ п²п╟я─п╬я┤я│п╨п╬п╧ п╬п©п╣я─п╟я├п╦п╦ (5 (18) Б─⌠ 17 (30) п╪п╟я─я┌п╟ 1916), п╨п╬пЁп╢п╟ п╬п╠п╫п╟я─я┐п╤п╦п╩я│я▐ я┌п╬я┌ я└п╟п╨я┌, я┤я┌п╬ я│п╫п╟я─я▐п╢п╫я▀п╧ пЁп╬п╩п╬п╢ п╫п╣ п╠я▀п╩ п©я─п╣п╬п╢п╬п╩п╣п╫ п╡ я┌п╬п╧ п╪п╣я─п╣, п╨п╟п╨п╟я▐ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪п╟ п╢п╩я▐ я┐я│п©п╣я┬п╫п╬пЁп╬ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐. б╚п²п╣я┐п╢п╦п╡п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬, я┤я┌п╬ я█я┌п╟ п╫п╣я┐п╢п╟я┤п╟ я│п╬п╡п©п╟п╩п╟ я│ п╬я┌я│я┌п╟п╡п╨п╬п╧ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п©я─п╦я┬п╣п╩ п╡ я│п╡п╬п╣ п╡п╣п╢п╬п╪я│я┌п╡п╬ п©п╬п╢ п╩п╬п╥я┐п╫пЁп╬п╪ я─п╣я┬п╣п╫п╦я▐ п©я─п╬п╠п╩п╣п╪я▀ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫п╦я▐ я└я─п╬п╫я┌п╟ п╡я│п╣п╪ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪я▀п╪б╩36.
п÷п╬п╢п╡п╬п╢я▐ п╦я┌п╬пЁ я│п╨п╟п╥п╟п╫п╫п╬п╪я┐, п╣я┴п╣ я─п╟п╥ п╬я┌п╪п╣я┌п╦п╪, я┤я┌п╬ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩ п╬я┌ п╦п╫я└п╟п╫я┌п╣я─п╦п╦ п░.п░. п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩ я│п╬п╠п╬п╧ п╬п╢п╫я┐ п╦п╥ п╨я─я┐п©п╫я▀я┘ я└п╦пЁя┐я─ п╡ п╡я▀я│я┬п╦я┘ п╡п╬п╣п╫п╫п╬-п╟п╢п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟я┌п╦п╡п╫я▀я┘ я│я└п╣я─п╟я┘ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦. п⌡п╣я┌п╬п╪ 1915 пЁ. я█я┌п╬я┌ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨ я│я┌п╟п╩ я│п╦п╪п╡п╬п╩п╬п╪ б╚п╫п╬п╡п╬пЁп╬ п╨я┐я─я│п╟б╩ п╡п╬ п╡п╫я┐я┌я─п╣п╫п╫п╣п╧ п©п╬п╩п╦я┌п╦п╨п╣ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╟. п▓п╬я│я│я┌п╟п╫п╬п╡п╩п╣п╫п╦п╣ я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╧ п╪п╬я┴п╦ я┌я─п╟п╢п╦я├п╦п╬п╫п╫п╬ п©я─п╦п©п╦я│я▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ п╪я┐п╢я─п╬я│я┌п╦ п░п╩п╣п╨я│п╣я▐ п░п╫п╢я─п╣п╣п╡п╦я┤п╟, п╟ я┌п╟п╨п╤п╣ я█п╨п╬п╫п╬п╪п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ я─п╟я├п╦п╬п╫п╟п╩п╦п╥п╟я├п╦п╦, п╢п╬я│я┌п╦пЁп╫я┐я┌п╬п╧ я│п╬п╥п╢п╟п╫п╦п╣п╪ я│п╦я│я┌п╣п╪я▀ п╬я│п╬п╠я▀я┘ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦п╧. п▒п╣я│я│п©п╬я─п╫п╬, я┤я┌п╬ п╥п╟ п╡я─п╣п╪я▐ п╣пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╟ п╠я▀п╩п╟ я┤п╟я│я┌п╦я┤п╫п╬ я─п╣я┬п╣п╫п╟ п©я─п╬п╠п╩п╣п╪п╟ п©п╬п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦я▐ п╟я─п╪п╦п╦ п╩п╦я┤п╫я▀п╪ я│п╬я│я┌п╟п╡п╬п╪, я┐п╩я┐я┤я┬п╣п╫я▀ п©п╬я│я┌п╟п╡п╨п╦ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╦ п╠п╬п╣п©я─п╦п©п╟я│п╬п╡. п·п╢п╫п╟п╨п╬ п╫п╣ я│я┌п╬п╦я┌ я┐п©я┐я│п╨п╟я┌я▄ п╦п╥ п╡п╦п╢я┐ п╦ я┌п╬я┌ п╡п╟п╤п╫я▀п╧ я└п╟п╨я┌п╬я─, п©п╬п╡п╩п╦я▐п╡я┬п╦п╧ п╫п╟ п╬я┤п╣п╡п╦п╢п╫п╬п╣ п╡п╬я│я│я┌п╟п╫п╬п╡п╩п╣п╫п╦п╣ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦, я┤я┌п╬ пЁп╣я─п╪п╟п╫я│п╨п╦п╧ п▓п╬я│я┌п╬я┤п╫я▀п╧ я└я─п╬п╫я┌ я│ п╬я│п╣п╫п╦ 1915 п╢п╬ п╡п╣я│п╫я▀ 1916 пЁпЁ. п╠я▀п╩ п╬я┌п╫п╬я│п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п╫п╣п©п╬п╢п╡п╦п╤п╣п╫.
п╜п╨п╬п╫п╬п╪п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╦ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╧ п©п╬п╢я┼п╣п╪ 1916 пЁ. я┤п╟я│я┌п╬ п©я─п╦п╡п╬п╢п╦я┌я│я▐ п╡ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣ п╢п╬п╨п╟п╥п╟я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╟ я┌п╬пЁп╬ я┌п╣п╥п╦я│п╟, я┤я┌п╬ я├п╟я─я│п╨п╬п╪я┐ п©я─п╟п╡п╦я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡я┐ я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╩п╬ я│ я│п╟п╪п╬пЁп╬ п╫п╟я┤п╟п╩п╟ п╡п╬п╧п╫я▀ п©п╬п╢п╨п╩я▌я┤п╦я┌я▄ п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬я│я┌я▄ п╨ я─п╟п╠п╬я┌п╣ п╫п╟ п╫я┐п╤п╢я▀ я└я─п╬п╫я┌п╟ п╦ п╦п╪п╣п╫п╫п╬ я█я┌п╬ я─п╣я┬п╣п╫п╦п╣ п╠я▀п╩п╬ п╠я▀ п╣п╢п╦п╫я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀п╪ я┬п╟п╫я│п╬п╪ п╦п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─я│п╨п╬п╧ п═п╬я│я│п╦п╦ п╫п╟ п©п╬п╠п╣п╢я┐ п╡ п▓п╣п╩п╦п╨п╬п╧ п╡п╬п╧п╫п╣. п·п╢п╫п╟п╨п╬ я█я└я└п╣п╨я┌п╦п╡п╫п╬я│я┌я▄ п╡п╬п╣п╫п╫п╬-п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫я▀я┘ п╨п╬п╪п╦я┌п╣я┌п╬п╡, п©п╬п╨я─п╬п╡п╦я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╬ п╨п╬я┌п╬я─я▀п╪ п╬п╨п╟п╥я▀п╡п╟п╩ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡, п╠я▀п╩п╟ пЁп╬я─п╟п╥п╢п╬ п╫п╦п╤п╣, п╫п╣п╤п╣п╩п╦ я█я┌п╬ п©я▀я┌п╟п╩п╦я│я▄ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ я─я┐п╨п╬п╡п╬п╢п╦я┌п╣п╩п╦ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я├п╦п╧. п▓п÷п я┤п╟я│я┌п╬ п╫п╣ п╡я▀п©п╬п╩п╫я▐п╩п╦ я│п╡п╬п╦ п╥п╟п╢п╟я┤п╦, я┐я┤п╟я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦ п╡ п©я─п╬я┌п╦п╡п╬п©я─п╟п╡п╦я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п©п╬п╩п╦я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╢п╣я▐я┌п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌п╦, п╬я┌п╨я─я▀я┌п╬ я│п╬п©п╣я─п╫п╦я┤п╟п╩п╦ я│ п╬я└п╦я├п╦п╟п╩я▄п╫я▀п╪п╦ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀п╪п╦ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я├п╦я▐п╪п╦, п╬я┌п╡п╬п╣п╡я▀п╡п╟я▐ я┐ п╫п╦я┘ я┌п╣я┘п╫п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п©п╣я─я│п╬п╫п╟п╩ п╦ п╠п╣п╥ я┌п╬пЁп╬ я│п╨я┐п╢п╫я▀п╣ п╥п╟п©п╟я│я▀ я│я▀я─я▄я▐37.
п÷п╬п╩я▄п╥я┐я▐я│я▄ я│п╡п╬п╦п╪ п╩я▄пЁп╬я┌п╫я▀п╪ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╣п╪, я┤п╟я│я┌я▄ п╨я─я┐п©п╫я▀я┘ п©я─п╣п╢п©я─п╦п╫п╦п╪п╟я┌п╣п╩п╣п╧ п╫п╟я┘п╬п╢п╦п╩п╟ п╡ п╡п╬п╣п╫п╫я▀я┘ п╥п╟п╨п╟п╥п╟я┘ п╦я│я┌п╬я┤п╫п╦п╨ п©п╬п╩я┐я┤п╣п╫п╦я▐ я│п╡п╣я─я┘п©я─п╦п╠я▀п╩п╦, п╫п╣ п╬я│я┌п╟п╫п╟п╡п╩п╦п╡п╟я▐я│я▄ п©п╣я─п╣п╢ п╪п╟я┘п╦п╫п╟я├п╦я▐п╪п╦ я└п╦п╫п╟п╫я│п╬п╡п╬пЁп╬ п╦ п©п╬п╩п╦я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╟. п║п╬я▌п╥я▀ п©я─п╣п╢п©я─п╦п╫п╦п╪п╟я┌п╣п╩п╣п╧ п╦ п╩п╦п╠п╣я─п╟п╩п╬п╡ п©я─п╬п╢п╣п╪п╬п╫я│я┌я─п╦я─п╬п╡п╟п╩п╦ я│п╡п╬я▌ п╫п╣я│п╬я│я┌п╬я▐я┌п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌я▄ я┐п╤п╣ п╡ 1915 пЁ. п⌠п╬я─п╟п╥п╢п╬ я┐п╢п╟я┤п╫п╣п╧ п╠я▀п╩п╟ п╦я┘ п╢п╣я▐я┌п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌я▄, п╫п╟п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╫п╟я▐ п╫п╟ я─п╟я│я┬п╟я┌я▀п╡п╟п╫п╦п╣ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀я┘ я┐я│я┌п╬п╣п╡. п╜я┌п╬ п╦ я│п╬п╥п╢п╟п╫п╦п╣ я│я┌я─я┐п╨я┌я┐я─я▀ я┐п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦я▐, п©п╟я─п╟п╩п╩п╣п╩я▄п╫п╬п╧ п╬я─пЁп╟п╫п╟п╪ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╟; п╢п╦я│п╨я─п╣п╢п╦я┌п╟я├п╦я▐ п╡п╣я─я┘п╬п╡п╫п╬п╧ п╡п╩п╟я│я┌п╦ п╨п╟п╨ п╫п╣я│п©п╬я│п╬п╠п╫п╬п╧ я─п╣я┬п╟я┌я▄ п©я─п╬п╠п╩п╣п╪я▀ п╡п╬я▌я▌я┴п╣п╧ я│я┌я─п╟п╫я▀; п╫п╟п╨п╬п╫п╣я├, п©я─п╬п©п╟пЁп╟п╫п╢п╟ я│п╡п╬п╦я┘ б╚п╢п╬я│я┌п╦п╤п╣п╫п╦п╧б╩, п╢п╬п╡п╬п╩я▄п╫п╬ п╦я│п╨я┐я│п╫п╟я▐ п╦ п╡п©п╬п╩п╫п╣ я│п╬п╡я─п╣п╪п╣п╫п╫п╟я▐ п©п╬ п©я─п╦п╣п╪п╟п╪38.
п≈п╟п╨п╟п╫я┤п╦п╡п╟я▐ я│я┌п╟я┌я▄я▌, я┐п╪п╣я│я┌п╫я▀п╪ п╠я┐п╢п╣я┌ п╟п╨я├п╣п╫я┌п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄ п╡п╫п╦п╪п╟п╫п╦п╣ п╫п╟ п╫п╣п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╠п╦п╬пЁя─п╟я└п╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п©п╬п╢я─п╬п╠п╫п╬я│я┌я▐я┘ п©п╬я│п╩п╣п╢п╫п╦я┘ п╩п╣я┌ п╤п╦п╥п╫п╦ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩п╟.
п÷п╬я│п╩п╣ п╓п╣п╡я─п╟п╩я▄я│п╨п╬п╧ я─п╣п╡п╬п╩я▌я├п╦п╦ п©п╣я─п╡я▀п╧ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╧ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─ п▓я─п╣п╪п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п©я─п╟п╡п╦я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╟ п░.п≤. п⌠я┐я┤п╨п╬п╡ п╫п╟п╥п╫п╟я┤п╦п╩ п░.п░. п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡п╟ я│п╡п╬п╦п╪ пЁп╩п╟п╡п╫я▀п╪ я│п╬п╡п╣я┌п╫п╦п╨п╬п╪, п©я─п╣п╢я│п╣п╢п╟я┌п╣п╩п╣п╪ п·я│п╬п╠п╬п╧ п╨п╬п╪п╦я│я│п╦п╦ п©п╬ п©п╬я│я┌я─п╬п╣п╫п╦я▌ п╟я─п╪п╦п╦ п╫п╟ п╫п╬п╡я▀я┘ п╢п╣п╪п╬п╨я─п╟я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п╫п╟я┤п╟п╩п╟я┘ п╦ п©я─п╣п╢я│п╣п╢п╟я┌п╣п╩п╣п╪ п п╬п╪п╦я│я│п╦п╦ п©п╬ я┐п╩я┐я┤я┬п╣п╫п╦я▌ п╠я▀я┌п╟ п╡п╬п╣п╫п╫я▀я┘ я┤п╦п╫п╬п╡. п п╟п╨ п╪п╦п╫п╦п╪я┐п╪ я│я┌я─п╟п╫п╫я▀п╧ п╡я▀п╠п╬я─ п©я─п╣п╢я│п╣п╢п╟я┌п╣п╩я▐, я┐я┤п╦я┌я▀п╡п╟я▐ я┌п╬я┌ я└п╟п╨я┌, я┤я┌п╬ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ п╡я│я▐ п╪п╫п╬пЁп╬п╩п╣я┌п╫я▐я▐ я│п╩я┐п╤п╠п╟ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩п╟ п©я─п╬я┬п╩п╟ п╡ я├п╣п╫я┌я─п╟п╩я▄п╫я▀я┘ я┐п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦я▐я┘ п▓п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╟ п╡ п©п╬п╩п╫п╬п╪ я┐п╢п╟п╩п╣п╫п╦п╦ п╬я┌ п╡п╬п╧я│п╨. б╚п п╬ п╪п╫п╣ п©я─п╟п╡п╦я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╬п╪ п╠я▀п╩ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─п╬п╡п╟п╫ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩, п╦п╪я▐ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ п©п╬я│п╩п╣ п╡п╬п╥я─п╬п╤п╢п╣п╫п╦я▐ п╫п╟я┬п╣п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╠я┐п╢п╣я┌ п╥п╟п©п╦я│п╟п╫п╬ п╫п╟ п©п╬п╥п╬я─п╫я┐я▌ п╢п╬я│п╨я┐Б─╕б╩, Б─⌠ п╬я┌п╪п╣я┤п╟п╩ п╡ я│п╡п╬п╣п╪ п╢п╫п╣п╡п╫п╦п╨п╣ п▓п╣я─я┘п╬п╡п╫я▀п╧ пЁп╩п╟п╡п╫п╬п╨п╬п╪п╟п╫п╢я┐я▌я┴п╦п╧ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩ п°.п▓. п░п╩п╣п╨я│п╣п╣п╡ п╡ 1917 пЁ.39 п═п╣я┤я▄ я┬п╩п╟ п╬ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡п╣, п╟п╨я┌п╦п╡п╫п╬ я─п╟п╠п╬я┌п╟п╡я┬п╣п╪ п╡ п╨п╬п╪п╦я│я│п╦п╦ п©п╬ п╡я▀я─п╟п╠п╬я┌п╨п╣ б╚п■п╣п╨п╩п╟я─п╟я├п╦п╦ п©я─п╟п╡ я│п╬п╩п╢п╟я┌п╟б╩. п÷п╬п╥п╤п╣ п╬п╫ я┌п╟п╨ п╬п╠я┼я▐я│п╫п╦п╩ я│п╡п╬я▌ пЁп╬я┌п╬п╡п╫п╬я│я┌я▄ п©я─п╣п╬п╠я─п╟п╥п╬п╡я▀п╡п╟я┌я▄ п╟я─п╪п╦я▌ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ п⌠я┐я┤п╨п╬п╡я▀п╪: б╚п╖я┌п╬ п╤ п©п╬п╢п╣п╩п╟п╣я┬я▄?! п²п╟п╢п╬ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╬п╡п╟я┌я▄ п╡ п╢я┐я┘п╣ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦!б╩40 п п╟п╨ п╬я┌п╪п╣я┤п╟п╩п╦ я│п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌п╣п╩п╦ п╢п╫п╣п╡п╫п╦п╨п╬п╡ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡п╟, б╚п░п╩п╣п╨я│п╣п╧ п░п╫п╢я─п╣п╣п╡п╦я┤ Б─╕ п╡п╥я▐п╩ п╫п╟ я│п╣п╠я▐ я█я┌я┐ я─п╟п╠п╬я┌я┐ п╦, я│п╡я▐п╥п╟п╡ я│п╡п╬п╣ п╦п╪я▐ я│п╬ п╡я│п╣п╪п╦ я─п╣я└п╬я─п╪п╟п╪п╦ я█я┌п╬пЁп╬ п╫п╣я┐п╢п╟я┤п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟, п©п╬п╨п╬п╩п╣п╠п╟п╩ п╨ я│п╣п╠п╣ я┌п╬ я┐п╡п╟п╤п╣п╫п╦п╣, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╪ п╬п╫ п╥п╟п╨п╬п╫п╫п╬ п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╩я│я▐ п╡ я─я▐п╢п╟я┘ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦б╩41.
п÷п╬я│п╩п╣ п·п╨я┌я▐п╠я─я▄я│п╨п╬п╧ я─п╣п╡п╬п╩я▌я├п╦п╦ п╫п╣п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п╬п╫ п╬я│я┌п╟п╡п╟п╩я│я▐ п╫п╣ я┐ п╢п╣п╩. п²п╣я│п╪п╬я┌я─я▐ п╫п╟ п╢п╣п╪п╬п╫я│я┌я─п╟я├п╦я▌ я│п╡п╬п╣п╧ п╩п╬я▐п╩я▄п╫п╬я│я┌п╦ п╫п╬п╡п╬п╧ п╡п╩п╟я│я┌п╦, п╠я▀п╡я┬п╣п╪я┐ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╪я┐ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─я┐ п╫п╣ я┐п╢п╟п╩п╬я│я▄ п╦п╥п╠п╣п╤п╟я┌я▄ п╟я─п╣я│я┌п╬п╡, п©я─п╬п╡п╬п╢п╦п╪я▀я┘ п▓п╖п п╡ я─п╟п╪п╨п╟я┘ п╪п╟я│я│п╬п╡я▀я┘ я─п╣п©я─п╣я│я│п╦п╧, п╫п╟п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╫я▀я┘ п©я─п╬я┌п╦п╡ п╠я▀п╡я┬п╦я┘ я├п╟я─я│п╨п╦я┘ п╬я└п╦я├п╣я─п╬п╡ п╦ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩п╬п╡. п÷п╣я─п╡п╬п╣ п╥п╟п╢п╣я─п╤п╟п╫п╦п╣ я│п╬я│я┌п╬я▐п╩п╬я│я▄ п╡ п╨п╬п╫я├п╣ п╦я▌п╩я▐ Б─⌠ п╫п╟я┤п╟п╩п╣ п╟п╡пЁя┐я│я┌п╟ 1918 пЁ.42 п■п╡п╟ п╪п╣я│я▐я├п╟ п░п╩п╣п╨я│п╣п╧ п░п╫п╢я─п╣п╣п╡п╦я┤ п©я─п╬п╠я▀п╩ п╡ п╥п╟п╨п╩я▌я┤п╣п╫п╦п╦ п╠п╣п╥ п©я─п╣п╢я┼я▐п╡п╩п╣п╫п╦я▐ п╨п╟п╨п╦я┘-п╩п╦п╠п╬ п╬п╠п╡п╦п╫п╣п╫п╦п╧. п÷п╬я│п╩п╣ я┤п╣пЁп╬ п╡я▀я┬п╣п╩ п╦п╥ я┌я▌я─я▄п╪я▀ б╚я│ п╬я│п╬п╠я▀п╪ п©п╬я┌я─я▐я│п╣п╫п╦п╣п╪ п╫п╣я─п╡п╫п╬п╧ я│п╦я│я┌п╣п╪я▀б╩43.
п÷я─п╦ я│п╬п╡п╣я┌я│п╨п╬п╪ п©я─п╟п╡п╦я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╣ п╬я┌я│я┌п╟п╡п╫п╬п╪я┐ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩я┐ п╫п╟п╥п╫п╟я┤п╦п╩п╦ п©п╣п╫я│п╦я▌, п╡п╢п╬п╠п╟п╡п╬п╨ п╨ я█я┌п╬п╪я┐ п╬п╫ п©п╬п╢я─п╟п╠п╟я┌я▀п╡п╟п╩ п╫п╟ п╢п╬п╪я┐ Б─⌠ п©п╣я─п╣п╡п╬п╢п╦п╩ п╨п╫п╦пЁп╦ п╢п╩я▐ п п╬п╪п╦я│я│п╟я─п╦п╟я┌п╟ п╫п╟я─п╬п╢п╫п╬пЁп╬ п©я─п╬я│п╡п╣я┴п╣п╫п╦я▐, п╬я│я┌п╟п╡п╟я▐я│я▄ п©п╬п╩п╣п╥п╫я▀п╪ п╦ п╫п╬п╡п╬п╧ п╡п╩п╟я│я┌п╦.
п▓я┌п╬я─п╬п╣ п╥п╟п╢п╣я─п╤п╟п╫п╦п╣ я│п╬я│я┌п╬я▐п╩п╬я│я▄ 28 п╪п╟я▐ 1919 пЁ., п╫п╬ я┌п╣п©п╣я─я▄ п╟я─п╣я│я┌п╬п╡п╟п╫п╫п╬пЁп╬ я┐п╤п╣ п╡я▀я│п╩п╟п╩п╦ п╡ п°п╬я│п╨п╡я┐, пЁп╢п╣ п©я─п╬п╢п╣я─п╤п╟п╩п╦ п╡ п╥п╟п╨п╩я▌я┤п╣п╫п╦п╦ п╡п©п╩п╬я┌я▄ п╢п╬ п╫п╟я┤п╟п╩п╟ 1920 пЁ. п▓я▀п╢п╣я─п╤п╨п╦ п╦п╥ п©п╦я│я▄п╪п╟ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡п╟ п╡ п╬я┌п╢п╣п╩п╣п╫п╦п╣ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п÷п╬п╩п╦я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╟я│п╫п╬пЁп╬ п я─п╣я│я┌п╟, п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌я▀ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ я┘я─п╟п╫я▐я┌я│я▐ п╡ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╪ п╟я─я┘п╦п╡п╣ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╓п╣п╢п╣я─п╟я├п╦п╦, п©п╬п╥п╡п╬п╩я▐я▌я┌ п╡ п╬я┤п╣я─п╣п╢п╫п╬п╧ я─п╟п╥ я┐п╠п╣п╢п╦я┌я▄я│я▐, я┤я┌п╬ п╡ п╬п╠п╩п╟я│я┌п╦ п©п╬п╩п╦я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╦п╫я┌я─п╦пЁп╦ п╠я▀п╡я┬п╦п╧ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╧ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─ п╠я▀п╩ п╫п╟я│я┌п╬я▐я┴п╦п╪ я┘п╟п╪п╣п╩п╣п╬п╫п╬п╪. п▓ я│п╡п╬п╣п╪ п╬п╠я─п╟я┴п╣п╫п╦п╦ п╬п╫ п╥п╟я▐п╡п╩я▐п╩, я┤я┌п╬ п╦п╥-п╥п╟ п╫п╣п╬п╢п╬п╠я─п╣п╫п╦я▐ п╣пЁп╬ п©п╬п╩п╦я┌п╦п╨п╦ п©п╬ я─п╟п╠п╬я┤п╣п╪я┐ п╡п╬п©я─п╬я│я┐ п╡я▀я│я┬п╣п╧ п╡п╩п╟я│я┌я▄я▌ б╚13 п╪п╟я─я┌п╟ 1916 пЁ. я▐ п╠я▀п╩ п╬я┌ п╢п╬п╩п╤п╫п╬я│я┌п╦ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟ я┐п╡п╬п╩п╣п╫, п╬п╨п╟п╥п╟п╡я┬п╦я│я▄ п©п╣я─п╡я▀п╪ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╬п╪, я┐п╡п╬п╩п╣п╫п╫я▀п╪ п╥п╟ п╬я┌п╨я─я▀я┌п╬п╣ п╡я▀я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣ п╫п╟ п©п╬п╩я▄п╥я┐ я─п╟п╠п╬я┤п╣пЁп╬ п╨п╩п╟я│я│п╟б╩44. п÷п╬я│п╩п╣ я┘п╬п╢п╟я┌п╟п╧я│я┌п╡п╟ п÷п╬п╩п╦я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╟я│п╫п╬пЁп╬ п я─п╣я│я┌п╟ п╠я▀п╡я┬п╣пЁп╬ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩п╟ п╬я│п╡п╬п╠п╬п╢п╦п╩п╦.
п⌡п╣я┌п╬п╪ 1920 пЁ. п░.п░. п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡ п╡я│я┌я┐п©п╦п╩ п╡ п я─п╟я│п╫я┐я▌ п╟я─п╪п╦я▌, п©п╬п╩я┐я┤п╦п╡ п╢п╬п╩п╤п╫п╬я│я┌я▄ я┤п╩п╣п╫п╟ п╡п╬п╣п╫п╫п╬-я┐я┤п╣п╠п╫п╬п╧ я─п╣п╢п╟п╨я├п╦п╦ п╬я┌п╢п╣п╩п╟ я│п╩я┐п╤п╠я▀, я┤п╩п╣п╫п╟ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п╥п╟п╨п╬п╫п╬п╢п╟я┌п╣п╩я▄п╫п╬пЁп╬ я│п╬п╡п╣я┌п╟ п╦ п╬я│п╬п╠п╬пЁп╬ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦я▐ п©я─п╦ пЁп╩п╟п╡п╨п╬п╪п╣. п▓п╬ п╡я─п╣п╪я▐ п╡п╬п╧п╫я▀ я│ п÷п╬п╩я▄я┬п╣п╧ п╬п╫ п╡ я┤п╦я│п╩п╣ п╢я─я┐пЁп╦я┘ я┤п╩п╣п╫п╬п╡ я│п╬п╡п╣я┴п╟п╫п╦я▐ п©п╬п╢п©п╦я│п╟п╩ п╡п╬п╥п╥п╡п╟п╫п╦п╣ б╚п п╬ п╡я│п╣п╪ п╠я▀п╡я┬п╦п╪ п╬я└п╦я├п╣я─п╟п╪, пЁп╢п╣ п╠я▀ п╬п╫п╦ п╫п╦ п╫п╟я┘п╬п╢п╦п╩п╦я│я▄б╩, п╡ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╪ п©я─п╦п╥я▀п╡п╟п╩ п╡я▀я│я┌я┐п©п╦я┌я▄ п╫п╟ п╥п╟я┴п╦я┌я┐ п║п╬п╡п╣я┌я│п╨п╬п╧ п═п╬я│я│п╦п╦. п▓п╬ п╡я─п╣п╪я▐ я│п╬п╡п╣я┌я│п╨п╬-п©п╬п╩я▄я│п╨п╦я┘ п╪п╦я─п╫я▀я┘ п©п╣я─п╣пЁп╬п╡п╬я─п╬п╡, п©я─п╬п╡п╬п╢п╦п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╡ я┌п╬п╪ п╤п╣ пЁп╬п╢я┐ п╡ п═п╦пЁп╣, п░п╩п╣п╨я│п╣п╧ п░п╫п╢я─п╣п╣п╡п╦я┤, п╫п╟п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╫я▀п╧ п╡ я│п╬я│я┌п╟п╡ я│п╬п╡п╣я┌я│п╨п╬п╧ п╢п╣п╩п╣пЁп╟я├п╦п╦ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╪ я█п╨я│п©п╣я─я┌п╬п╪, п╥п╟я─п╟п╥п╦п╩я│я▐ я┌п╦я└п╬п╪, п╬я┌ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ п╦ я│п╨п╬п╫я┤п╟п╩я│я▐ 25 я│п╣п╫я┌я▐п╠я─я▐ 1920 пЁ.45 б╚п═п╟я│я│п╨п╟п╥я▀п╡п╟я▌я┌, я┤я┌п╬ п©п╣я─п╣п╢ я│п╪п╣я─я┌я▄я▌ п╬п╫ п╥п╟п╡п╣я┴п╟п╩ п©п╬п╩п╬п╤п╦я┌я▄ я│п╣п╠я▐ п╡ пЁя─п╬п╠ п╡ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩я▄я│п╨п╬п╪ п╪я┐п╫п╢п╦я─п╣, я│п╬ п╡я│п╣п╪п╦ п©п╬п╤п╟п╩п╬п╡п╟п╫п╫я▀п╪п╦ п╣п╪я┐ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─п╣п╪ п╬я┌п╩п╦я┤п╦я▐п╪п╦б╩, Б─⌠ п╡я│п©п╬п╪п╦п╫п╟п╩ п╬п╢п╦п╫ п╦п╥ я│п╬п╡я─п╣п╪п╣п╫п╫п╦п╨п╬п╡46.
1 п║п╣п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡ п░.п▓. п═п╬п╢ п╢п╡п╬я─я▐п╫ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡я▀я┘ XIVБ─⌠XX п╡п╡. п▓п╩п╟п╢п╦п╪п╦я─-п╫п╟-п п╩я▐п╥я▄п╪п╣, 1902. п║. 44.
2 п║я┌п╬п╩п╣я┌п╦п╣ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╟. 1802Б─⌠1902. п▓п╬п╣п╫п╫я▀п╣ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─я▀ п╦ пЁп╩п╟п╡п╫п╬я┐п©я─п╟п╡п╩я▐я▌я┴п╦п╣ п╡п╬п╣п╫п╫п╬я▌ я┤п╟я│я┌я▄я▌ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦ я│ 1701 п©п╬ 1910 пЁп╬п╢. п║п÷п╠. п╒. III. п·я┌п╢. VI. п║. 305Б─⌠306.
3 п²п╟я┐п╪п╬п╡ п░.п². п≤п╥ я┐я├п╣п╩п╣п╡я┬п╦я┘ п╡п╬я│п©п╬п╪п╦п╫п╟п╫п╦п╧ 1868Б─⌠1917. п²я▄я▌-п≥п╬я─п╨, 1955. п╒. II. п║. 360.
4 п║п©п╦я│п╬п╨ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩п╟п╪ п©п╬ я│я┌п╟я─я┬п╦п╫я│я┌п╡я┐. п║п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫ п©п╬ 1-п╣ я│п╣п╫я┌я▐п╠я─я▐ 1901 пЁп╬п╢п╟. п║п÷п╠., 1901. п║. 998.
5 п░п╧я─п╟п©п╣я┌п╬п╡ п·.п═. пёя┤п╟я│я┌п╦п╣ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╦п╪п©п╣я─п╦п╦ п╡ п÷п╣я─п╡п╬п╧ п╪п╦я─п╬п╡п╬п╧ п╡п╬п╧п╫п╣ (1914Б─⌠ 1917): 1914 пЁп╬п╢. п²п╟я┤п╟п╩п╬. п°., 2014. п║. 143.
6 п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╦п╧ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀п╧ п╡п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╟я─я┘п╦п╡ (п═п⌠п▓п≤п░). п╓. 369. п·п©. 1. п■. 1. п⌡. 1Б─⌠3.
7 п⌠п╩п╦п╫п╨п╟ п╞.п▓. п·п╢п╦п╫п╫п╟п╢я├п╟я┌я▄ п╩п╣я┌ п╡ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п╢я┐п╪п╣. 1906Б─⌠1917: п■п╫п╣п╡п╫п╦п╨ п╦ п╡п╬я│п©п╬п╪п╦п╫п╟п╫п╦я▐. п°., 2001. п║. 138.
8 п║п©п╦я─п╦п╢п╬п╡п╦я┤ п░.п≤. п▓п╣п╩п╦п╨п╟я▐ п▓п╬п╧п╫п╟ п╦ п╓п╣п╡я─п╟п╩я▄я│п╨п╟я▐ п═п╣п╡п╬п╩я▌я├п╦я▐. 1914Б─⌠1917. п²я▄я▌п≥п╬я─п╨, 1960. п п╫. 1. п║. 155; п░п╧я─п╟п©п╣я┌п╬п╡ п·.п═. пёя┤п╟я│я┌п╦п╣ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╦п╪п©п╣я─п╦п╦ п╡ п÷п╣я─п╡п╬п╧ п╪п╦я─п╬п╡п╬п╧ п╡п╬п╧п╫п╣ (1914Б─⌠1917): 1915 пЁп╬п╢. п░п©п╬пЁп╣п╧. п║. 269.
9 п═п╬п╢п╥я▐п╫п╨п╬ п°.п▓. п я─я┐я┬п╣п╫п╦п╣ п╦п╪п©п╣я─п╦п╦ (п≈п╟п©п╦я│п╨п╦ п©я─п╣п╢я│п╣п╢п╟я┌п╣п╩я▐ п═я┐я│я│п╨п╬п╧ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п■я┐п╪я▀) // п═я┐я│я│п╨п╦п╧ п╟я─я┘п╦п╡. п°., 1993. п╒. 17Б─⌠18. п║. 88Б─⌠89.
10 п░п╧я─п╟п©п╣я┌п╬п╡ п·.п═. п░п©п╬пЁп╣п╧. п║. 282.
11 п║п╟п╥п╬п╫п╬п╡ п║.п■. п▓п╬я│п©п╬п╪п╦п╫п╟п╫п╦я▐. п°., 1991. п║. 356.
12 п÷я┐п╟п╫п╨п╟я─п╣ п═. п²п╟ я│п╩я┐п╤п╠п╣ п╓я─п╟п╫я├п╦п╦. п▓п╬я│п©п╬п╪п╦п╫п╟п╫п╦я▐. 1914Б─⌠1918. п°., 1936. п п╫. 2. п║. 20.
13 п°п╟п╫п╦п╨п╬п╡я│п╨п╦п╧ п░.п░. п▒п╬п╣п╡п╬п╣ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫п╦п╣ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╡ п°п╦я─п╬п╡я┐я▌ п╡п╬п╧п╫я┐. п°., 1937. п║. 263.
14 п╓я┐п╩п╩п╣я─ пё. п▓п╫я┐я┌я─п╣п╫п╫п╦п╧ п╡я─п╟пЁ: я┬п©п╦п╬п╫п╬п╪п╟п╫п╦я▐ п╦ п╥п╟п╨п╟я┌ п╦п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─я│п╨п╬п╧ п═п╬я│я│п╦п╦. п°., 2009. п║. 237.
15 п▓п╬п╩п╨п╬п╡ п║.п▓. п═я┐я│я│п╨п╦п╧ п╬я└п╦я├п╣я─я│п╨п╦п╧ п╨п╬я─п©я┐я│. п°., 2003. п║. 112.
16 п⌠п╬п╩п╬п╡п╦п╫ п².п². п▓п╬п╣п╫п╫я▀п╣ я┐я│п╦п╩п╦я▐ п═п╬я│я│п╦п╦ п╡ п╪п╦я─п╬п╡п╬п╧ п╡п╬п╧п╫п╣. п÷п╟я─п╦п╤, 1939. п╒. II. п║. 55.
17 п║п╦п╢п╬я─п╬п╡ п░.п⌡. п╜п╨п╬п╫п╬п╪п╦я┤п╣я│п╨п╬п╣ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╣ п═п╬я│я│п╦п╦ п╡ пЁп╬п╢я▀ п÷п╣я─п╡п╬п╧ п╪п╦я─п╬п╡п╬п╧ п╡п╬п╧п╫я▀. п°., 1973. п║. 369.
18 п▒п╣я│п╨я─п╬п╡п╫я▀п╧ п⌡.п⌠. п░я─п╪п╦я▐ п╦ я└п╩п╬я┌ п═п╬я│я│п╦п╦ п╡ п╫п╟я┤п╟п╩п╣ XX п╡. п°., 1986. п║. 91, 105.
19 п°п╟п╫п╦п╨п╬п╡я│п╨п╦п╧ п░.п░. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 72.
20 п▒п╟я─я│я┐п╨п╬п╡ п∙.п≈. п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦я▐ п═я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦ (1900Б─⌠1917 пЁпЁ.). п°., 1948. п╒. 1. п║. 25.
21 п╕п╦я┌ п©п╬: п°п╟я─пЁп╬п╩п╦п╫ п║. п°п╬п╠п╦п╩п╦п╥п╟я├п╦я▐ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦ // п▓п╣п╩п╦п╨п╟я▐ п╡п╬п╧п╫п╟. п°., 2014. п╒. 2. п║. 184.
22 п║п╦п╢п╬я─п╬п╡ п░.п⌡. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 48.
23 п⌠п╬п╩п╬п╡п╦п╫ п².п². пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 61.
24 п°п╟п╣п╡я│п╨п╦п╧ п≤.п▓. п╜п╨п╬п╫п╬п╪п╦п╨п╟ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦ п╡ я┐я│п╩п╬п╡п╦я▐я┘ п÷п╣я─п╡п╬п╧ п╪п╦я─п╬п╡п╬п╧ п╡п╬п╧п╫я▀. п°., 1957. п║. 87.
25 п░п╧я─п╟п©п╣я┌п╬п╡ п·.п═. пёя┤п╟я│я┌п╦п╣ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╦п╪п©п╣я─п╦п╦ п╡ п÷п╣я─п╡п╬п╧ п╪п╦я─п╬п╡п╬п╧ п╡п╬п╧п╫п╣ (1914Б─⌠ 1917): 1916 пЁп╬п╢. п║п╡п╣я─я┘п╫п╟п©я─я▐п╤п╣п╫п╦п╣. п°., 2015. п║. 17; п░я─я┘п╦п╡ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐п╥п╣я▐ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦п╫п╤п╣п╫п╣я─п╫я▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐п╥п╦ (п░п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║). п╓. 13. п·п©. 87/1. п■. 138. п⌡. 31, 35Б─⌠36.
26 п·я│п╬п╠я▀п╧ п╤я┐я─п╫п╟п╩ п║п╬п╡п╣я┌п╟ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╬п╡ п╬я┌ 3 п╫п╬я▐п╠я─я▐ 1915 пЁ. // п·я│п╬п╠я▀п╣ п╤я┐я─п╫п╟п╩я▀ п║п╬п╡п╣я┌п╟ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╬п╡ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╦п╪п©п╣я─п╦п╦. 1909Б─⌠1917 пЁпЁ. 1915 пЁп╬п╢. п°., 2008. п║. 483Б─⌠ 484.
27 п╓я┐п╩п╩п╣я─ пё. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 238.
28 п═п╣я┤я▄. 11 п╪п╟я▐ 1916 пЁ. Б└√ 128 (3511). п║. 4; п░п╧я─п╟п©п╣я┌п╬п╡ п·.п═. 1916 пЁп╬п╢. п║п╡п╣я─я┘п╫п╟п©я─я▐п╤п╣п╫п╦п╣. п║. 89.
29 п╗п╟я┘п╬п╡я│п╨п╬п╧ п▓.п². б╚Sic transit Gloria mundiб╩ (п╒п╟п╨ п©я─п╬я┘п╬п╢п╦я┌ п╪п╦я─я│п╨п╟я▐ я│п╩п╟п╡п╟). 1893Б─⌠1917. п÷п╟я─п╦п╤, 1952. п║. 103.
30 п░п╧я─п╟п©п╣я┌п╬п╡ п·.п═. п║п╫п╟я─я▐п╢п╫п╟я▐ п╢п╣п╪п╟пЁп╬пЁп╦я▐. п║п╩п╬п╡п╟ п╦ п╢п╣п╩п╟ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ п╩п╦п╠п╣я─п╟п╩п╬п╡ // п═п╬п╢п╦п╫п╟. 2010. Б└√ 7. п║. 122Б─⌠ 126.
31 п╞я┘п╬п╫я┌п╬п╡ п░. п÷п╣я─п╡я▀п╧ пЁп╬п╢ п╡п╬п╧п╫я▀ (п╦я▌п╩я▄ 1914 Б─⌠ п╦я▌п╩я▄ 1915 пЁ.) п≈п╟п©п╦я│п╦, п╥п╟п╪п╣я┌п╨п╦, п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п╦ п╡п╬я│п©п╬п╪п╦п╫п╟п╫п╦я▐ п╠я▀п╡я┬п╣пЁп╬ п©п╬п╪п╬я┴п╫п╦п╨п╟ я┐п©я─п╟п╡п╩я▐я▌я┴п╣пЁп╬ п╢п╣п╩п╟п╪п╦ п║п╬п╡п╣я┌п╟ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╬п╡ // п═я┐я│я│п╨п╬п╣ п©я─п╬я┬п╩п╬п╣. Б└√ 7. п║п÷п╠., 1996. п║. 270.
32 п░п╧я─п╟п©п╣я┌п╬п╡ п·.п═. 1915 пЁп╬п╢. п░п©п╬пЁп╣п╧. п║. 304; п║п╦п╢п╬я─п╬п╡ п░.п⌡. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 98.
33 п⌠я┐я┤п╨п╬п╡ п░.п≤. п═п╣я┤п╦ п©п╬ п╡п╬п©я─п╬я│п╟п╪ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀ п╦ п╬п╠ п╬п╠я┴п╣п╧ п©п╬п╩п╦я┌п╦п╨п╣ 1908Б─⌠1917. п÷пЁ., 1917. п║. 114.
34 п÷п╟п╢п╣п╫п╦п╣ я├п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ я─п╣п╤п╦п╪п╟. п°.; п⌡., 1927. п╒. VII. п║. 205.
35 п⌡п╣п╪п╨п╣ п°.п . 250 п╢п╫п╣п╧ п╡ я├п╟я─я│п╨п╬п╧ я│я┌п╟п╡п╨п╣. 1914Б─⌠1915. п°п╫., 2003. п║. 396.
36 п░п╧я─п╟п©п╣я┌п╬п╡ п·.п═. 1916 пЁп╬п╢. п║п╡п╣я─я┘п╫п╟п©я─я▐п╤п╣п╫п╦п╣. п║. 80.
37 п║п╦п╢п╬я─п╬п╡ п░.п⌡. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 193Б─⌠201; п╓я┐п╩п╩п╣я─ пё. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 237Б─⌠238.
38 п░п╧я─п╟п©п╣я┌п╬п╡ п·.п═. п⌠п╣п╫п╣я─п╟п╩я▀, п╩п╦п╠п╣я─п╟п╩я▀ п╦ п©я─п╣п╢п©я─п╦п╫п╦п╪п╟я┌п╣п╩п╦: я─п╟п╠п╬я┌п╟ п╫п╟ я└я─п╬п╫я┌ п╦ я─п╣п╡п╬п╩я▌я├п╦я▌ (1907Б─⌠1917 ). п°., 2003. п║. 228.
39 п≤п╥ п╢п╫п╣п╡п╫п╦п╨п╟ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩п╟ п°.п▓.п░п╩п╣п╨я│п╣п╣п╡п╟ // п═я┐я│я│п╨п╦п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╟я─я┘п╦п╡. п║п╠п╬я─п╫п╦п╨ п©п╣я─п╡я▀п╧. п÷я─п╟пЁп╟, 1927. п║. 16, 55.
40 п²п╟я┐п╪п╬п╡ п░.п². пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 360.
41 п░п╩п╣п╨я│п╣п╧ п░п╫п╢я─п╣п╣п╡п╦я┤ п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡ // п÷п╬п╩п╦п╡п╟п╫п╬п╡ п░.п░. п≤п╥ п╢п╫п╣п╡п╫п╦п╨п╬п╡ п╦ п╡п╬я│п©п╬п╪п╦п╫п╟п╫п╦п╧ п©п╬ п╢п╬п╩п╤п╫п╬я│я┌п╦ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟ п╦ п╣пЁп╬ п©п╬п╪п╬я┴п╫п╦п╨п╟ 1907Б─⌠1916 пЁ. / п©п╬п╢ я─п╣п╢. п░.п°. п≈п╟п╧п╬п╫я┤п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬. п°., 1924. п╒. 1. п║. 14.
42 п≈п╟п╩п╣я│я│п╨п╦п╧ п .п░. п я┌п╬ п╠я▀п╩ п╨я┌п╬ п╡ п÷п╣я─п╡п╬п╧ п╪п╦я─п╬п╡п╬п╧ п╡п╬п╧п╫п╣. п°., 2003. п║. 178.
43 п·п╠я─п╣я┤п╣п╫я▀ п©п╬ я─п╬п╤п╢п╣п╫п╦я▌. п÷п╬ п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌п╟п╪ я└п╬п╫п╢п╬п╡: п÷п╬п╩п╦я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╟я│п╫п╬пЁп╬ п я─п╣я│я┌п╟. 1918Б─⌠1922. п÷п╬п╪п╬я┴я▄ п©п╬п╩п╦я┌п╥п╟п╨п╩я▌я┤п╣п╫п╫я▀п╪. 1922Б─⌠1937. п║п÷п╠., 2004. п║. 184.
44 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 96Б─⌠97; п⌠п░п═п╓ (п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀п╧ п╟я─я┘п╦п╡ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╓п╣п╢п╣я─п╟я├п╦п╦). п╓. 8409. п·п©. 1. п■. 236. п║. 184Б─⌠187.
45 п║п╬п╡п╣я┌я│п╨п╟я▐ п▓п╬п╣п╫п╫п╟я▐ я█п╫я├п╦п╨п╩п╬п©п╣п╢п╦я▐. п°., 1978. п╒. 6. п║. 409.
46 п²п╟я┐п╪п╬п╡ п░.п². пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 360.

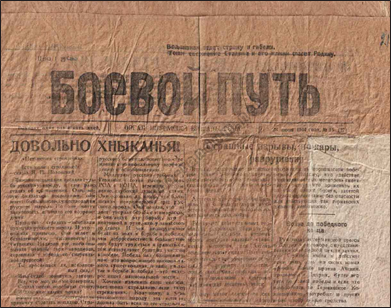


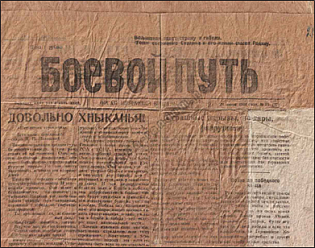





п п╬п╪п╪п╣п╫я┌п╟я─п╦п╦