–Х.–Ш. –Ѓ—А–Ї–µ–≤–Є—З (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥) –Я–Њ–±–µ–і–∞ –Є –њ—А–Њ–≤–∞–ї: –Ї —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—О –Ы—Г—Ж–Ї–Њ–≥–Њ (–С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ) –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞
–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є
–І–∞—Б—В—М V–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥
¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016
¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2016
¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016
–Т –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–Љ –≥–Њ–і—Г –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–µ –Ы—Г—Ж–Ї–Њ–≥–Њ (–С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ) –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞. –Ш –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ, –Є –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ–љ –≤–Њ—И–µ–ї –Ї–∞–Ї –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ–∞—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–≤—И–∞—П —Б–Њ–±–Њ–є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Б—В—А–∞–љ –Р–љ—В–∞–љ—В—Л1. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М —Н—В–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ (1853вАУ1926) –±—Л–ї —Г–≤–µ–љ—З–∞–љ –ї–∞–≤—А–∞–Љ–Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞ —Н—В–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л2. –Я–Њ–њ—А–Њ–±—Г–µ–Љ –µ—Й–µ —А–∞–Ј –њ—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И—Г—О—Б—П –Ї –≤–µ—Б–љ–µ 1916 –≥. –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О, —Е–Њ–і –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Р.–Р. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞ вАУ —О–±–Є–ї–µ–є–љ–∞—П –і–∞—В–∞ –Ї —В–Њ–Љ—Г –Њ–±—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В.
–Т 1916 –≥. —Б—В—А–∞–љ—Л –Р–љ—В–∞–љ—В—Л –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Є –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –Є –≤ –Ш—В–∞–ї–Є–Є, –Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Э–Њ вАУ –љ–µ —А–∞–љ—М—И–µ –ї–µ—В–∞. –Я–µ—А–≤–Њ–є –ґ–µ, –Є –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–љ—М—И–µ, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В—М –†–Њ—Б—Б–Є—П. –°–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Є, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞—И–Є –ї—О–і—Б–Ї–Є–µ —А–µ—Б—Г—А—Б—Л –љ–µ–Є—Б—З–µ—А–њ–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є, –љ–∞–≥–ї–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–Ї–Њ—А–µ–є—И–µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –љ–µ –≥–љ—Г—И–∞—П—Б—М –і–∞–ґ–µ —И–∞–љ—В–∞–ґ–Њ–Љ –≤ –≤–Є–і–µ —Г–≥—А–Њ–Ј –њ—А–Є–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є. –Э–∞—И–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Є3. –Р.–Р. –Ъ–µ—А—Б–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Б –≥–Њ—А–µ—З—М—О —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ц. –Ц–Њ—Д—Д—А ¬Ђ–њ–Њ–Љ—Л–Ї–∞–ї –љ–∞—И–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ–Є –Ї–∞–Ї —Б–µ–љ–µ–≥–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–∞–њ—А–∞–ї–∞–Љ–Є¬ї4. –Ш—В–∞–Ї, –≤ –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—О 1916 –≥. —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В—МвА¶
–Я–Њ–≤–Њ–і –Ї –љ–∞—И–µ–Љ—Г —Б–Ї–Њ—А–µ–є—И–µ–Љ—Г –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О —Г —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—И–µ–ї—Б—П –Њ—З–µ–љ—М –±—Л—Б—В—А–Њ вАУ 8 (21) —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –љ–µ–Љ—Ж—Л –љ–∞—З–∞–ї–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Т–µ—А–і–µ–љ. –Х–≥–Њ –њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –≥—А–Њ–Ј–Є–ї–Њ –Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–љ–≥–∞ —Д—А–Њ–љ—В–∞ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Њ –і–Њ—А–Њ–≥—Г –љ–∞ –Я–∞—А–Є–ґ. –§—А–∞–љ—Ж–Є—П —Б–љ–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –≤ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є —Б—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ5.
5 –Љ–∞—А—В–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ (–≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є –Р.–Э. –Ъ—Г—А–Њ–њ–∞—В–Ї–Є–љ) –Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ (–≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є –Р.–Х. –≠–≤–µ—А—В) —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤, –љ–∞—З–∞—В–Њ–µ –Ј–∞ —В—А–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –і–Њ –љ–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ. –Ф–µ—Б—П—В—М –і–љ–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –њ–Њ—З—В–Є –±–µ–Ј –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –≤ –ї–Њ–± –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Њ–Ј. –Э–∞—А–Њ—З—М. –С–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–±–Њ–Є—Й–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—И–Є –њ–Њ—В–µ—А–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є 9000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ вАУ 10 000, –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В—В–µ–њ–µ–ї—М. –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є —Д—А–Њ–љ—В —Б 8 –њ–Њ 12 –Љ–∞—А—В–∞ –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—А–≤–∞—В—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —Г –ѓ–Ї–Њ–±—И—В–∞–і—В–∞, –њ–Њ—В–µ—А—П–≤ 60 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Э–µ–Љ—Ж—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —И–Њ–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —Н—В–Є–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ —Ж–µ–ї—Г—О –љ–µ–і–µ–ї—О –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є –∞—В–∞–Ї–Є –њ–Њ–і –Т–µ—А–і–µ–љ–Њ–Љ. –Р –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАУ –љ–Є –Њ–і–Є–љ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ –љ–µ —Г–±—Л–ї –Є–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—О. –Р —Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П –Љ—Г–ґ–Є—З–Ї–Њ–≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ вАУ —Н—В–Њ –Є —Г—В–µ—И–∞–ї–Њ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤6.
1 –∞–њ—А–µ–ї—П –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ –њ–Њ–і –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є—Е —Д—А–Њ–љ—В–∞–Љ–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤ –≥—А—П–і—Г—Й—Г—О –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—О.
–Я–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Њ–Љ –Љ–∞—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –≠–≤–µ—А—В –Є –Ъ—Г—А–Њ–њ–∞—В–Ї–Є–љ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В. –Ы—О–±–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–љ–Є –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –љ–µ—Г–і–∞—З—Г, –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А—Г—П —Н—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–Љ–Є –Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–Љ –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤ –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Ъ–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤. –Ш –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В—М, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –Њ–њ—П—В—М –і–∞–≤–Є–ї–Є —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Є. –У–ї–∞–≤–љ—Л–є —Г–і–∞—А –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –љ–∞–љ–Њ—Б–Є—В—М –Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є —Д—А–Њ–љ—В –Њ—В –Ь–Њ–ї–Њ–і–µ—З–љ–Њ –љ–∞ –Ю—И–Љ—П–љ—Л –Є –Т–Є–ї—М–љ–Њ, –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –љ–∞–љ–µ—Б—В–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–і–∞—А –Њ—В –Ф–≤–Є–љ—Б–Ї–∞ –љ–∞ –°–≤–µ–љ—Ж—П–љ—Л, –∞ –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є вАУ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –†–Њ–≤–љ–Њ. –Э–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—З–∞—В—М—Б—П 18 –Љ–∞—П7.
–С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–Њ–≤—Л–Љ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Ю–љ –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞–љ–µ—Б—В–Є –љ–µ –Њ–і–Є–љ, –∞ —Б—А–∞–Ј—Г —З–µ—В—Л—А–µ —Г–і–∞—А–∞ вАУ –њ–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –≤ –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є —Д—А–Њ–љ—В –∞—А–Љ–Є–є (7, 8, 9 –Є 11-–є), –њ—А–Є—З–µ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –њ—А–Њ—А—Л–≤–Њ–≤ –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –љ–µ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –Є–±–Њ –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї –ї–Є—И—М –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–і–∞—А. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞—А–Љ —Б–∞–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Г–і–∞—А–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –У–ї–∞–≤–љ—Л–є —Г–і–∞—А –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї–∞ 8-—П –∞—А–Љ–Є—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ–∞–ї–µ–і–Є–љ–∞ –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Ы—Г—Ж–Ї.
–Я—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –±—Л—В—М —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–∞ –і–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ–∞, –љ–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В–Њ—З–љ–Њ, –њ–Њ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –њ—А–Є—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ—Л–Љ —Ж–µ–ї—П–Љ. –Ю—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Г–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–Ї—А—Г—И–Є—В—М —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Р–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Б–µ—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б –∞—Н—А–Њ—Б—В–∞—В–Њ–≤ –Є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є. –Я—А–Њ—А—Л–≤–∞—В—М –Љ–Њ—Й–љ—Л–µ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ—Б—Л –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞—Е. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≤–µ–ї–∞—Б—М —Б –љ–µ–≤–Є–і–∞–љ–љ–Њ–є –і–Њ—Б–µ–ї–µ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –±—Л–ї–∞ –≤—Л—И–µ –≤—Б—П–Ї–Є—Е –њ–Њ—Е–≤–∞–ї.
–Т –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞, –њ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ, –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ 600 —В—Л—Б—П—З —И—В—Л–Ї–Њ–≤, 60 —В—Л—Б—П—З —Б–∞–±–µ–ї—М, 2017 –Њ—А—Г–і–Є–є, 2480 –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–Њ–≤. –£ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Ж–µ–≤ –±—Л–ї–Њ –Њ—В 570 –і–Њ 600 —В—Л—Б—П—З —И—В—Л–Ї–Њ–≤, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 30 —В—Л—Б—П—З —Б–∞–±–µ–ї—М –Є 2731 –Њ—А—Г–і–Є–µ8.
22 –Љ–∞—П –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ 11-—П –∞—А–Љ–Є—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Њ—В –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є –Т.–Т. –°–∞—Е–∞—А–Њ–≤–∞ –Є 11-—П вАУ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є –Я.–Р. –Ы–µ—З–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ. 23 –Љ–∞—П –њ–Њ—И–ї–∞ –≤–њ–µ—А–µ–і 8-—П –∞—А–Љ–Є—П –Р.–Ь. –Ъ–∞–ї–µ–і–Є–љ–∞, –∞ 24 вАУ 7-—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є –Ф.–У. –©–µ—А–±–∞—З–µ–≤–∞.
–£—Б–њ–µ—Е –њ—А–µ–≤–Ј–Њ—И–µ–ї –≤—Б–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –љ–∞ –ї—Г—Ж–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –Ы—Г—Ж–Ї вАУ —Г–ґ–µ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј вАУ –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–µ–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Р.–Ш. –Ф–µ–љ–Є–Ї–Є–љ–∞. 28 –Љ–∞—П –≤–Ј—П—В –Ф—Г–±–љ–Њ. –Э–Њ –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤, —Г–і–µ–ї—П–≤—И–Є–є, –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –њ–ї–∞–љ–∞ –°—В–∞–≤–Ї–Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ъ–Њ–≤–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О, –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–∞–ї —А–≤—Г—Й–Є–µ—Б—П –Ї –Ы—Г—Ж–Ї—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –µ—Й–µ —Б–∞–Љ –љ–µ –Њ—В–і–∞–≤–∞—П —Б–µ–±–µ –Њ—В—З–µ—В–∞ –≤ –Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і–µ, 26 –Љ–∞—П –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–≤ –Ъ–∞–ї–µ–і–Є–љ—ГвА¶ –њ—А–Є–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤—Л—А–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ –µ–≥–Њ –∞—А–Љ–Є–Є –Є –њ–Њ–і—А–∞–≤–љ—П—В—М —Д–ї–∞–љ–≥–Є –њ–Њ –Њ—В—Б—В–∞–≤—И–Є–Љ! –Т–µ–і—М –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є —Д—А–Њ–љ—В –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–і–∞—А, –Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–≤–∞—В—М—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –љ–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—ПвА¶ –Э–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –Р.–Ь. –Ъ–∞–ї–µ–і–Є–љ –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї –і–ї—П –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –і–Њ–±–Є–≤–∞–љ–Є—П –±–µ–≥—Г—Й–µ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞ –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –µ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –і–≤–∞ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, –љ–µ –≤–µ—А—П –≤ –Є—Е —Г—Б–њ–µ—Е. –Р –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –љ–µ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –Є–Љ–µ–≤—И–µ–є—Б—П –љ–∞ –ї—Г—Ж–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є вАУ 12-–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –±–∞—А–Њ–љ–∞ –Ъ.–У. –Ь–∞–љ–љ–µ—А–≥–µ–є–Љ–∞ вАУ –Ъ–∞–ї–µ–і–Є–љ –љ–µ –і–∞–ї —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±–µ–≥—Г—Й–µ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—О –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞—А–Љ—Л —Д—А–Њ–љ—В–∞. –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П вАУ —Н—В–Њ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –Ґ—Г–Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Є –Ґ–µ–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞. –Ґ–∞–Ї, —В–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л 28 –Љ–∞—П –≤ –±–Њ—О —Г –Ф–Њ–±—А–Њ–љ–Њ—Г—Ж–∞, –Є–Љ–µ—П –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —А—П–і–∞—Е –≤—Б–µ–≥–Њ 600 –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є–Ј—А—Г–±–Є–ї–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 2 —В—Л—Б—П—З –Є –≤–Ј—П–ї–Є –≤ –њ–ї–µ–љ 3 —В—Л—Б—П—З–Є –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Ж–µ–≤9. –Т–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г–≤—И–Є–µ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–µ –≤ –њ–ї–∞–љ–µ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –Є –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ, –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —П–≤–ї—П–ї–Є —З—Г–і–µ—Б–∞ —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В–Є –Є –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ–∞.
30 –Љ–∞—П –Њ–±–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–і–Њ—Е–ї–Є—Б—М. –Я—А–∞–≤–і–∞, —Г –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞ –µ—Й–µ –±—Л–ї–∞ –≤ —А–µ–Ј–µ—А–≤–µ —Б–≤–µ–ґ–∞—П –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—П, –љ–Њ –Њ–љ–∞ —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М —Б–Є–і–µ—В—М –≤ –Њ–Ї–Њ–њ–∞—ЕвА¶ –Р –њ—А–Є–Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П —Б–≤–Њ–Є —Д–ї–∞–љ–≥–Є –Є –≤—Л—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—П –Є—Е –њ–Њ –Њ—В—Б—В–∞–≤—И–Є–Љ, –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ –њ–Њ–≥–∞—Б–Є–ї –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—А—Л–≤ –≤–Њ–є—Б–Ї. –Р–≤—Б—В—А–Є–є—Ж—Л –њ–Њ—В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —Б–µ–±—П, –∞ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАУ –Є–Љ –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М, –њ–Њ–і –Ъ–Њ–≤–µ–ї—М, —И–ї–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Ы–Є–љ–Ј–Є–љ–≥–µ–љ–∞. 2 –Є—О–љ—П –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–µ –∞—А–Љ–Є–Є, –∞ 3 –Є—О–љ—П –њ–Њ–і –Ъ–Њ–≤–µ–ї–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б—В—А–µ—З–љ—Л–µ –±–Њ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї. –Ш, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ —З—В–Њ —И–Є—А–Є–љ–∞ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –і–Њ 550 –Ї–Љ, –∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ –і–Њ 120 –Ї–Љ, –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Ж—Л –љ–µ –±—Л–ї–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–±–Є—В—Л, –∞ –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є —Д—А–Њ–љ—В –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –Є—В–Њ–≥–µ —Г–њ–µ—А—Б—П –≤ –Љ–Њ—Й–љ–µ–є—И–Є–є –Ъ–Њ–≤–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–є —А–∞–є–Њ–љ, –±—Л–≤—И–Є–є –Ї–ї—О—З–Њ–Љ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Я–Њ–ї–µ—Б—М—О. –Р –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї, –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –њ–Њ–і—В—П–љ—Г–ї —А–µ–Ј–µ—А–≤—Л, –Є 16вАУ20 –Є—О–љ—П –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ –Ї–Њ–љ—В—А–љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–µ –±–µ–Ј —В—А—Г–і–∞, –љ–Њ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В–±–Є—В—М.
–Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –љ–Є —Б–∞–±–Њ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Р.–Х. –≠–≤–µ—А—В —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –°—В–∞–≤–Ї–Є –Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—П –Њ—В—Б—А–Њ—З–µ–Ї –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–є—Б–Ї, –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В—М –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Є –µ–Љ—Г. 20 –Є—О–љ—П –Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є —Д—А–Њ–љ—В –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –љ–∞–љ–Њ—Б—П –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —Г–і–∞—А –љ–∞ –С–∞—А–∞–љ–Њ–≤–Є—З–Є. –°–њ—Г—Б—В—П –љ–µ–і–µ–ї—О –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≠–≤–µ—А—В–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М, –љ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—М. 26 –Є—О–љ—П –і–Є—А–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–є –°—В–∞–≤–Ї–Є –љ–∞ –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є —Д—А–Њ–љ—В –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–∞–Ї–Є –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Ј–∞–і–∞—З–∞ –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞. –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–Њ–≤–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ, —Е–Њ—В—П –Ј–і—А–∞–≤—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —Г–і–∞—А–∞ –љ–∞ –Ы—М–≤–Њ–≤, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≠–≤–µ—А—В–∞. –Э–Њ –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ —Г–њ–Њ—А–љ–Њ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–∞—З–Є–≤–∞–ї –≤—Б–µ —Г—Б–Є–ї–Є—П –љ–∞ –Ъ–Њ–≤–µ–ї–µ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є —Д—А–Њ–љ—В –љ–∞—З–∞–ї –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М —А–µ–Ј–µ—А–≤—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ–і –Ъ–Њ–≤–µ–ї—М –њ—А–Є–±—Л–ї–∞ –≥–≤–∞—А–і–Є—П, –∞ –Є–Ј —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Г –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ 3-—П –∞—А–Љ–Є—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є –Ы.–Т. –Ы–µ—И–∞10.
–Ш, —Б–Њ–±—А–∞–≤ —Б–Є–ї—Л, 15 –Є—О–ї—П –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ –љ–∞—З–∞–ї —Б–Є–ї–∞–Љ–Є 8-–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є –≥—А—Г–њ–њ—Л –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Њ—В –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є –Т.–Ь. –С–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞, —В. –љ. –Ю—Б–Њ–±–Њ–є (13-–є) –∞—А–Љ–Є–Є (1-–є –Є 2-–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–µ, –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є, 1-–є –Є 30-–є –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, 5-–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б) –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Ъ–Њ–≤–µ–ї—М, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–љ—Л–є –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є –≤ –Љ–Њ—Й–љ–µ–є—И–Є–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–Ј–µ–ї. –Я—А–Є—З–µ–Љ, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л –Њ–±–Њ–є—В–Є –Ї–Њ–≤–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Г–Ї—А–µ–њ—А–∞–є–Њ–љ —Б —Д–ї–∞–љ–≥–Њ–≤, —Б–і–µ–ї–∞–≤ –і–ї—П –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –µ–≥–Њ —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ, –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ —И—В—Г—А–Љ–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –≤ –ї–Њ–±, —З–µ—А–µ–Ј –Ј–∞–±–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Г—О –і–Њ–ї–Є–љ—Г —А–µ–Ї–Є –°—В–Њ—Е–Њ–і. –С–µ—А–µ–≥–∞ –°—В–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б—В–∞–ї–Є –Љ–Њ–≥–Є–ї–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В—Л. –Т –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 15 –Є—О–ї—П –њ–Њ 19 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ —И–µ—Б—В—М (!) —А–∞–Ј –±—А–Њ—Б–∞–ї –µ–µ –љ–∞ –Ъ–Њ–≤–µ–ї—М. –Т–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–∞–ґ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ—О–Ј–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Г—В–Є—Е–Њ–Љ–Є—А–Є—В—М –љ–Є –°—В–∞–≤–Ї–∞, –љ–Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М. –У–≤–∞—А–і–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —Б–µ–±—П –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ. –°—З–Є—В–∞—П –љ–Є–ґ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ–ї–Ј–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–±–µ–ґ–Ї–∞–Љ–Є, –Њ–љ–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ–Њ–ї–љ—Л–є —А–Њ—Б—В11. –Ш –Ї–∞–Ї –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї–∞! 10 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж—Л –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є 17 —А–∞–Ј! –Ш –Є—Б—В–µ–Ї–ї–Є –Ї—А–Њ–≤—М—О. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г ¬Ђ–Ї–Њ–≤–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–є–љ–Є¬ї –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞12вА¶
–Ч–∞ –Ы—Г—Ж–Ї–Є–є –њ—А–Њ—А—Л–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ –Љ–µ—З—В–∞–ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Њ—А–і–µ–љ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П 2-–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є. –Р –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Б –±—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В–∞–Љ–Є. –Ш –Њ—З–µ–љ—М –Њ–±–Є–і–µ–ї—Б—П –љ–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—ПвА¶13
–Ы—Г—Ж–Ї–Є–є –њ—А–Њ—А—Л–≤, –Є–ї–Є ¬Ђ–±—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ¬ї, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –≤–µ—Б—М –µ–µ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є —Е–Њ–і. –Ф–∞, –≤ —Е–Њ–і–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ –Љ–Є—А–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ—А–≤–∞–љ—Л –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –љ–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ. –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л –Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–µ–є—И–Є–µ —В—А–Њ—Д–µ–Є. –Э–Њ —В–∞–Ї –ї–Є –±–ї–Є—Б—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Н—В–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Р.–Р. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Л–Љ, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–є –њ–Њ–і—А—П–і —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є –≤ –°–°–°–†? –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є, —В–∞–Ї –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л. –Ш –Ї —Н—В–Њ–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–µ —Б—В–Њ–Є—В –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–∞—В—М—Б—П!
¬Ђ–Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –µ–≥–Њ (–С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞. вАУ –Х. –Ѓ.) –њ—А–Њ—А—Л–≤ 1916 –≥–Њ–і–∞, –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б–≤–Њ–Є–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–Љ—Г, —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ–Љ—Г –Є —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ—Г –µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Г –Ь.–Т. –•–∞–љ–ґ–Є–љ—Г, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї –љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞, –∞ –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ —Б—Г–Љ–µ–ї –і–∞–ґ–µ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –±–µ–Ј –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞ –і–Њ—Б—В–∞–≤—И—Г—О—Б—П –µ–Љ—Г –њ–Њ–±–µ–і—Г –Є –љ–µ —Б–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —Б –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П, –љ–µ–≤–Ј–Є—А–∞—П –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї—Г—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б–љ–∞—П —А–µ–Ї–ї–∞–Љ–∞ —Б–≤–Є–ї–∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–±–µ–і–љ—Л–є –Њ—А–µ–Њ–ї¬ї, вАУ –њ–Є—Б–∞–ї —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –С.–Т. –У–µ—А—Г–∞14.
¬Ђ–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В вАУ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є –і–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞, –Ј–∞–≤—П–Ј–љ—Г–≤ –≤ –±–Њ–ї–Њ—В–µ. –Я–Њ—З—В–Є –љ–Є–Ї—В–Њ –і–∞–ґ–µ –і–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –љ–µ –і–Њ—И–µ–ї, –Є –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ. –С–µ—Б—Ж–µ–ї—М–љ–Њ –Є –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–≤–∞–µ—В, –ї—Г—З—И–Є–µ –ї—О–і–ЄвА¶¬ї, вАУ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Њ –±–Њ—П—Е –љ–∞ —А. –°—В–Њ—Е–Њ–і –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –ї–µ–є–±-–≥–≤–∞—А–і–Є–Є –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Ѓ.–Т. –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤15.
–Ю ¬Ђ–±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є –±–Њ–є–љ–µ¬ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –°—В–Њ—Е–Њ–і–∞ –њ–Є—Б–∞–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Р.–Ш. –Ф–µ–љ–Є–Ї–Є–љ16.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Њ–± –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –±–µ–ї–Њ—Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–∞–Љ–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞ –Ш.–Ш. –†–Њ—Б—В—Г–љ–Њ–≤: ¬Ђ–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –Ј–∞–Ї–ї—П—В—Л—Е –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П –Ј–ї–Њ–±–љ—Л–µ –≤—Л–њ–∞–і—Л –≤ –µ–≥–Њ (–С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞. вАУ –Х. –Ѓ.) –∞–і—А–µ—Б. –≠—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ: –±–µ–ї–Њ—Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Г —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є¬ї17. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Г —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞ —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ. –Э–Њ –Ї–∞–Ї –ґ–µ –±—Л—В—М —Б –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї–Є –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞ –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Ж—Л —Г–ґ–µ –њ–Њ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є? –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Р.–Р. –°–≤–µ—З–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Р.–Р. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞ –≤ –Ы—Г—Ж–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—А—Л–≤–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –≤ —Е–Њ–і–µ –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є–Є –Њ–± —Н—В–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–µ–є—Б—П –≤ 1920-—Е –≥–≥. –Ш –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–µ –≤ –∞–і—А–µ—Б –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ –°–≤–µ—З–Є–љ –±—Л–ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї18. –Э–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л –Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–Њ–Љ –Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–Љ –Р.–Р. –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ, –і–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е:
¬Ђ–Ъ—А—Г–њ–љ—Л–є —Г—Б–њ–µ—Е –Ы—Г—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞—В—М –Њ—В –љ–∞—Б –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ —Н—В–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М—Б—П –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –Њ—Б–Њ–±–Њ –љ–∞–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—ЕвА¶–Ь–љ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥ –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М –њ—А–Њ—А—Л–≤ –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –љ–∞ —В–∞–Ї—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≥—А–Њ–Ј–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤ –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Н—А—Ж–≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ –§–µ—А–і–Є–љ–∞–љ–і–∞ –Є–ї–Є –µ—Б–ї–Є –±—Л –Ъ–Њ–љ—А–∞–і –љ–µ —Б–љ—П–ї —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞ 20 –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є, –њ–µ—А–µ–±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ш—В–∞–ї–Є–Є? –° —Н—В–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—П —Г—Б–њ–µ—Е –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і –Ы—Г—Ж–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є –і–∞–ґ–µ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П –њ—А–Є–Љ–µ—А –Є—Б–Ї—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Њ—В–і–∞–≤–∞—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Г –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є (–Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ —А—П–і–∞ —Б–Є–ї—М –љ—Л—Е —Г–і–∞—А–Њ–≤ –і–ї—П –Њ–±–Љ–∞–љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞) –Є —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –µ–µ, —П —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–µ, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –±–µ–Ј –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В—М –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Э–∞ —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —В–∞–Ї–Є—Е ¬Ђ–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ–≤¬ї –Ї–∞–Ї –≠–≤–µ—А—В –Є –Ъ—Г—А–Њ–њ–∞—В–Ї–Є–љ —П–≤–љ–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –Є —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М. –Ъ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞–Љ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –љ–∞–і–Њ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є –≤ –ї—О–і—П—Е, –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –љ–∞—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –ї–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ –Ї —Г—З–∞—Б—В–Є –ї—О–і—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—Б, –≤–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж—Г?¬ї19.
–Я–Њ—В–µ—А–Є –ґ–µ —Г –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –±—Л–ї–Є –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є. –° –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Љ–∞—П –њ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1916 –≥. –Њ–љ–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є, –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞–Љ, –Њ—В 800 000 –і–Њ 1 200 000 —З–µ–ї. —Г–±–Є—В—Л–Љ–Є, —А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ–Є –Є –њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –њ—А–µ–≤—Л—Б–Є–≤ –њ–Њ—В–µ—А–Є –∞–≤—Б—В—А–Њ-–≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є–µ, –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ, –Њ—В 600 000 –і–Њ 1 000 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї20. –Ф–∞ —З—В–Њ —В–∞–Љ –љ–µ–Љ—Ж—Л —Б –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Ж–∞–Љ–Є! –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –±—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г ¬Ђ—В–∞–ї–∞–љ—В—Г¬ї, –Є, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є–Љ –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є –±–Њ–є–љ–µ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ъ–Њ–≤–µ–ї—П, –њ–Њ—В–µ—А–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ 1916 –≥. –њ—А–µ–≤—Л—Б–Є–ї–Є –µ–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є 1915 –≥. —Б –µ–≥–Њ ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ¬ї!21 –Э–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ –і–ї—П ¬Ђ–≤—Л–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞¬ї? –Р –≤–µ–і—М –љ–µ –і–∞–ї–µ–µ –Ї–∞–Ї –≤ 1914 –≥. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Я—А–Њ–ї–Є–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –Ї—А–Њ–≤—М вАУ –љ–∞—И–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Є –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ—Л –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–Љ—Б—П, –љ–Њ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞—В—М –µ–µ –Ј—А—П, –≤ –Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –Є —Б –Љ–∞–ї—Л–Љ–Є —И–∞–љ—Б–∞–Љ–Є –љ–∞ —Г—Б–њ–µ—Е вАУ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Њ, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В –љ–∞—И–µ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Є–љ—Л¬ї22. –І—В–Њ –ґ, —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ —Ж–Є—Д—А—Л –њ–Њ—В–µ—А—М –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ —Б –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≤—Л—И–µ —Ж–Є—В–∞—В–Њ–є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –ї–Є—И—М –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј –≤–Њ–Ј–і–∞—В—М —Е–≤–∞–ї—Г —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±—Г–Љ–∞–≥–ЄвА¶
–Ъ—Б—В–∞—В–Є, —З—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ—Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Є–љ—Л¬ї, —В–Њ —Г –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ –≤ –µ–≥–Њ –љ–µ—Г–і–∞—З–∞—Е –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В—Л –≤—Б–µ вАУ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М, –°—В–∞–≤–Ї–∞, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤, –Ъ–∞–ї–µ–і–Є–љ, –У–Є–ї–ї–µ–љ—И–Љ–Є–і—В –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е23. –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ –≥–µ—А–Њ–є –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤ вАУ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ вАУ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–µ—В –њ–Њ—З—В–Є ¬Ђ–±–µ–Ј–≥—А–µ—И–љ—Л–Љ¬ї вАУ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В—Л–Љ, –Ј–∞—В–µ—А—В—Л–Љ –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤ –Р.–Р. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞ вАУ –±–µ–Ј—Г–і–µ—А–ґ–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ —Б–µ–±—П –њ—А–Є —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ –±–µ–Ј—Г–і–µ—А–ґ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Є–≤–∞–љ–Є–Є –≥—А—П–Ј—М—О –±—Л–≤—И–Є—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А—П–і–∞—Е –С–µ–ї—Л—Е –∞—А–Љ–Є–євА¶ –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б –Љ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Р.–Р. –С–Њ–±—А–Њ–≤–∞, –∞–≤—В–Њ—А–∞ –≤—Л—И–µ–і—И–µ–є –≤ 2014 –≥. –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ–С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—А—Л–≤¬ї, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–≤—И–µ–≥–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ–Є–Ј –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є, –∞ –љ–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є –Ї–љ–Є–≥–∞ –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, —Б–∞–Љ–∞—П —З–µ—Б—В–љ–∞—П, —В–∞–Ї—В–Є—З–љ–∞—П –Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–Є–Љ—Л–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–∞–Љ–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–ЄвА¶¬ї24. –£–≤—Л, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–∞–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—ВвА¶
–Ч–і–µ—Б—М —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –≤–Њ–Ј–і–∞—В—М –і–∞–љ—М —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–Љ—Г –≥–µ—А–Њ—О –Ы—Г—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ вАУ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А—Г –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є 8-–є –∞—А–Љ–Є–Є, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А—Г (–≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є вАУ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Г –Њ—В –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є) –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З—Г –•–∞–љ–ґ–Є–љ—Г (1871вАУ1961). –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –µ–≥–Њ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –≤ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≤ –Љ–∞–µ-–Є—О–љ–µ 1916 –≥. –і–∞–ї–Њ —Б—В–Њ–ї—М –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л. –Э–Њ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –≤ –≥–Њ–і—Л –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –•–∞–љ–ґ–Є–љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Г –Ъ–Њ–ї—З–∞–Ї–∞, –Ј–∞—В–µ–Љ —Г—И–µ–ї –≤ —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—О, –≤ 1945 –≥. –≤ –Ф–∞–є—А–µ–љ–µ –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –°–Ь–Х–†–®–∞, 10 –ї–µ—В –Њ—В—Б–Є–і–µ–ї –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –ї–∞–≥–µ—А—П—Е –Є, –≤—Б–µ–Љ–Є –Ј–∞–±—Л—В—Л–є, –≤ 1961 –≥. —Г–Љ–µ—А –≤ –Р–љ–і–Є–ґ–∞–љ–µ25. –Ш –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Њ –Ы—Г—Ж–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—А—Л–≤–µ –Є–Љ—П –•–∞–љ–ґ–Є–љ–∞ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М. –Я—А–Є—И–ї–∞ –њ–Њ—А–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –µ–≥–Њ —В–µ–њ–µ—А—М, –≤ —Б—В–Њ–ї–µ—В–љ—О—О –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ—Г –±–Є—В–≤—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –•–∞–љ–ґ–Є–љ –Є –µ–≥–Њ –њ—Г—И–Ї–∞—А–Є —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–і–∞—О—Й—Г—О—Б—П —А–Њ–ї—М.
–Ш—В–∞–Ї, –њ–Њ–і–≤–µ–і–µ–Љ –Є—В–Њ–≥–Є. –Ъ–∞–Ї –ґ–µ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є ¬Ђ–С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—А—Л–≤¬ї?
–С–ї–µ—Б—В—П—Й–µ –љ–∞—З–∞–≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Є –љ–µ —Б—Г–Љ–µ–≤ –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ –Њ–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И—Г—О –њ–Њ–±–µ–і—Г, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —Б–њ—Г—Б—В—П –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –µ–≥–Њ —В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є—В—М. –°–∞–Љ —Б—В–∞—А—Л–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—Б—В, –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ вАУ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–Є–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л, –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –Є–Љ–µ—О—Й—Г—О—Б—П –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е –µ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ—Г—О –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Г—О (60 —В—Л—Б—П—З —И–∞—И–µ–Ї!) –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—О, –Љ–Њ–≥—Г—Й—Г—О —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —А–µ–Ј–µ—А–≤–Њ–≤. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г–і–∞—А–Њ–≤ –љ–∞ –Ы—Г—Ж–Ї –Є –Ы—М–≤–Њ–≤, –Љ–Њ–≥—Г—Й–Є—Е —Б–Њ–Ї—А—Г—И–Є—В—М –≤–µ—Б—М –∞–≤—Б—В—А–Њ-–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Є–є —Д—А–Њ–љ—В –Є –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є –Є–Ј –≤–Њ–є–љ—Л –Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є—О, –Ј–∞—Ж–Є–Ї–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Ъ–Њ–≤–µ–ї–µ –Є —В—А–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ —Б –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —Г–њ–Њ—А—Б—В–≤–Њ–Љ —И—В—Г—А–Љ—Г–µ—В –µ–≥–Њ –≤ –ї–Њ–±, –љ–∞–њ—А–Њ—З—М —Г–≥—А–Њ–±–Є–≤ –Ј–і–µ—Б—М –У–≤–∞—А–і–Є—ОвА¶ –Я—А–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –Ј–∞ –≤—Л—И–µ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј –Љ—Л—Б–ї–µ–є –њ—А–Є—Б—Г—Й, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –њ–Њ–і–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї—Г, –∞ –љ–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж—ГвА¶ –Ш –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –њ–Њ–љ—П–ї —Д–∞–ї—М—И–Є–≤–Њ—Б—В—М ¬Ђ–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–∞–ї–∞–љ—В–∞¬ї –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Є –љ–µ –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї –µ–Љ—Г –Ј–∞–≤–µ—В–љ—Л–є –±–µ–ї—Л–є –Ї—А–µ—Б—В–Є–ЇвА¶
¬Ђ–Ш—В–∞–Ї, –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П, –љ–∞—З–∞—В–∞—П –≤ –≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ–Љ –±–ї–µ—Б–Ї–µ, –њ–Њ–≥–∞—Б–ї–∞ –≤ –Њ—Б–µ–љ–љ–µ–Љ —Г–љ—Л–љ–Є–Є!¬ї, вАУ –Є–Ј—П—Й–љ–Њ —А–µ–Ј—О–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Є—В–Њ–≥–Є –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –С.–У. –Ы–Є–і–і–µ–ї –У–∞—А—В26. ¬Ђ–Т —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е –Є—О–ї—П-–Њ–Ї—В—П–±—А—П –Њ—Б–ї–µ–њ–ї—П—О—Й–Є–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л –Љ–∞—П-–Є—О–љ—П –±—Л–ї–Є —Г—В–Њ–њ–ї–µ–љ—Л –≤ –Ї—А–Њ–≤–Є –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л—Е –њ–Њ—В–µ—А—М, –∞ –њ–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ –Ї–∞–љ—Г–ї–Є –≤—В—Г–љ–µ¬ї, вАУ –≤—В–Њ—А–Є—В –µ–Љ—Г —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М —Н—В–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Ь.–Т. –Ю—Б—М–Ї–Є–љ27.
–Р –µ—Б–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ, —В–Њ —Б—В–Њ–ї—М –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ –љ–∞—З–∞—В–∞—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ —Б —В—А–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї–∞—Б—М, –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –њ–Њ –≤–Є–љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Р.–Р. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞.
–Т —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –Њ–љ –љ–µ –±–µ–Ј —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ —Г–ґ–µ –ї–µ—В–Њ–Љ 1916 –≥. –µ–≥–Њ –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–ї–Є —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є—Е —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ –µ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞28. –Ф–∞, –Є–Љ—П –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≥—А–µ–Љ–µ–ї–Њ —Г–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞. –Ш —Г–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –Ы—Г—Ж–Ї–Є–є –њ—А–Њ—А—Л–≤ —Б—В–∞–ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ вАУ –љ–µ—З–∞—Б—В–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–µ –њ–Њ –Љ–µ—Б—В—Г –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –∞ –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і—И–µ–≥–Њ –µ–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞29. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ –Є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Њ—З–µ–љ—М –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–µ –Ї –Є—Б—В–Є–љ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–∞ –і–∞–ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Х.–≠. –Ь–µ—Б—Б–љ–µ—А:
¬Ђ–Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–∞—П –њ—А–µ—Б—Б–∞ –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–≤–∞–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є–±–Њ –Љ–∞—Б–Њ–љ–∞ –Є–ї–Є –ґ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤–Њ–Ј–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–њ—А—П–ґ–µ–љ–Њ —Б —Г–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Ж–∞—А–Є–Ј–Љ–∞вА¶
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї—Б—П —Г—Б–њ–µ—Е –Ы—Г—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є –І–µ—А–љ–Њ–≤–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤–Њ–≤, –Є —А–Њ–ґ–і–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞, —З—В–Њ –±–Є—В–≤–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—В –≤–Є–і –њ–Њ–±–µ–і—Л —А–µ—И–∞—О—Й–µ–є –Є –≤–Њ–є–љ—Г –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞—О—Й–µ–є, —В–Њ –≤ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –Њ–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –њ–Њ–±–µ–і–∞ —Н—В–∞вА¶–±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –¶–∞—А—О, –∞ —Н—В–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–Є—В –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—О, —А–µ–ґ–Є–Љ. –І—В–Њ–±—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ: –≤—Б—О —Б–ї–∞–≤—Г –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ вАУ —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –љ–µ –ї—П–ґ–µ—В –љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ. –Ш –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞ —Б—В–∞–ї–Є –≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—М –і–Њ –љ–µ–±–µ—Б, –Ї–∞–Ї –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –љ–Є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞ –У–∞–ї–Є—Ж–Є–є—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–±–µ–і—Г, –љ–Є –Я–ї–µ–≤–µ –Ј–∞ –Ґ–Њ–Љ–∞—И–µ–≤, –љ–Є –°–µ–ї–Є–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞ –Я–µ—А–µ–Љ—Л—И–ї—М, –љ–Є –Ѓ–і–µ–љ–Є—З–∞вА¶ –Ј–∞ –°–∞—А—Л–Ї–∞–Љ—Л—И –Є –Ј–∞ –≠—А–Ј–µ—А—Г–Љ. –Т –±–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ–Љ –≤–Њ—Б—Е–≤–∞–ї–µ–љ–Є–Є –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞ –±–Є—В–≤—Г –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –Я–Њ —В–µ–Љ –ґ–µ –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ —В–∞–Ї–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±–Є—В–≤—Л –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ —В—Г –≤–Њ–є–љ—ГвА¶¬ї30.
–І—В–Њ –ґ–µ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞, —В–Њ –Њ—Б–Љ–µ–ї—О—Б—М –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Ї—А–Њ–Љ–µ –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞, –±—Л–ї–∞ –Є –µ—Й–µ –Њ–і–љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П вАУ –∞–љ–≥–ї–Њ-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Р—А—В—Г–∞ –Є –®–∞–Љ–њ–∞–љ–Є –≤ –∞–њ—А–µ–ї–µ 1917 –≥., –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–Љ –†.-–Ц. –Э–Є–≤–µ–ї–µ–Љ. –Т —Е–Њ–і–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –∞–љ–≥–ї–Њ-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ј–∞ 10 –і–љ–µ–є –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є 340 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Э–Є–≤–µ–ї—М –±—Л–ї –Њ—В—Б—В—А–∞–љ–µ–љ –Њ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –∞ –≤ –∞–љ–љ–∞–ї—Л –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є —Н—В–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ—И–ї–Њ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–С–Њ–є–љ—П –Э–Є–≤–µ–ї—П¬ї31. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞—П –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—П, –љ–µ –њ—А–∞–≤–і–∞ –ї–Є?
14 –љ–Њ—П–±—А—П 2007 –≥. –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –®–њ–∞–ї–µ—А–љ–Њ–є –Є –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж, —В–∞–Љ, –≥–і–µ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–∞—П –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞, –±—Л–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Р.–Р. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Г32. –°–Њ–±—Л—В–Є–µ —Н—В–Њ, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ–µ вАУ —Н—В–Њ –±—Л–ї –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –≤ –њ–Њ—Б—В—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Э–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ ¬Ђ–•–Њ—В–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –ї—Г—З—И–µ, –∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞¬ї —Б—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Є –Ј–і–µ—Б—М. –ѓ –Є–Љ–µ—О –≤ –≤–Є–і—Г —В–Њ, —З—В–Њ –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ —Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –∞–Ї—Б–µ–ї—М–±–∞–љ—В–∞–Љ–Є –Є –≤–µ–љ–Ј–µ–ї—П–Љ–Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –љ–∞ –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞—Е, –∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–Љ–µ–љ—В–µ –≥–ї–∞—Б–Є—В: ¬Ђ–У–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤¬ї. –Т–Њ—В –Ј–і–µ—Б—М –Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –Ј–∞—З–µ–Љ –±—Л–ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ—А–µ–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II –Є –Њ–њ–Њ–Ј–Њ—А–Є–≤—И–µ–≥–Њ —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–µ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—В—М —Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—В–ї–Є—З–Є—П–Љ–Є. –ѓ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –Њ–±–≤–Є–љ—П—О —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А–∞. –Э–Њ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А–∞ –≤–µ–і—М –Ї—В–Њ-—В–Њ –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –Љ—Г–љ–і–Є—А–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В—М –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞? –Ф–∞ –µ—Й–µ –Є ¬Ђ–Њ–±—А–µ–Ј–∞–љ–∞¬ї —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–∞, –Ї–∞–Ї –±—Л —Н—В–Њ –њ–Њ–Љ—П–≥—З–µ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П, –њ–Њ–љ–Є–ґ–µ –њ–Њ—П—Б–∞вА¶ –Т –Є—В–Њ–≥–µ, –≥—А—Г—Б—В–љ—Л–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї—Б—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–ЇвА¶
–Ш –Ј–і–µ—Б—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Ј–∞–±—Л—В —Б–∞–Љ—Л–є –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є, —А–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–Є —Г –љ–∞—Б, –љ–Є —Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–Є —Г —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—И–Є—Е? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –Ј–∞–±—Л—В –≥–µ—А–Њ–є –°–∞—А—Л–Ї–∞–Љ—Л—И–∞, –≠—А–Ј–µ—А—Г–Љ–∞, –Ґ—А–∞–њ–µ–Ј—Г–љ–і–∞, –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–є –Ј–∞ –≥–Њ–і—Л –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–≤—И–Є–є –њ–Њ–±–µ–і—Л, –Є–Љ–µ—П –Љ–µ–љ—М—И–Є–µ, —З–µ–Љ —Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, —Б–Є–ї—Л, –≤ —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ-–Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –Ј–∞–±—Л—В –≥–µ—А–Њ–є, –Ј–∞ –≥–Њ–і—Л –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–є —В—А–Є (!) –Њ—А–і–µ–љ–∞ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П?33 –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і—Г –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ѓ–і–µ–љ–Є—З (1862вАУ 1933). –Э–Њ –Њ–љ, —Г–≤—Л, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Р.–Р. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞, –≥–µ—А–Њ–є—Б–Ї–Є –і—А–∞–ї—Б—П –≤ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г —Б –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є, —А–µ—И–Є–≤—И–Є—Б—М –і–∞–ґ–µ —Б –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –≤–і–µ—Б—П—В–µ—А–Њ –Љ–µ–љ—М—И–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В—М –љ–∞ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–івА¶–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –і–µ–ї–Њ –љ–µ –≤ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Я–∞–Љ—П—В—М –Њ –Э.–Э. –Ѓ–і–µ–љ–Є—З–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–Љ—Б—П –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–µ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є. –Т—А–µ–Љ—П –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–љ–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ.
1 –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П: –£—З–µ–±. –Ь., 1984. –°. 84вАУ85; –Ч–Њ–ї–Њ—В–∞—А–µ–≤ –Т.–Р., –°–∞–Ї—Б–Њ–љ–Њ–≤ –Ю.–Т., –Ґ—О—И–Ї–µ–≤–Є—З –°.–Р. –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ь., 2001. –°. 526; –Ь–µ–ї–µ–љ—В—М–µ–≤ –Т.–Ф. –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П: –£—З–µ–±. –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–µ. –°–Я–±., 2005 (–Т–Р–Ґ–Ґ). –°. 54вАУ55.
2 –†–Њ—Б—В—Г–љ–Њ–≤ –Ш.–Ш. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤. –Ь., 1964. –°. 3вАУ4; –Я—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ // –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –Р.–Р. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤: –Ю—З–µ—А–Ї–Є –Њ –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–Љ—Б—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ. –Ь., 2010. –°. 5.
3 –Ч–Њ–ї–Њ—В–∞—А–µ–≤ –Т.–Р., –°–∞–Ї—Б–Њ–љ–Њ–≤ –Ю.–Т., –Ґ—О—И–Ї–µ–≤–Є—З –°.–Р. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 522; –Ъ–µ—А—Б–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Р.–Р. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є. –Ґ. 4. –Ь., 1994. –°. 24вАУ27.
4 –Ъ–µ—А—Б–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Р.–Р. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 179.
5 –®–∞–Љ–±–∞—А–Њ–≤ –Т.–Х. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –±–Є—В–≤–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤: –Я–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є. –Ь., 2013. –°. 429вАУ434; –Ю—Б—М–Ї–Є–љ –Ь.–Т. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—А—Л–≤. –Ь., 2010. –°. 16вАУ7.
6 –Ъ–µ—А—Б–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Р.–Р. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 29вАУ31; –®–∞–Љ–±–∞—А–Њ–≤ –Т.–Х. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 435вАУ436.
7 –Ъ–µ—А—Б–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Р.–Р. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 31вАУ32.
8 –Ъ–µ—А—Б–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Р.–Р. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 34вАУ35; –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ґ. II: –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞. –Ъ–љ. 6: –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Є–Љ–њ–µ—А–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞: –Я–µ—А–≤–∞—П –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ 1914вАУ1918 –≥–≥. –Ь.; –Ы., 1979. –°. 323вАУ357; –Ю—Б—М–Ї–Є–љ –Ь.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 55вАУ91.
9 –Ъ–µ—А—Б–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Р.–Р. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 39вАУ44, 50; –Ю—Б—М–Ї–Є–љ –Ь.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 96вАУ114; –Ю—Б—М–Ї–Є–љ –Ь.–Т. –Ъ—А–∞—Е –Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–Є—Ж–Ї—А–Є–≥–∞: –Ъ–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—П –≤ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –Ь., 2009. –°. 285вАУ330; –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–Њ–≤ –Ь.–Э. –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є –≤ –≥–Њ–і—Л –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л (–Ґ–µ–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є –Ґ–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї–Є) // –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ: –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л: –Ґ—А—Г–і—Л –Я—П—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і. –љ–∞—Г—З.-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З. –Ї–Њ–љ—Д. 14вАУ16 –Љ–∞—П 2014 –≥. –І. II. –°–Я–±., 2014. –°. 266.
10 –Ъ–µ—А—Б–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Р.–Р. –£–Ї–∞–Ј —Б–Њ—З. –Ґ. 4. –°. 55вАУ70.
11 –Р–љ–і–Њ–ї–µ–љ–Ї–Њ –°.–Р. –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Ж—Л –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Є –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Л. 1914вАУ1920 –≥–Њ–і—Л / –°–Њ—Б—В. –Р.–Р. –Ґ–Є–Ј–µ–љ–≥–∞—Г–Ј–µ–љ, –°.–С. –Я–∞—В—А–Є–Ї–µ–µ–≤. –°–Я–±., 2010. –°. 221.
12 –Ъ–µ—А—Б–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Р.–Р. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 72вАУ96; –Ы–µ—В–Є–љ –°.–Р. –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–∞—П –У–≤–∞—А–і–Є—П. –°–Я–±., 2005. –°. 449вАУ453; –Э–µ–Ј–≤–µ—Ж–Ї–Є–є –†.–§. –Ы–µ–є–±-–У–≤–∞—А–і–Є—П –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ь., 2009. –°. 245вАУ246; –Ґ–Є—Е–Њ–Љ–Є—А–Њ–≤ –Р., –І–∞–њ–Ї–µ–≤–Є—З –Х. –С—А–∞—В—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –љ–∞ –±–Њ–ї–Њ—В–µ: –У–≤–∞—А–і–Є—П –≤ –±–Њ—П—Е –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –°—В–Њ—Е–Њ–і –ї–µ—В–Њ–Љ 1916 –≥–Њ–і–∞ // –†–Њ–і–Є–љ–∞. 2001. вДЦ 11. –°. 35вАУ38; –§–Њ–Љ–Є–љ –°.–Т. –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є: –°–≤–Є—В—Л –Х–≥–Њ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є –≥—А–∞—Д –§–µ–і–Њ—А –Р—А—В—Г—А–Њ–≤–Є—З –Ъ–µ–ї–ї–µ—А // –У—А–∞—Д –Ъ–µ–ї–ї–µ—А. –Ь., 2007. –°. 451вАУ460.
13 –С–Њ–љ–і–∞—А–µ–љ–Ї–Њ –Т.–Т. –У–µ—А–Њ–Є –Я–µ—А–≤–Њ–є –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є. –°. 158; –§–Њ–Љ–Є–љ –°.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 439.
14 –¶–Є—В. –њ–Њ: –§–Њ–Љ–Є–љ –°.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 438.
15 –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤ –Ѓ.–Т. –Ь–Њ—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –≤ —Б—В–∞—А–Њ–є –У–≤–∞—А–і–Є–Є 1905вАУ1917: –Ь–Є—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є –≤–Њ–є–љ–∞. –°–Я–±., 2013. –°. 339.
16 –Ф–µ–љ–Є–Ї–Є–љ –Р.–Ш. –Ю—З–µ—А–Ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–Љ—Г—В—Л. –Ґ. 1: –Ъ—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –∞—А–Љ–Є–Є. –Ь–Є–љ—Б–Ї, 2002. –°. 22.
17 –†–Њ—Б—В—Г–љ–Њ–≤ –Ш.–Ш. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 13.
18 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 5.
19 –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ –Р.–Р. –Ф–≤–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ь., 1958. –°. 169вАУ170.
20 –Ю—Б—М–Ї–Є–љ –Ь.–Т. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—А—Л–≤. –°. 371вАУ382.
21 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 372.
22 –¶–Є—В. –њ–Њ: –†–Њ—Б—В—Г–љ–Њ–≤ –Ш.–Ш. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 56.
23 –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ –Р.–Р. –Ь–Њ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –Ь., 1983. –°. 197вАУ218.
24 –С–Њ–±—А–Њ–≤ –Р.–Р. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—А—Л–≤. –Ь., 2014. –°. 55.
25 –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –Х.–Т., –Х–≥–Њ—А–Њ–≤ –Э.–Ф., –Ъ—Г–њ—Ж–Њ–≤ –Ш.–Т. –С–µ–ї—Л–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ь., 2003. –°. 217вАУ218; –Ч–∞–ї–µ—Б—Б–Ї–Є–є –Ъ.–Р. –Ъ—В–Њ –±—Л–ї –Ї—В–Њ –≤ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ: –С–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М. –Ь., 2003. –°. 638вАУ 639; –§–Њ–Љ–Є–љ –°.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 439.
26 –Ы–Є–і–і–µ–ї –У–∞—А—В –С. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ь., 2014. –°. 277.
27 –Ю—Б—М–Ї–Є–љ –Ь.–Т. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—А—Л–≤. –°. 369.
28 –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤ –Р.–Р. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 203.
29 –Я—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ // –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –Р.–Р. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤: –Ю—З–µ—А–Ї–Є –Њ –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–Љ—Б—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ. –°. 5.
30 –¶–Є—В. –њ–Њ: –§–Њ–Љ–Є–љ –°.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 436.
31 –Ч–∞–ї–µ—Б—Б–Ї–Є–є –Ъ.–Р. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 440вАУ442.
32 –С–Њ–±—А–Њ–≤ –Р.–Р. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 51.
33 –°–Љ.: –Я–Њ—А—В—Г–≥–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є –†.–Ь., –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –Я.–Ф., –†—Г–љ–Њ–≤ –Т.–Р. –Я–µ—А–≤–∞—П –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤ –ґ–Є–Ј–љ–µ–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ь., 1994. –°. 211вАУ245; –С–Њ–љ–і–∞—А–µ–љ–Ї–Њ –Т.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 219вАУ258.


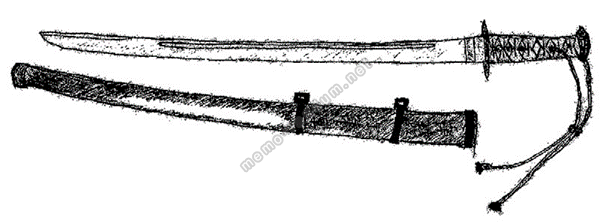


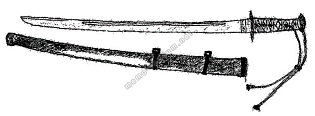


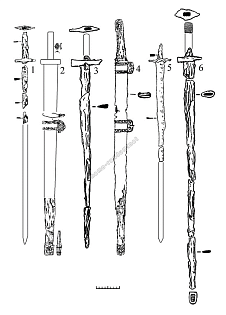

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є