п▒.п▓. п°п╣пЁп╬я─я│п╨п╦п╧ (п║п╟п╫п╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ) б╚п·п╒п■п░п╒п╛ п²п∙п⌡п╛п≈п╞ п║п√п∙п╖п╛б╩. п·п║п╒п░п▓п⌡п∙п²п≤п∙ п⌠п·п═п·п■п·п▓ п≤ п п═п∙п÷п·п║п╒п∙п≥ п▓ п⌠п·п■п╚ п▓п∙п⌡п≤п п·п≥ п║п∙п▓п∙п═п²п·п≥ п▓п·п≥п²п╚
пёп©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╣ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ п°п╦п╫п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀ п═п╬я│я│п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐ п░п╨п╟п╢п╣п╪п╦я▐ я─п╟п╨п╣я┌п╫я▀я┘ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ п╫п╟я┐п╨ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐п╥п╣п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦п╫п╤п╣п╫п╣я─п╫я▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐п╥п╦
п╖п╟я│я┌я▄ IIIп║п╟п╫п╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ
б╘п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, 2016
б╘п п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡, 2015
б╘ п║п÷п╠п⌠пёп÷п╒п■, 2016
п╒я─п╦я│я┌п╟ п╩п╣я┌ п╫п╟п╥п╟п╢, 24 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ (7 п╪п╟я─я┌п╟) 1716 пЁ. п╥п╟п╡п╣я─я┬п╦п╩п╟я│я▄ п©п╬я│п╩п╣п╢п╫я▐я▐ п╢п╩я▐ я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╦я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╬я│п╟п╢п╟ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦ п╡ я┘п╬п╢п╣ п║п╣п╡п╣я─п╫п╬п╧ п╡п╬п╧п╫я▀. п²п╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ я│я─п╣п╢п╫п╣п╡п╣п╨п╬п╡я▀п╧ п╥п╟п╪п╬п╨ п п╟я▐п╫п╣п╠п╬я─пЁ (я│п╬п╡я─. п п╟я▐п╟п╟п╫п╦) п╡ я├п╣п╫я┌я─п╟п╩я▄п╫п╬п╧ п╓п╦п╫п╩я▐п╫п╢п╦п╦ п╠я▀п╩ п╡п╥я▐я┌ п╬я┌я─я▐п╢п╬п╪ п╪п╟п╧п╬я─п╟ п░.п≤. п═я┐п╪я▐п╫я├п╣п╡п╟; п╡ я├п╣п╩п╬п╪ п╬п©п╣я─п╟я├п╦я▐ я█я┌п╟ п╫п╣ п╠я▀п╩п╟ п╫п╦ п╪п╟я│я┬я┌п╟п╠п╫п╬п╧, п╫п╦ п╫п╣п╬п╠я▀я┤п╫п╬п╧ я│ я┌п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ я┌п╬я┤п╨п╦ п╥я─п╣п╫п╦я▐. п·я│п╬п╠п╣п╫п╫п╬п╧ п╣п╣ я│п╢п╣п╩п╟п╩п╬ я┌п╬, я┤я┌п╬ п©я▐я┌я▄ п╫п╣п╢п╣п╩я▄ п╬я│п╟п╢я▀ п©я─п╦я┬п╩п╦я│я▄ п╫п╟ я▐п╫п╡п╟я─я▄Б─⌠я└п╣п╡я─п╟п╩я▄, п╡ я┌п╟п╨п╬п╧ я│я┐я─п╬п╡я▀п╧ я│п╣п╥п╬п╫, п╨п╟п╨ п©я─п╟п╡п╦п╩п╬, п╬я│п╟п╢я▀ п╫п╣ п╡п╣п╩п╦. п▓ п╦я┌п╬пЁп╣ п╫п╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╦п╧ пЁп╟я─п╫п╦п╥п╬п╫ я│п╢п╟п╩я│я▐ п╫п╟ п╢п╦я│п╨я─п╣я├п╦я▌ п╦ п╠я▀п╩ п╡п╥я▐я┌ п╡ п©п╩п╣п╫, п╟ я│п╟п╪п╟ я├п╦я┌п╟п╢п╣п╩я▄ п╡п╥п╬я─п╡п╟п╫п╟ п╦ п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╟ п©п╬п╠п╣п╢п╦я┌п╣п╩я▐п╪п╦1. п╝п╠п╦п╩п╣п╧ я█я┌п╬пЁп╬ я└п╦п╫п╟п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╟п╨п╨п╬я─п╢п╟ п©п╬я│п╩п╣п╢п╫п╣п╧ п©п╣я┌я─п╬п╡я│п╨п╬п╧ п╬я│п╟п╢я▀ п╢п╟п╣я┌ п╫п╟п╪ п©п╬п╡п╬п╢ п©п╬я─п╟я│я│я┐п╤п╢п╟я┌я▄ п╬ я┌п╬п╪, п╨п╟п╨ я┤п╟я│я┌п╬ п╥п╟ пЁп╬п╢я▀ п╡п╬п╧п╫я▀ я┐я┤п╟я│я┌п╫п╦п╨п╟п╪ я│п╩я┐я┤п╟п╩п╬я│я▄ п©п╬п╨п╦п╢п╟я┌я▄ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п╦ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦, п╦ п╠я▀п╩п╟ п╩п╦ я│я┐п╢я▄п╠п╟ п╡п╥п╬я─п╡п╟п╫п╫п╬пЁп╬ п╥п╟п╪п╨п╟ я┌п╦п©п╦я┤п╫п╬п╧ п╢п╩я▐ п║п╣п╡п╣я─п╫п╬п╧ п╡п╬п╧п╫я▀. п⌠п╢п╣ п╡ я└я─п╟п╥п╣ б╚п╬я┌п╢п╟я┌я▄ п╫п╣п╩я▄п╥я▐ я│п╤п╣я┤я▄б╩2 я│я┌п╟п╡п╦п╩п╦ п╥п╟п©я▐я┌я┐я▌? п÷п╬п╢п╬п╠п╫я▀п╣ я│я▌п╤п╣я┌я▀ п╬п╠я┼я▐я│п╫п╦п╪п╬ п╬п╠п╢п╣п╩п╣п╫я▀ п╡п╫п╦п╪п╟п╫п╦п╣п╪ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟я┌п╣п╩п╣п╧, п╬п╢п╫п╟п╨п╬ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐, я┤я┌п╬ я█я┌п╟ пЁя─п╟п╫я▄ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╧ п©п╬п╡я│п╣п╢п╫п╣п╡п╫п╬я│я┌п╦ п╥п╟я│п╩я┐п╤п╦п╡п╟п╣я┌ я│п╡п╬п╣пЁп╬ п╬п╠п╥п╬я─п╟.
п÷я─п╦п╠п╣пЁп╫я┐я┌я▄ п╨ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╣п╫п╦я▌ п╡п╥я▐я┌п╬п╧ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦ п╪п╬пЁп╩п╦ п╡ я│п╩я┐я┤п╟я▐я┘, п╨п╬пЁп╢п╟ п╬п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ п╫п╣ п╫я┐п╤п╫п╟ п©п╬п╠п╣п╢п╦я┌п╣п╩я▌ п╦п╩п╦ я┐ п╥п╟п╫п╦п╪п╟я▌я┴п╣п╧ п╣п╣ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ п╫п╣ п╠я▀п╩п╬ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬я│я┌п╦ п╣п╣ п╬п╠п╬я─п╬п╫я▐я┌я▄, п╫п╬, п╡ п╩я▌п╠п╬п╪ я│п╩я┐я┤п╟п╣, п╬п╫п╦ п╫п╣ я┘п╬я┌п╣п╩п╦, я┤я┌п╬п╠я▀ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐п╪п╦ п╦ я─п╣я│я┐я─я│п╟п╪п╦ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п╡п╬я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╩я│я▐ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨. п²п╟п©я─п╦п╪п╣я─, п╡ п╦я▌п╩п╣ 1701 пЁ. п©п╬я│п╩п╣ п©п╬п╠п╣п╢я▀ я┬п╡п╣п╢п╬п╡ п╡ я│я─п╟п╤п╣п╫п╦п╦ п╫п╟ п■п╡п╦п╫п╣ я│п╟п╨я│п╬п╫я├я▀ п╡п╥п╬я─п╡п╟п╩п╦ п п╬п╠я─п╬п╫ я┬п╟п╫п╣я├ п╫п╟п©я─п╬я┌п╦п╡ п═п╦пЁп╦ Б─⌠ я┐я┘п╬п╢я▐, п╬п╫п╦ п©я─п╬п╩п╬п╤п╦п╩п╦ п╨ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡п╬п╪я┐ п╪п╟пЁп╟п╥п╦п╫я┐ п╥п╟п╤п╤п╣п╫п╫я▀п╧ я└п╦я┌п╦п╩я▄. п·п╢п╦п╫ п╦п╥ п╠п╟я│я┌п╦п╬п╫п╬п╡ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╡п╥п╩п╣я┌п╣п╩ п╫п╟ п╡п╬п╥п╢я┐я┘ п╫п╟ п╡п╦п╢я┐ я┐ я┬п╡п╣п╢п╬п╡ я┌п╟п╨, я┤я┌п╬ п╬я┌ п╦я│п©я┐пЁп╟ п╩п╬я┬п╟п╢п╦ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╬я┌п╬я─п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╬я┌ п╨п╬п╫п╬п╡я▐п╥п╣п╧ п╦ я─п╟п╥п╠п╣п╤п╟п╩п╦я│я▄ п©п╬ п╬п╨я─п╣я│я┌п╫п╬я│я┌я▐п╪3. п▓ п╦п╥п╪п╣п╫п╦п╡я┬п╣п╧я│я▐ п╬п╠я│я┌п╟п╫п╬п╡п╨п╣ я│п╟п╨я│п╬п╫я│п╨п╬-я─я┐я│я│п╨п╦п╧ пЁп╟я─п╫п╦п╥п╬п╫ п╠я▀п╩ п╡я▀п╫я┐п╤п╢п╣п╫ п©п╬п╨п╦п╫я┐я┌я▄ п╦ п╨я─п╣п©п╬я│я┌я▄ п п╬п╨п╣п╫пЁп╟я┐п╥п╣п╫ (я│п╬п╡я─. п п╬п╨п╫п╣я│п╣), я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ п╫п╣ п╦п╪п╣п╩ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬я│я┌п╦ п╣п╣ п╬п╠п╬я─п╬п╫я▐я┌я▄ п╬я┌ п©я─п╦п╠п╩п╦п╤п╟п╡я┬п╣п╧я│я▐ п╟я─п╪п╦п╦ п п╟я─п╩п╟ XII. п п╫я▐п╥я▄ п².п≤. п═п╣п©п╫п╦п╫ п╡ я│п╡п╬п╦я┘ б╚п╬я┌п©п╦я│п╨п╟я┘ п╦п╥ п═п╦п╤я│п╨п╬пЁп╬ п©п╬я┘п╬п╢п╟б╩ п©п╬п╡п╣п╢п╟п╩, п╨п╟п╨ п╨п╬п╪п╣п╫п╢п╟п╫я┌ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦ я│п╟п╨я│п╬п╫я│п╨п╦п╧ п©п╬п╩п╨п╬п╡п╫п╦п╨ п▒п╬п╥п╣п╫ я█п╡п╟п╨я┐п╦я─п╬п╡п╟п╩ пЁп╬я─п╬п╢: б╚п╫п╟я─я▐п╢п╫я▀п╣ п╠п╬п╪п╠я▀ п╦ я▐п╢я─п╟ я─п╟п╥п╫я▀п╣ п╦ п©я┐я┬п╣я┤п╫я▀п╣ п╢п╟ п╢п╡п╟ п╪п╟п╢п╤п╣я─п╟ [п╪п╬я─я┌п╦я─я▀. Б─⌠ п▒.п°.], п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╩п╣п╤п╟п╩п╦ п╫п╟ п╠п╣я─п╣пЁя┐, я│я┌п╟п╩п╨п╟п╩п╦ п╡ п■п╡п╦п╫я┐Б─╕ п╦ п╡ пЁп╬я─п╬п╢п╣ п©я┐я┬п╣п╨ я│ п╢п╡п╟п╢я├п╟я┌я▄ п╦ п╠п╬п╩я▄я┬п╣ п╥п╟я─я▐п╢п╦п╩п╦ я▐п╢я─п╟ п©п╬ я┌я─п╦ п╦ п©п╬ я┤п╣я┌я▀я─п╣ п╦ п©п╬я─п╬я┘п╬п╪ п╫п╟я│я▀п©п╟п╩п╦ п╨п╟п╨ п╪п╬я┤п╫п╬ я▐п╢я─п╟ п©п╬п╩п╬п╤п╦я┌я▄. п░ п╦я▌п╩я▐ п╡ 14 я┤п╦я│п╩п╣ п©п╬п╩п╨п╬п╡п╫п╦п╨ п▒п╬п╥п╣п╫Б─╕ я│ я│п╬п╩п╢п╟я┌п╟п╪п╦ я│п╬ п╡я│п╣п╪п╦ п╦п╥ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п©п╬я┬п╣п╩ п╡п╬п╫ п╦ п╡ пЁп╬я─п╬п╢п╣-п╢п╣ п╩я▌п╢п╣п╧ п╫п╦п╨п╟п╨п╦я┘ п╫п╣ п╬я│я┌п╟п╩п╬я│я▄. п≤ п╡ я┌п╬ я┤п╦я│п╩п╬ п╡ пЁп╬я─п╬п╢п╣ п©я┐я┬п╨п╦ п╦ п╡я│я▐п╨п╦п╧ я│п╫п╟я─я▐п╢ п©п╬я┤п╟п╩п╬ я─п╡п╟я┌я▄ п╦ пЁп╬я─п╬п╢п╬п╡я┐я▌ п╨п╟п╪п╣п╫п╫я┐я▌ п╠п╟я┬п╫я▌ п╦ я│я┌п╣п╫я┐ п╦ п╥п╣п╪п╩я▐п╫п╬п╧ я─п╟я│п╨п╟я┌ п╡п╥п╬я─п╡п╟п╩п╬Б─╕ п╦п╥ п п╬п╨п╟п╫п╟я┐п╥п╟ п©п╬я┬п╩п╦ п╬п╫п╦ п╡п╬п╫ п╦ я┌п╬я┌ пЁп╬я─п╬п╢ п©п╬я─п╬я┘п╬п╪ п©п╬п╢п╫я▐п╩п╦ п╢п╩я▐ я┌п╬пЁп╬, я┤я┌п╬ п╦п╢я┐я┌ я┬п╡п╣п╢я▀, п╟ п╢п╣я─п╤п╟я┌я▄ п╦п╪ я┌п╬пЁп╬ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п╥п╟ п╪п╟п╩п╬п╩я▌п╢я│я┌п╡п╬п╪ п╫п╣п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬ п╦ п©п╬п╢п╨п╬п© п©п╬п╢ пЁп╬я─п╬п╢п╬п╪ п╠я▀п╩ я┐ п╫п╦я┘ я│п╢п╣п╩п╟п╫ п╢п╩я▐ я│п╩я┐я┤п╟я▐ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ п╢п╬ я│п╣пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦ п╥п╟ п╢п╬п╩пЁп╬б╩4.
п╒п╟п╨ п╤п╣ п©п╬я│я┌я┐п©п╦п╩ п▒.п÷. п╗п╣я─п╣п╪п╣я┌п╣п╡ я│ п╨я─п╣п©п╬я│я┌я▄я▌ п°п╟я─п╦п╣п╫п╠я┐я─пЁ (я│п╬п╡я─. п░п╩я┐п╨я│п╫п╣) п╡ п⌡п╦я└п╩я▐п╫п╢п╦п╦ п╡ п╟п╡пЁя┐я│я┌п╣ 1702 пЁ. п╜я┌п╬я┌ я│я┌п╟я─я▀п╧ п╥п╟п╪п╬п╨ п╫п╟ п╬я│я┌я─п╬п╡п╣ п╠я▀п╩ п©п╬п╡я─п╣п╤п╢п╣п╫ п╠п╬п╪п╠п╟я─п╢п╦я─п╬п╡п╟п╫п╦п╣п╪ п╡п╬ п╡я─п╣п╪я▐ п╬я│п╟п╢я▀, п╟ п©я─п╦ я│п╢п╟я┤п╣ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡п╬п╧ п©п╬пЁя─п╣п╠ п╠я▀п╩ п╡п╥п╬я─п╡п╟п╫ п╬п╢п╫п╦п╪ п╦п╥ п╬я└п╦я├п╣я─п╬п╡ пЁп╟я─п╫п╦п╥п╬п╫п╟. б╚п п╬пЁп╢п╟ я│ я┌п╬п╣ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦ п╫п╟я┬п╦ п╬п╠я─п╟п╩п╦ п©я┐я┬п╨п╦, п╦ п╡я│п╣п╣ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦я▌ п╦ п╬я│п╟п╢п╫я▀я┘ я│п╦п╢п╣п╩я▄я├п╬п╡, я┌п╬пЁп╢п╟ пЁп╬я│п©п╬п╢п╦п╫ я└п╣п╩я▄я┌п╪п╟я─я┬п╟п╩ я┌п╬я┌ пЁп╬я─п╬п╢ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟п╩ я─п╟п╥п╬я─п╦я┌я▄, п╦ п╠п╬п╩п╡п╟я─п╨п╦ п╦ п╠п╟я┬п╫п╦ п©п╬п╢п╬я─п╡п╟п╩п╦б╩5. п▓ п©п╦я│я▄п╪п╣ п╬я┌ 27 п╟п╡пЁя┐я│я┌п╟ 1702 пЁ. п╗п╣я─п╣п╪п╣я┌п╣п╡ п╬я┌я┤п╦я┌я▀п╡п╟п╩я│я▐ п©п╣я─п╣п╢ я├п╟я─п╣п╪: б╚п░ п°п╟я─п╦п╫ п▒я┐я─пЁ я─п╟п╥п╬я─п╦п╩ п╦ я─п╟я│п╨п╬п©п╟п╩ п╠п╣п╥ п╬я│я┌п╟я┌п╨я┐; п╠я┐п╢я┐ я│я┌п╬я▐я┌я▄ п╢п╬ я┌п╣я┘ п╪п╣я│я┌, п╢п╬п╨я┐п╩я▐ п╡п╣я│я▄ я─п╟я│п╨п╬п©п╟я▌; п╟ п╢п╣я─п╤п╟я┌я▄ п╠я▀п╩п╬ п╫п╣п╩я▄п╥я▐: я┐п╢п╬п╩п╣п╩п╟ п╦ п╬п╨п╬п╩п╬ п╡я│п╣ п╬п©я┐я│я┌п╣п╩п╟; я┌п╟п╨ п╤ я┌п╬я┌ я│я┐п╪п╬п╥п╠я─п╬п╢п╫п╬п╧ п©п╬п╢п╬я─п╡п╟п╩ п©п╬я─п╬я┘п╬п╪б╩6. п▓ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╣п╪, 1703 пЁп╬п╢я┐ п╡п╬п╧я│п╨п╟п╪ п▒п╬я─п╦я│п╟ п÷п╣я┌я─п╬п╡п╦я┤п╟ п╠п╣п╥ п╠п╬я▐ п╢п╬я│я┌п╟п╩я│я▐ я├п╣п╩я▀п╧ я─я▐п╢ я│я─п╣п╢п╫п╣п╡п╣п╨п╬п╡я▀я┘ п╥п╟п╪п╨п╬п╡, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╫п╣ п╪п╬пЁп╩п╦ п╡я▀п╢п╣я─п╤п╟я┌я▄ п╫п╟п©п╟п╢п╣п╫п╦я▐ п╨я─я┐п©п╫я▀я┘ я│п╦п╩: п═п╟п╨п╬п╠п╬я─/п▓п╣п╥п╣п╫п╠п╣я─пЁ (я│п╬п╡я─. п═п╟п╨п╡п╣я─п╣), п╓п╬п╩п╦п╫/п▓п╦п╩я▄я▐п╫ (п▓п╦п╩я▄я▐п╫п╢п╦), п÷я▀п╩я├п╬п╡ (п÷я▀п╩я┌я│п╟п╪п╟п╟), п÷п╟п╧п╢п╣, п═я┐п╦п╨. п⌠п╟я─п╫п╦п╥п╬п╫я▀ п╦я┘ п╠я▀п╩п╦ я│п╩п╟п╠я▀, п╦ я┬п╡п╣п╢я▀ п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╦ п╦я┘ п©я─п╦ п©п╬п╢я┘п╬п╢п╣ я─я┐я│я│п╨п╦я┘, п╥п╟п╤п╦пЁп╟я▐ п╥п╟ я│п╬п╠п╬п╧ я│п╨п╩п╟п╢я▀. п╒п╬, я┤я┌п╬ п╫п╣ я┐я│п©п╣п╡п╟п╩п╦ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╦я┌я▄ п╠я▀п╡я┬п╦п╣ я┘п╬п╥я▐п╣п╡п╟, я─п╟п╥п╬я─я▐п╩п╦ п©п╬п╠п╣п╢п╦я┌п╣п╩п╦.
п я─п╣п©п╬я│я┌я▄ п▒п╦я─п╤п╟ (я│п╬п╡я─. п▒п╦я─п╤п╟п╧) я┬п╡п╣п╢я▀ п╦ я│п╟п©п╣п╤п╦п╫я├я▀ п╡п╥я▐п╩п╦ я┐ п╩п╦я┌п╬п╡я│п╨п╦я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╡ я│п╣п╫я┌я▐п╠я─п╣ 1704 пЁ., п╫п╬ я┐п╤п╣ п╡ п╬п╨я┌я▐п╠я─п╣ п©я─п╦ п©я─п╦п╠п╩п╦п╤п╣п╫п╦п╦ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╬я┌я─я▐п╢п╟ п╠я▀п╩п╦ п╡я▀п╫я┐п╤п╢п╣п╫я▀ п╣п╣ п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄. б╚пёя┬п╩п╦ п╢п╬ п°п╦я┌п╟п╡я▀ п╦ п▒п╬п╡я│п╨п╟, п▒п╦я─п╤я┐ я─п╟п╥п╬я─я▐я▐, п╡п╟п╩я▀ я─п╟я│п╨п╬п©п╟п╩п╦, п╟ п╦п╫я▀п╣ п╪п╣я│я┌п╟ п©п╬п╢п╬я─п╡п╟п╩п╦ п╦ п©п╟п╩п╟я┌я▀ я─п╟п╥п╩п╬п╪п╟п╩п╦ п╦ п╟п╩я┌п╦п╩п╣я─п╦я▌ п╡я▀п╡п╣п╥п╩п╦; я┌п╬п╩п╨п╬ п╬я│я┌п╟п╩п╬я│я▄ 2 п©я┐я┬п╨п╦ п╦ 2 п╠п╬я┤п╨п╦ п©п╬я─п╬я┘я┐, п╫п╣ п╫п╟ я┤п╣п╪ п╠я▀п╩п╬ п╡п╣я│я┌п╦б╩, Б─⌠ п╢п╬п╫п╬я│п╦п╩ п÷п╣я┌я─я┐ п╬ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐я┘ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟ п╨п╫я▐п╥я▄ п².п≤. п═п╣п©п╫п╦п╫ 16 п╬п╨я┌я▐п╠я─я▐ 1704 пЁ.7 п⌡п╦я┌п╬п╡я│п╨п╦п╧ п╡п╣п╩п╦п╨п╦п╧ пЁп╣я┌п╪п╟п╫ п▓п╦я┬п╫п╣п╡п╣я├п╨п╦п╧ п╤п╟п╩п╬п╡п╟п╩я│я▐ п═п╣п©п╫п╦п╫я┐, я┤я┌п╬ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▄ б╚п╫п╣ п©п╬ п╬п╠я▀я┤п╟я▌ п©я─п╟п╡ п╡я│п╣п╫п╟я─п╬п╢п╫я▀я┘ п╬п╫я┐я▌... п╢п╬ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╦я▐ я─п╟п╥п╬я─п╦п╩б╩8.
п⌠п╬я┌п╬п╡п╫п╬я│я┌я▄ я┬п╡п╣п╢п╬п╡ п╡п╥я─я▀п╡п╟я┌я▄ я│п╡п╬п╦ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п©я─п╦ п©п╬п╢я┘п╬п╢п╣ п╬я│п╟п╤п╢п╟я▌я┴п╦я┘ я┌п╣п©п╣я─я▄ п©я─п╦я┘п╬п╢п╦п╩п╬я│я▄ я┐я┤п╦я┌я▀п╡п╟я┌я▄, п╦ п╡ п╫п╟я┤п╟п╩п╣ п╟п╡пЁя┐я│я┌п╟ 1705 пЁ. п÷п╣я┌я─ п╦п╫я│я┌я─я┐п╨я┌п╦я─п╬п╡п╟п╩ п╗п╣я─п╣п╪п╣я┌п╣п╡п╟, п╨п╟п╨ п╩я┐я┤я┬п╣ п╬я│п╟п╢п╦я┌я▄ п°п╦я┌п╟п╡я┐ (п∙п╩пЁп╟п╡я┐), я┤я┌п╬п╠я▀ пЁп╟я─п╫п╦п╥п╬п╫ п╫п╣ я┐я│п©п╣п╩ п╡п╥п╬я─п╡п╟я┌я▄ я├п╦я┌п╟п╢п╣п╩я▄: б╚п≈п╫п╟я┌п╫я┐я▌ п©п╟я─я┌п╦я▌ п©п╬я│п╩п╟я┌я▄ п╡ п°п╦я┌п╬я┐, п╦ п╡ п╫п╬я┤я▄ п╬п╠п╩п╬п╨п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄, п╦ п©п╬я┌п╬п╪ п╡п╬п╧я┌п╦я┌я▄ п╡ п╥п╟п╪п╬п╨, я┤я┌п╬п╠ (п╬я┌ я┤п╣пЁп╬ я▐ п╠п╬я▌я│я▄) п╫п╣ п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫я▀ п╠я▀п╩п╦ п╪п╟п╩я▀п╣ п╩я▌п╢п╦, я─п╟п╢п╦ я┌п╬пЁп╬, п╨п╬пЁп╢п╟ я┐п╡п╦п╢я▐я┌ п╪п╫п╬пЁп╬п╩я▌п╢я│я┌п╡п╬, я┌п╬ п╬п╫я▀п╣ п©п╬п╢п╬я─п╡я┐я┌, п╟ п╨п╬пЁп╢п╟ п╫п╣я┤п╟п╣п╪п╬ пЁп╬я─п╬п╢ п╬я│я┌я┐п©я▐я┌, я┌п╬пЁп╢п╟ п╫п╣ п©п╬я│п╪п╣я▌я┌ я┌п╬пЁп╬ я┐я┤п╦п╫п╦я┌я▄б╩9.
п 1706 пЁ. п°п╦я┌п╟п╡п╟ п╦ п▒п╟я┐я│п╨ (п▒п╟я┐я│п╨п╟) я┐п╤п╣ п╫п╟я┘п╬п╢п╦п╩п╦я│я▄ п©п╬п╢ я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╦п╪ п╨п╬п╫я┌я─п╬п╩п╣п╪, п╬п╢п╫п╟п╨п╬ п©п╣я─п╣п╢ я┌п╣п©п╣я─я▄ п╫п╟я│я┌я┐п©п╟п╡я┬п╣п╧ п╡ я│п╡п╬я▌ п╬я┤п╣я─п╣п╢я▄ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╣п╧ я─я┐я│я│п╨п╦п╪ п©я─п╦я┬п╩п╬я│я▄ п╬я┌я┘п╬п╢п╦я┌я▄ п╫п╟ п╡п╬я│я┌п╬п╨ п╦ п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐я┌я▄ я█я┌п╦ п©я┐п╫п╨я┌я▀. п║п╦я┌я┐п╟я├п╦я▐ п╬я│п╩п╬п╤п╫я▐п╩п╟я│я▄ я┌п╣п╪, я┤я┌п╬ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨ п╠я▀п╩ п╠п╩п╦п╥п╨п╬. 12 п╪п╟я─я┌п╟ п÷п╣я┌я─ п©п╦я│п╟п╩ п⌠.п⌠. п═п╬п╥п╣п╫я┐ п╦ п░.п▓. п п╦п╨п╦п╫я┐: б╚п п╬пЁп╢п╟ я│п╦п╣ п©п╦я│я▄п╪п╬ п©п╬п╩я┐я┤п╦я┌п╣, я┌п╬пЁп╢п╟ п╫п╟п╢ п╥п╟п╪п╨п╟п╪п╦ я┐я┤п╦п╫п╦я┌п╣ п©п╬ я┐п╨п╟п╥я┐ п╦ п©п╬п╢п╦я┌п╣ п╨ п■я─я┐п╣Б─╕ п≈п╣п╩п╬ п╠ я┘п╬я─п╬я┬п╬, я┤я┌п╬п╠ п╥п╟п╪п╨п╦ п©п╬п╢п╬я─п╡п╟я┌я▄ п╫п╟ п╢я─я┐пЁп╬п╧ п╢п╣п╫я▄ п©п╬ п╡п╟я┬п╣п╪ п╡я▀я┘п╬п╢п╣ п╦ п╢п╩я▐ я┌п╬пЁп╬ п╫п╣я│п╨п╬п╩п╨п╬ я│п╬я┌ п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ п╢я─п╟пЁя┐п╫ п╦ я│ п╫п╦п╪п╦ п╡п╣я─п╫п╬пЁп╬ п╫п╟я┤п╟п╩п╫п╬пЁп╬ (п╢п╟ п╦ я│п╟п╪ п╢п╩я▐ я┌п╬пЁп╬ я│ п╫п╦п╪п╦ п╠я┐п╢я▄), п╢п╩я▐ я┌п╬пЁп╬ я┤я┌п╬п╠ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▄ п╫п╣ я┌п╟п╨ я│п╨п╬я─п╬ я┐п╡п╣п╢п╟п╩ п╬ п╡п╟я│б╩10. п╖п╣я─п╣п╥ я┌я─п╦ п╢п╫я▐ я├п╟я─я▄ п©п╬п╡я┌п╬я─п╦п╩ п©я─п╦п╨п╟п╥, п╫п╟ я┤я┌п╬ п п╦п╨п╦п╫ п╬я┌п╡п╣я┤п╟п╩ 6 п╟п©я─п╣п╩я▐: б╚п²п╟п╢ п╥п╟п╪п╨п╟п╪п╦ п╡ п°п╦я┌п╟п╡п╣ п╦ п╡ п▒п╬я┐я│п╨я┐ п╦ я│ п©я┐я┬п╨п╟п╪п╦ я┐я┤п╦п╫п╦п╩п╦ п©п╬ я┐п╨п╟п╥я┐ п╡п╟я┬п╣п╪я┐, п╦ п©п╬я┬п╩п╦ п╡ п©я┐я┌я▄ я│п╡п╬п╧ п╦п╥ п▒п╬я┐я│п╨п╟ 3-пЁп╬ п╢п╫я▐ я│п╣пЁп╬ п╪п╣я│я▐я├п╟б╩11. п║я┘п╬п╤п╟я▐ я┐я┤п╟я│я┌я▄ я┐пЁя─п╬п╤п╟п╩п╟ п╡ я┌п╬п╪ пЁп╬п╢я┐ п╣я┴п╣ п╬п╢п╫п╬п╪я┐ пЁп╬я─п╬п╢я┐. п▓ п÷я┐п╫п╨я┌п╟я┘ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-п╪п╟п╧п╬я─я┐ п▓п╣я─п╢п╣п╫я┐ п╬я┌ 12 п╦я▌п╩я▐ 1706 пЁ. п÷п╣я┌я─ п©я─п╦п╨п╟п╥я▀п╡п╟п╩ п╥п╟п╫я▐я┌я▄ п÷п╬п╩п╬я├п╨, п╟ б╚п╣п╤п╣п╩п╦ (п╬я┌ я┤п╣пЁп╬, п▒п╬п╤п╣, я│п╬я┘я─п╟п╫п╦) п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▄ я│п╦п╩п╫п╬ п╫п╟я│я┌я┐п©п╦я┌, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╪я┐ п©я─п╬я┌п╦п╡п╦я┌я├п╟ п╠я┐п╢п╣я┌ п╫п╣п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬, я┌п╬, я─п╟п╥п╬я─я▐я▐ п÷п╬п╩п╬я├п╨п╦п╧ п╥п╟п╪п╬п╨ (п╨я─п╬п╪п╣ я├п╣я─п╨п╡п╣п╧), я┐я│я┌я┐п©п╦я┌я▄ п╨ я│п╡п╬п╣п╧ пЁя─п╟п╫п╦я├п╣б╩12.
п·я│п╬п╠я▀п╧ я│п╩я┐я┤п╟п╧ п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╦я▐ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п╟я─п╪п╦п╣п╧ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩я▐п╣я┌ п╬я┌я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣ п╦п╥ п⌠я─п╬п╢п╫п╬ п╡ п╪п╟я─я┌п╣ 1706 пЁ. п≤п╫я│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ я├п╟я─я▐ п╨ я└п╣п╩я▄п╢п╪п╟я─я┬п╟п╩я┐ п·пЁп╦п╩я▄п╡п╦ п╦ п╨ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩я┐ п═п╣п©п╫п╦п╫я┐ п©п╬п╢я─п╬п╠п╫п╬ п╬п©п╦я│я▀п╡п╟п╩п╦ п╪п╣я─я▀ п╨ я│п╨я─я▀я┌п╫п╬п╪я┐ п╦ п╠я▀я│я┌я─п╬п╪я┐ п╬я┌я┘п╬п╢я┐. п▓ я┤п╟я│я┌п╫п╬я│я┌п╦, п©я┐я┬п╨п╦ я─п╟п╥я─п╣я┬п╟п╩п╬я│я▄ п╡п╥я▐я┌я▄ я│ я│п╬п╠п╬п╧ п╩п╦я┬я▄ п╩п╣пЁп╨п╦п╣ я┌я─п╣я┘я└я┐п╫я┌п╬п╡я▀п╣, п╟ п╬я│я┌п╟п╩я▄п╫я▀п╣ п╡п╣п╩п╣п╫п╬ п©п╬п╠я─п╬я│п╟я┌я▄ п╡ п²п╣п╪п╟п╫ (б╚п╦п╠п╬ п╬п╫п╦ я┌п╟п╨ п╡п╟я│ я│п╡я▐п╤я┐я┌ я│п╡п╬п╣я▌ я┌я▐пЁп╬я│я┌п╦я▌, я┤я┌п╬ п╡п╟п╪ я│п╨п╬я─п╬ п╬я┌п╫я▌п╢я▄ п╦я┌я┌п╦я┌я▄ п╠я┐п╢п╣я┌ п╫п╣п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬б╩)13. п·пЁп╦п╩я▄п╡п╦ п╡ п©п╣я─п╡я┐я▌ п╬я┤п╣я─п╣п╢я▄ п╡я▀я│п╩п╟п╩ п╦п╥ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п╠п╬п╩я▄п╫я▀я┘ п╦ п©п╩п╣п╫п╫я▀я┘, п©я─п╦п╨п╟п╥п╟п╩ п╬п╠п╫п╬п╡п╦я┌я▄ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ я─п╣я┌я─п╟я┬п╣п╪п╣п╫я┌п╟ п╦ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟п╫п╦я┌я▄ п╢п╣п╥п╦п╫я└п╬я─п╪п╟я├п╦я▌ я│я─п╣п╢п╦ п╪п╣я│я┌п╫п╬пЁп╬ п╫п╟я│п╣п╩п╣п╫п╦я▐ (б╚п╤п╦п╢п╟п╪ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟п╩ я│п╨п╟п╥п╟я┌я▄... п╠я┐п╢я┌п╬ я▐ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▄я│п╨я┐я▌ пЁя─п╬п╥п╫я┐я▌ п╟я┌п╟п╨я┐... п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╬ п╬п╤п╦п╢п╟я┌я▄ я┘п╬я┴я┐б╩). п≈п╟я┌п╣п╪ п╠я▀п╩ п╬я┌п©я─п╟п╡п╩п╣п╫ п╡п╣я│я▄ п╠п╟пЁп╟п╤ п╦ п©п╣я─п╣п╨я─я▀я┌я▀ п╡я▀п╣п╥п╢я▀ п╦п╥ п⌠я─п╬п╢п╫п╬, я┤я┌п╬п╠я▀ я┌я─п╦ п╢п╫я▐ п©п╬я│п╩п╣ я┐я┘п╬п╢п╟ п╟я─п╪п╦п╦ п╫п╦п╨п╬пЁп╬ п╫п╣ п╡п©я┐я│п╨п╟п╩п╦ п╦ п╫п╣ п╡я▀п©я┐я│п╨п╟п╩п╦ п╦п╥ пЁп╬я─п╬п╢п╟. п²п╟ я┌я─п╣я┌п╦п╧ п╢п╣п╫я▄ п©п╬я│п╩п╣ п©п╬п╩я┐я┤п╣п╫п╦я▐ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟ п╫п╟я┤п╟п╩п╦ п╡я▀я┘п╬п╢п╦я┌я▄ п╡п╬п╧я│п╨п╟. п²п╟ п╪п╣я│я┌п╣ п╬я│я┌п╟п╡п╟п╩я│я▐ п╬п╢п╦п╫ п╢я─п╟пЁя┐п╫я│п╨п╦п╧ п©п╬п╩п╨, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п©п╣я─п╣пЁп╬я─п╬п╢п╦п╩ п╡я┘п╬п╢я▀ п╡ я─п╣я┌я─п╟я┬п╣п╪п╣п╫я┌ п©п╟п╩п╦я│п╟п╢п╟п╪п╦ п╦ п©п╬п╢п╢п╣я─п╤п╦п╡п╟п╩ п╬пЁп╫п╦ п╡ п╩п╟пЁп╣я─п╣ п╦ я┐я┬п╣п╩ п╫п╟ я│п╣п╢я▄п╪п╬п╧ п╢п╣п╫я▄; п©п╣я─п╡я▀п╧ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╦п╧ п╬я┌я─я▐п╢ п©п╬я▐п╡п╦п╩я│я▐ я┐ п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫п╬пЁп╬ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п╩п╦я┬я▄ п╫п╟ п╢п╣п╡я▐я┌я▀п╧ п╢п╣п╫я▄14. п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╪ п╠я▀п╩п╟ п╢п╬я│я┌п╦пЁп╫я┐я┌п╟ я│п╨я─я▀я┌п╫п╬я│я┌я▄ п╬я┌я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╦ п╡я▀п╦пЁя─п╟п╫п╬ п╡я─п╣п╪я▐, я┤я┌п╬п╠я▀ п╬я┌п╬я─п╡п╟я┌я▄я│я▐ п╬я┌ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬пЁп╬ п©я─п╣я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╫п╦я▐. п⌠п╬я─п╬п╢ п╦ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╫п╣ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╟п╩п╦, п©п╬я│п╨п╬п╩я▄п╨я┐ я─п╟я│я│я┤п╦я┌я▀п╡п╟п╩п╦ п╡я│п╨п╬я─п╣ я│п╫п╬п╡п╟ п╥п╟п╫я▐я┌я▄ п╣пЁп╬.
п▓я▀п╡п╬п╥ п©я┐я┬п╣п╨ п╦п╥ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╣п╧, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╫п╣ п©я─п╣п╢п©п╬п╩п╟пЁп╟п╩п╬я│я▄ п╬п╠п╬я─п╬п╫я▐я┌я▄ п╦ п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╪п╬пЁп╩п╦ п╢п╬я│я┌п╟я┌я▄я│я▐ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▌, п╠я▀п╩ я─п╟п╥я┐п╪п╫п╬п╧ п╪п╣я─п╬п╧ п©я─п╣п╢п╬я│я┌п╬я─п╬п╤п╫п╬я│я┌п╦, п╬п╢п╫п╟п╨п╬ п©п╬п╢п╬п╠п╫я▀п╣ п╪п╣я─я▀ п╫п╣ я┐я│я┌я─п╟п╦п╡п╟п╩п╦ я│п╬я▌п╥п╫п╦п╨п╬п╡ Б─⌠ я┘п╬п╥я▐п╣п╡ я─п╟п╥п╬я─я┐п╤п╟п╣п╪я▀я┘ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╣п╧. 22 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ 1706 пЁ. п÷п╣я┌я─ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟п╩ п°п╟п╥п╣п©п╣: б╚п÷я┐я┬п╨п╦ п╪п╣п╢п╫я▀п╣ п╦п╥ п▒я─п╬п╢п╬п╡ п╡п╣п╩п╦ п╡я▀п╡п╣я│я┌я▄ п╡ пЁя─п╟п╫п╦я├я┐ п╫п╟я┬я┐, п╨я┐п╢я▀ я┐п╢п╬п╠п╫п╣п╣б╩15. п·п©п╣я─п╟я├п╦я▐ я█я┌п╟ п╠я▀п╩п╟ п╫п╣я│п╩п╬п╤п╫п╬п╧, п╫п╬ п©п╬п╡п╩п╣п╨п╩п╟ п╥п╟ я│п╬п╠п╬п╧ п╬я│п╩п╬п╤п╫п╣п╫п╦я▐ п╡ п╬я┌п╫п╬я┬п╣п╫п╦я▐я┘ я│ п╣п╢п╦п╫я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀п╪п╦ я│п╬я▌п╥п╫п╦п╨п╟п╪п╦. п я─п╣п©п╬я│я┌я▄ п▒я─п╬п╢я▀ п©я─п╦п╫п╟п╢п╩п╣п╤п╟п╩п╟ п▓п╣п╩п╦п╨п╬п╪я┐ п п╫я▐п╤п╣я│я┌п╡я┐ п⌡п╦я┌п╬п╡я│п╨п╬п╪я┐, п╦ п°п╟п╥п╣п©п╟ п╢п╬п╫п╬я│п╦п╩ я├п╟я─я▌ п╬ п╫п╣п╢п╬п╡п╬п╩я▄я│я┌п╡п╣ п╩п╦я┌п╬п╡я│п╨п╦я┘ п╟я─п╦я│я┌п╬п╨я─п╟я┌п╬п╡ п÷п╬я├п╣я▐ п╦ п═п╟п╢п╥п╦п╡п╦п╩п╩п╟ я┌п╣п╪, я┤я┌п╬ п©п╣я─п╣п╢ п╩п╦я├п╬п╪ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╬пЁп╬ п╡я┌п╬я─п╤п╣п╫п╦я▐ п╨я─п╟п╧ п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╦ п╠п╣п╥п╬я─я┐п╤п╫я▀п╪: б╚п▓п╣п╩п╪п╦ п╫п╣пЁп╬п╢я┐я▌я┌, п╨п╬пЁп╢п╟ п╡я│я▌п╢я┐ п©я─п╬п╫п╣я│п╩п╬я│я▐, я┤я┌п╬ я│ я└п╟я─я┌п╣я├я▀п╣я▌ п▒я─п╬п╢я│п╨п╬я▌ я│я┌п╟п╩п╬я│я▐, я│ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ п╡я│я▌ п╟я─п╪п╟я┌я┐ п╦ п╟п╪я┐п╫п╦я├я▀я▌, п©п╬ я┐п╨п╟п╥я┐ п╪п╬п╫п╟я─я┬п╣п╪я┐ п╣пЁп╬ я├п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╣я│п╡п╣я┌п╩п╬пЁп╬ п╡п╣п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╟, п╥п╟п╠я─п╟п╫п╬ п╦ п╢п╬ п п╦п╣п╡п╟ п©п╬п©я─п╬п╡п╟п╤п╣п╫п╬, п╬ я┤п╣п╪ п╩я▐я┘п╦ п╡п╣п╩п╪п╦ п╫п╣пЁп╬п╢я┐я▌я┌Б─╕ пёп╤п╣ п╬п╠п╫п╟п╤п╣п╫п╫я┐я▌ п╟я─п╪п╟я┌ п╦ п╥ п╟п╪я┐п╫п╦я├п╦п╦ п╬я┌ я┬п╡п╣п╢п╟, п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▐ п╫п╟я┬п╣пЁп╬, п÷п╬п╩я┬я┐ я┌п╣п©п╣я─я▄ п╣пЁп╬ я├п╟я─я│п╨п╬п╣ п©я─п╣я│п╡п╣я┌п╩п╬п╣ п╡п╣п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬ п╢п╬ п╨п╬п╫я├п╟ п╫п╟п╨п╟п╥п╟п╩ п╢п╬п╥п╬я─п╪п╬п╡п╟я┌п╦ [я─п╟п╥п╬я─я┐п╤п╦я┌я▄. Б─⌠ п▒.п°.], п╨п╬пЁп╢п╟ п╪п╟п╩п╬ п╫п╣ п©п╬я│п╩п╣п╢п╫я▌я▌ я┐п╤п╣ п╫п╟п╢п╣п╤п╢я┐ п╦ п╬п╠п╬я─п╬п╫я┐ я─п╣я┤п╦ п©п╬я│п©п╬п╩п╦я┌п╬п╧ п╥ п▒я─п╬п╢п╬п╡ я┐п╨п╟п╥п╟п╩ п╥п╟п╠я─п╟я┌п╦б╩16. п÷п╣я┌я─ п©я─п╬я│п╦п╩ п⌠.п≤. п⌠п╬п╩п╬п╡п╨п╦п╫п╟ я─п╟п╥я┼я▐я│п╫п╦я┌я▄ п╩п╦я┌п╬п╡я├п╟п╪, я┤я┌п╬ п©я┐я┬п╨п╦ б╚п╠я▀ п╢п╬я│я┌п╟п╩п╦я│я▄ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▌, п╦п╠п╬ я┐п╤п╣ п╫п╣ п╣п╢п╦п╫п╬п╧ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦ п╫п╣ п╬я│я┌п╟п╩п╬я│я▄, пЁп╢п╣ п╠я▀ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▄ п╫п╣ п╡я▀п╡п╣п╥, п╨п╟п╨ п⌡я▄п╡п╬п╡, п я─п╟п╨п╬п╡ п╦ п©я─п╬я┤п╦п╣, п╟ пЁп╡п╟я─п╫п╦п╥п╬п╫п╟ я┌п╟п╪ п╫я▀п╫п╣ п╢п╣я─п╤п╟я┌я▄ п╫п╣п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬б╩; я┤я┌п╬п╠я▀ я┐я│п©п╬п╨п╬п╦я┌я▄ я│п╬я▌п╥п╫п╦п╨п╬п╡, п÷п╣я┌я─ п©я─п╣п╢п©п╦я│п╟п╩ п©я┐я┬п╨п╦ п╫п╣ п╡п╡п╬п╥п╦я┌я▄ п╡ я─я┐я│я│п╨п╦п╣ я─я┐п╠п╣п╤п╦, п╟ п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ п╡ п╬п╢п╫п╬п╧ п╦п╥ п©я─п╦пЁя─п╟п╫п╦я┤п╫я▀я┘ п╩п╦я┌п╬п╡я│п╨п╦я┘ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╣п╧ Б─⌠ п▒я▀я┘п╬п╡п╣ п╦п╩п╦ п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡п╣17. п▓ п©п╦я│я▄п╪п╣ п°п╣п╫я┬п╦п╨п╬п╡я┐ п╬я┌ 29 п╟п©я─п╣п╩я▐ п÷п╣я┌я─ п©п╬п╢я┌п╡п╣я─п╤п╢п╟п╩, я┤я┌п╬ п©я┐я┬п╨п╦ б╚п╡я▀п╡п╣п╥п╣п╫я▀ п╫п╣ п╢п╩я▐ п╨п╬я─я▀я│я┌п╦ п╫п╟я┬п╣п╧, п╫п╬ п╢п╩я▐ я┌п╬пЁп╬, я┤я┌п╬ я┌п╟ п╨я─п╣п©п╬я│я┌я▄ п╡п╬п╣п╡п╬п╢я▀ п п╦п╣п╡я│п╨п╬пЁп╬ [п©п╬п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ я│п╟п╫п╬п╡п╫п╦п╨п╟ п╝. п÷п╬я┌п╬я├п╨п╬пЁп╬. Б─⌠ п▒.п°.], п╦ п╣п╤п╣п╩п╦ п╠я▀ п╫п╣ п╡я▀п╡п╣я│я┌я▄, я┌п╬ п╠ п╬п╫я▀п╧ п╡п╬п╣п╡п╬п╢п╟ я┬п╡п╣п╢п╬п╡ я┌я┐п╢п╟ п╡п╡п╣п╩ п╦ п╨я─п╣п©п╨п╦п╧ п©я┐я┌я▄ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▌ п╨ п╫п╟я┬п╦п╪ пЁя─п╟п╫п╦я├п╟п╪ я┐я┤п╦п╫п╦п╩; п╟ п╬п╫я▀п╣ п©я┐я┬п╨п╦ я┤я┌п╬п╠ п╬я┌п╢п╟я┌я▄ п╡ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦ п©п╬п╩я│п╨п╦п╣, п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡ п╦ п▒я▀я┘п╬п╡, п╦ п╨п╟п╨ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬ п╦я┘ п╡ я│п╣п╪ п╢п╣п╩п╣ я┐я┌п╣я┬п╦я┌я▄, п╢п╟п╠я▀ п╡п╬п╡я│п╣ п╫п╣ п╬п╥п╩п╬п╠п╦я┌я▄б╩18.
п·п╢п╫п╟п╨п╬ п╦ п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡ п╩п╦я┬п╦п╩п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦ я┤п╣я─п╣п╥ пЁп╬п╢ п╦ п©п╬я┤я┌п╦ п©п╣я─п╣п╢ я│п╟п╪я▀п╪ п©я─п╦я┘п╬п╢п╬п╪ я┬п╡п╣п╢п╬п╡. 3 п╟п╡пЁя┐я│я┌п╟ 1707 пЁ. пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩ п═п╣п©п╫п╦п╫ п╦п╥ п°п╦п╫я│п╨п╟ п©я─п╦я│п╩п╟п╩ п╨п╬п╪п╟п╫п╢я┐ п╦п╥ п╢п╡я┐я┘я│п╬я┌ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦я│я┌п╬п╡ я│ п╪п╟п╧п╬я─п╬п╪, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п©п╬я│п╩п╣ я┌я─п╣я┘ п╢п╫п╣п╧ п©я─п╣п╠я▀п╡п╟п╫п╦я▐ п╡ пЁп╬я─п╬п╢п╣ я─п╟п╫п╬ я┐я┌я─п╬п╪ п╡ п╡п╬я│п╨я─п╣я│п╣п╫я▄п╣ я│п╬п╠я─п╟п╩п╦ пЁп╬я─п╬п╢я│п╨п╦п╣ п©я┐я┬п╨п╦: 25 п╬я─я┐п╢п╦п╧ п╢п╬я│я┌п╟п╡п╦п╩п╦ п╡ п╥п╟п╪п╬п╨, пЁп╢п╣ п╨п╬п╩п╣я│п╟ п╦ п╩п╟я└п╣я┌я▀ п©п╬я─я┐п╠п╦п╩п╦, п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀п╣ п╬п╨п╬п╡п╨п╦ п╬п╠п╬п╢я─п╟п╩п╦, п╟ я│я┌п╡п╬п╩я▀ п©п╬пЁя─я┐п╥п╦п╩п╦ п╡ п╠п╟п╧п╢п╟п╨ п╦ п╬я┌п©я─п╟п╡п╦п╩п╦ п╡ п║п╪п╬п╩п╣п╫я│п╨. п⌠п╬я─п╬п╤п╟п╫п╟п╪ я┐п╢п╟п╩п╬я│я▄ я┐я┌п╟п╦я┌я▄ п╬я┌ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ п╥п╟п╪я┐я─п╬п╡п╟п╫п╫п╬п╣ п╡ п·п╩п╣п╧п╫п╬п╧ п╠я─п╟п╪п╣ п©п╬п╪п╣я┴п╣п╫п╦п╣ я├п╣п╧я┘пЁп╟я┐п╥п╟, пЁп╢п╣ я┘я─п╟п╫п╦п╩я│я▐ п©п╬я─п╬я┘, п©я┐п╩п╦, я│п╬я┌п╫п╦ п╠я─я┐я│п╨п╬п╡ я│п╡п╦п╫я├п╟ п╦ б╚я┌я─п╦ п╪п╬я─я┌п╦я─я▀ я│ я─я┐я│я│п╨п╬я▌ п╡п╬п╨я─я┐пЁ п╫п╟п╢п©п╦я│я▄я▌б╩. п·п╢п╫п╟п╨п╬ я┤п╣я─п╣п╥ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╢п╫п╣п╧ б╚п╪п╬я│п╨п╡п╦я┌я▐п╫п╣б╩, я┐п╥п╫п╟п╡ п╬ я│п╣п╨я─п╣я┌п╫п╬п╪ я┘я─п╟п╫п╦п╩п╦я┴п╣, п╬п©я┐я│я┌п╬я┬п╦п╩п╦ п╦ п╣пЁп╬. п⌠п╬п╡п╬я─п╦п╩п╦, п╠я┐п╢я┌п╬ я│п╣п╨я─п╣я┌ п╡я▀п╢п╟п╩ я│п╩я┐п╤п╦п╡я┬п╦п╧ п╢п╬п╩пЁп╬ п╡ п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡п╣ б╚п╪п╬я│п╨п╟п╩я▄ п║я┌п╣п╫я▄п╨п╟ п÷п╬п╫п╟я─я│п╨п╦п╧б╩. п÷п╬я─п╬я┘, п©я┐п╩п╦ п╦ я│п╡п╦п╫п╣я├ я─п╬п╥п╢п╟п╩п╦ п©п╬ п©п╬п╩п╨п╟п╪, п╟ п╡я│п╣ я┌я▐п╤п╣п╩я▀п╣ я▐п╢я─п╟, я┤я┌п╬п╠я▀ п╫п╣ п╢п╬я│я┌п╟п╩п╦я│я▄ я┬п╡п╣п╢п╟п╪, п╥п╟я┌п╬п©п╦п╩п╦ п╡ п■п╫п╣п©я─п╣19.
п·п©п╟я│п╫п╬я│я┌я▄ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╬пЁп╬ п╡я┌п╬я─п╤п╣п╫п╦я▐ п╡ я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╦п╣ п╡п╩п╟п╢п╣п╫п╦я▐ я│я┌п╟п╩п╟ я─п╣п╟п╩я▄п╫п╬п╧ п╡ 1708 пЁ., п╦ я│п╟п╪я▀п╪ я┐пЁя─п╬п╤п╟п╣п╪я▀п╪ пЁп╬я─п╬п╢п╬п╪ п╠я▀п╩ п■п╣я─п©я┌ (п╒п╟я─я┌я┐), п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ я─п╟я│п©п╬п╩п╟пЁп╟п╩я│я▐ п╥п╟п╪п╣я┌п╫п╬ п╢п╟п╩я▄я┬п╣ п╫п╟ п╥п╟п©п╟п╢, я┤п╣п╪ п╡я│п╣ п╬я│я┌п╟п╩я▄п╫я▀п╣ п╥п╟п╫п╦п╪п╟п╣п╪я▀п╣ я─п╬я│я│п╦я▐п╫п╟п╪п╦ п╫п╟ я┌п╬я┌ п╪п╬п╪п╣п╫я┌ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦. пёп╢п╣я─п╤п╦п╡п╟я┌я▄ пЁп╬я─п╬п╢ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬я│я┌п╦ п╫п╣ п╠я▀п╩п╬, п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╠я▀п╩п╬ я─п╣я┬п╣п╫п╬ п╡я▀я│п╩п╟я┌я▄ п╫п╟я│п╣п╩п╣п╫п╦п╣ п╡пЁп╩я┐п╠я▄ п═п╬я│я│п╦п╦, п╟ п╨я─п╣п©п╬я│я┌я▄ я─п╟п╥п╬я─я┐п╤п╦я┌я▄ п╦ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╦я┌я▄ п©я─п╦ п©я─п╦п╠п╩п╦п╤п╣п╫п╦п╦ я┬п╡п╣п╢п╬п╡. п▓я▀я│я▀п╩п╨п╟ п╫п╟я│п╣п╩п╣п╫п╦я▐ п©я─п╬п╦п╥п╬я┬п╩п╟ 18 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ 1708 пЁ., п╫п╬ я─я┐я│я│п╨п╦п╣ п╡п╬п╧я│п╨п╟ п╥п╟п╫п╦п╪п╟п╩п╦ п╬п╨я─п╣я│я┌п╫п╬я│я┌п╦ п■п╣я─п©я┌п╟ п╢п╬ п╦я▌п╩я▐, п╨п╬пЁп╢п╟ я█п╡п╟п╨я┐п╟я├п╦я▐ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п╠я▀п╩п╟ п╡п╬п╥п╩п╬п╤п╣п╫п╟ п╫п╟ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-п©п╬я─я┐я┤п╦п╨п╟ п═.п╔. п▒п╬я┐я─п╟20. п п©п╣я─п╡я▀п╪ я┤п╦я│п╩п╟п╪ п╦я▌п╩я▐ п╡ п÷я│п╨п╬п╡ п╡я▀п╡п╣п╥п╩п╦ п╡я│п╣ п╥п╟п©п╟я│я▀ п©п╬я─п╬я┘п╟ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦я▌; п╥п╟я┌п╣п╪ п╫п╟я┤п╟п╩п╬я│я▄ я─п╟п╥пЁя─п╟п╠п╩п╣п╫п╦п╣ п╬п©я┐я│я┌п╣п╡я┬п╣пЁп╬ пЁп╬я─п╬п╢п╟ Б─⌠ п╡п©п╩п╬я┌я▄ п╢п╬ п╤п╣я│я┌п╦ я├п╣я─п╨п╬п╡п╫я▀я┘ п╨я─п╬п╡п╣п╩я▄. п░ 12 п╦я▌п╩я▐ я│я┌п╟п╩п╦ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╟я┌я▄ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐. п п╟п╪п╣п╫п╫я▀п╣ я│я┌п╣п╫я▀ п╡п╥я─я▀п╡п╟п╩п╦, п╫п╬ п╫п╟ я│я─я▀я┌п╦п╣ п╥п╣п╪п╩я▐п╫я▀я┘ п╡п╟п╩п╬п╡ я┌я─п╣п╠п╬п╡п╟п╩п╬я│я▄ я│п╩п╦я┬п╨п╬п╪ п╪п╫п╬пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦, п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╬п╫п╦ я┐я├п╣п╩п╣п╩п╦; п©п╬п╢ п╨п╬п╫п╣я├ п╥п╟п╤пЁп╩п╦ я├п╣я─п╨п╡п╦ п╦ п╢п╬п╪п╟ п╦ п©п╬п╨п╦п╫я┐п╩п╦ пЁп╬я─п╬п╢ 17-пЁп╬ я┤п╦я│п╩п╟21. 21 п╦я▌п╩я▐ п▒п╬я┐я─ п╢п╬п╨п╩п╟п╢я▀п╡п╟п╩ я├п╟я─я▌ п╬п╠ п╦я│п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦п╦: б╚п■п╣я─п©я┌ п©п╬ п╡п╟я┬п╣п╪я┐ я├п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ п╡п╣п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╟ п╬я│п╬п╠п╬п╪я┐ я┐п╨п╟п╥я┐ п╡я│п╣ я┐п©я─п╟п╡п╦п╩ п╦ я┌п╟п╨ п╥п╢п╣п╩п╟п╫п╬, я┤я┌п╬ п╠п╟я┬п╫п╦ п╦ п╠п╬п╩п╡п╟я─п╨п╦ п╡я│п╣ п╢п╬ п©п╬п╢п╬я┬п╡я▀ п©п╬п╢п╫я▐я┌я▀ п╦ п╥п╟я─п╬п╡п╫я▐п╫п╬, п╦ п©п╬п╩п╟я┌п╫п╬п╣ я│я┌я─п╬п╣п╫п╦п╣ п╡я│п╣ п╬я┌ п╬пЁп╫я▐ я─п╬п╥п╡п╟п╩п╦п╩п╬я│я▄б╩22, п╟ п╡ п©п╦я│я▄п╪п╣ п╬я┌ 30 п╦я▌п╩я▐ я┐я┌п╬я┤п╫я▐п╩, я┤я┌п╬ п■п╣я─п©я┌ п╠я▀п╩ б╚п©п╬п╢п╬я─п╡п╟п╫ п╦ п╥п╟я─п╬п╡п╫я▐п╫б╩ 15Б─⌠16 п╦я▌п╩я▐ 1708 пЁ.23
п²п╟ п╫п╟п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╦ пЁп╩п╟п╡п╫п╬пЁп╬ я┐п╢п╟я─п╟ п п╟я─п╩п╟ XII я─я┐я│я│п╨п╟я▐ п╟я─п╪п╦я▐, п╬я┌я│я┌я┐п©п╟я▐ п╦ я│п╩п╣п╢я┐я▐ б╚я│я┌я─п╟я┌п╣пЁп╦п╦ п╡я▀п╤п╤п╣п╫п╫п╬п╧ п╥п╣п╪п╩п╦б╩, п╫п╟п╪п╣я─п╣п╡п╟п╩п╟я│я▄ я─п╟п╥п╬я─п╦я┌я▄ п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡, п╬п╢п╫п╟п╨п╬ п©п╬п╫п╟я┤п╟п╩я┐ пЁп╬я─п╬п╤п╟п╫п╟п╪ я┐п╢п╟п╩п╬я│я▄ я│п©п╟я│я┌п╦ я│п╡п╬п╧ пЁп╬я─п╬п╢. п■п╬я┬п╣п╢я┬п╟я▐ п╢п╬ п╫п╟я│ п╔я─п╬п╫п╦п╨п╟ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п╢п╟п╣я┌ п╫п╟п╪ я┐п╫п╦п╨п╟п╩я▄п╫я▀п╧ я┬п╟п╫я│ я┐п╡п╦п╢п╣я┌я▄ я│п╬п╠я▀я┌п╦я▐ п║п╣п╡п╣я─п╫п╬п╧ п╡п╬п╧п╫я▀ пЁп╩п╟п╥п╟п╪п╦ пЁп╬я─п╬п╤п╟п╫, п©п╬п©п╟п╡я┬п╦я┘ б╚п╪п╣п╤п╢я┐ п╪п╬п╩п╬я┌п╬п╪ п╦ п╫п╟п╨п╬п╡п╟п╩я▄п╫п╣п╧б╩. п▓ п╔я─п╬п╫п╦п╨п╣ п╥п╟п©п╦я│п╟п╫п╬, я┤я┌п╬ 3 п╦я▌п╩я▐ 1708 пЁ. б╚п╪п╬я│п╨п╡п╦я┌я▐п╫п╣ я┘п╬я┌п╣п╩п╦ п╡я▀п╤п╣я┤я▄ пЁп╬я─п╬п╢, п╫п╬ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪п╦ п©п╬п╢п╟я─п╨п╟п╪п╦ я┌п╟п╨п╬п╣ п©я─п╣п╢п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╣ я┐я│я┌я─п╟п╫п╣п╫п╬. [п⌠п╦п╠п╣п╩я▄п╫п╬п╣ я█я┌п╬ п╫п╟п╪п╣я─п╣п╫п╦п╣ п╦п╪п╣п╩ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-п╟п╢я┼я▌я┌п╟п╫я┌ п╗п╦п╩п╦п╫пЁ.]б╩24. п▓ я┌п╬я┌ п╤п╣ п╢п╣п╫я▄ п╡ п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡ п╡п╬я┬п╩п╦ п╡п╬п╩п╬я┘п╦ (п╦я─я─п╣пЁя┐п╩я▐я─п╫п╟я▐ п╨п╬п╫п╫п╦я├п╟) п п╟я─п╩п╟ XII, п╟ я┤п╣я─п╣п╥ я┌я─п╦ п╢п╫я▐ пЁп╬я─п╬п╢ п╠я▀п╩ п╥п╟п╫я▐я┌ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╦п╪п╦ п╡п╬п╧я│п╨п╟п╪п╦, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ я│я┌п╬я▐п╩п╦ я┌п╟п╪ п╢п╬ я│п╣я─п╣п╢п╦п╫я▀ п╟п╡пЁя┐я│я┌п╟.
п≤я│п©я▀я┌я▀п╡п╟я▐ п╫п╟ я│п╣п╠п╣ я█я└я└п╣п╨я┌п╦п╡п╫п╬я│я┌я▄ б╚я│п╨п╦я└я│п╨п╬п╧ я┌п╟п╨я┌п╦п╨п╦б╩ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟, я┬п╡п╣п╢я▀ п©я─п╦я┬п╩п╦ п╡ пЁп╬я─п╬п╢ п©п╬я│п╩п╣ п╢п╬п╩пЁп╬п╧ п╦п╥п╫я┐я─п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╧ п╨п╟п╪п©п╟п╫п╦п╦ п╦ п╠я▀п╩п╦ п╦я│я┌п╬я┴п╣п╫я▀. п╔п╬п╢п╦п╩п╦ я│п╩я┐я┘п╦, я┤я┌п╬ п╣я│п╩п╦ п╠я▀ п╬п╫п╦ п╥п╟п╢п╣я─п╤п╟п╩п╦я│я▄ п╫п╟ п©п╬я┘п╬п╢п╣ п╣я┴п╣ я┌я─п╦ п╢п╫я▐, я┌п╬ п╬п╫п╦ п©я─п╬п©п╟п╩п╦ п╠я▀ п╬я┌ пЁп╬п╩п╬п╢п╟, я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ я┘п╩п╣п╠п╟ п╫п╟ п╦я┘ п©я┐я┌п╦ п╫п╣ п╬я│я┌п╟п╩п╬я│я▄. п╞п╡п╦п╡я┬п╣п╪я┐я│я▐ п╫п╟ п╡я│я┌я─п╣я┤я┐ п╨п╬я─п╬п╩я▐ п╪п╟пЁп╦я│я┌я─п╟я┌я┐ п п╟я─п╩ я│п╨п╟п╥п╟п╩: б╚п╡я▀ п╢п╟п╡п╟п╩п╦ п©я─п╬п╡п╦п╟п╫я┌ п╪п╬я│п╨п╟п╩я▌, я┌п╬ я│п╩п╣п╢я┐п╣я┌ п╢п╟п╡п╟я┌я▄ п╦ п╪п╫п╣б╩25. п²п╟ пЁп╬я─п╬п╢ п╠я▀п╩п╦ п╫п╟п╩п╬п╤п╣п╫я▀ п╤п╣я│я┌п╬п╨п╦п╣ п©п╬п╡п╦п╫п╫п╬я│я┌п╦ п©п╬ п╬п╠п╣я│п©п╣я┤п╣п╫п╦я▌ п╟я─п╪п╦п╦ п©я─п╬п╡п╦п╟п╫я┌п╬п╪ п╦ п╢п╣п╫я▄пЁп╟п╪п╦. п≤ я┘п╬я┌я▐ пЁп╬я─п╬п╢ п╡ я┌п╣я┤п╣п╫п╦п╣ п╡я│п╣я┘ п©я─п╣п╢я▀п╢я┐я┴п╦я┘ п╩п╣я┌ п╡п╬п╧п╫я▀ п©п╬п╢п╡п╣я─пЁп╟п╩я│я▐ п╪п╫п╬пЁп╬я┤п╦я│п╩п╣п╫п╫я▀п╪ п╦ п╫п╣п╪п╟п╩я▀п╪ п╨п╬п╫я┌я─п╦п╠я┐я├п╦я▐п╪ я│п╬ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ п╩п╦я┌п╬п╡я│п╨п╦я┘ п╦ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ п╡п╬п╧я│п╨, п╟ я┌п╟п╨п╤п╣ п©п╬п╠п╬я─п╟п╪ я┤п╟я│я┌п╫я▀я┘ п╡п╬п╦п╫я│п╨п╦я┘ п╫п╟я┤п╟п╩я▄п╫п╦п╨п╬п╡, п╨я─п╟я┌п╨п╬п╡я─п╣п╪п╣п╫п╫п╬п╣ п©я─п╣п╠я▀п╡п╟п╫п╦п╣ я┬п╡п╣п╢п╬п╡ п╡ п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡п╣ п╬я┌п╪п╣я┤п╣п╫п╬ п╨п╟п╨ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ я─п╟п╥п╬я─п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╣ п╢п╩я▐ пЁп╬я─п╬п╤п╟п╫. б╚п п╬пЁп╢п╟ п╥п╟я┌п╣п╪ я┌я▐п╤п╨п╦п╪п╦ я█п╨п╥п╣п╨я┐я├п╦я▐п╪п╦ пЁп╬я─п╬п╢ п╦я│я┌п╬я┴п╦п╩я│я▐ п╦ п╪п╣я┴п╟п╫п╣ п©я─п╦я┬п╩п╦ п╡ я┐п╠п╬п╤п╣я│я┌п╡п╬, я┌п╟п╨ я┤я┌п╬ п╫п╣пЁп╢п╣ п╠я▀п╩п╬ п╡п╥я▐я┌я▄, п╫п╦ п©п╬п╩я┐я┤п╦я┌я▄ п╡п╥п╟п╧п╪я▀ п╢п╣п╫п╣пЁ, п╟ я┌я─п╣п╠п╬п╡п╟п╩п╬я│я▄ п╣я┴п╣ п╡ п╡я▀п╢п╟я┤я┐ п╫п╟ п©я▐я┌я▄ я─п╣пЁп╦п╪п╣п╫я┌п╬п╡Б─╕ я┌п╬ п╥п╟ п╡я│п╣п╪п╦ п╨п╬я─п╬п╩я▐ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╬пЁп╬ п╟я│я│п╦пЁп╫п╬п╡п╨п╟п╪п╦, я█п╨п╥п╣п╨я┐я├п╦я▐ п©я─п╣я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╩п╟ п╥п╟п╤п╦я┌п╬я┤п╫п╣п╧я┬п╦я┘ пЁя─п╟п╤п╢п╟п╫, п╦я┘ п╥п╟п╨п╩я▌я┤п╟п╩п╦ п╡ п©п╬пЁя─п╣п╠п╟, п╪п╬я─п╦п╩п╦ пЁп╬п╩п╬п╢п╬п╪, п╬п╠п╫п╟п╤п╣п╫п╫я▀я┘ п©п╬пЁя─я┐п╤п╟п╩п╦ п╡ я┘п╬п╩п╬п╢п╫я┐я▌ п╡п╬п╢я┐, п╡п╣я┬п╟п╩п╦ п╫п╟ п╠п╟п╩п╨п╟я┘ п╦ п╪я┐я┤п╦п╩п╦ я─п╟п╥п╫я▀п╪п╦ п╦я│я┌я▐п╥п╟п╫п╦я▐п╪п╦ [п╦ я┌п╟п╨п╦п╪п╦ я│я─п╣п╢я│я┌п╡п╟п╪п╦ п╡я▀п╪я┐я┤п╦п╩п╦ п╣я┴п╣ 1133 п╠п╦я┌я▀я┘ я┌п╟п╩п╣я─п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣, п©я─п╦я│п╬п╣п╢п╦п╫п╦п╡ п╨ п©я─п╣п╤п╫п╣п╧ я│я┐п╪п╪п╣, я│п╬я│я┌п╟п╡п╦п╩п╦ п╡я│п╣ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬ 10 648 п╠п╦я┌я▀я┘ я┌п╟п╩п╣я─п╬п╡.] п╗п╡п╣п╢я│п╨п╦п╧ п╨п╬я─п╬п╩я▄, п╫п╣ п╢п╬п╡п╬п╩я▄я│я┌п╡я┐я▐я│я▄ п©я─п╬п╢п╬п╡п╬п╩я▄я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀п╪п╦ п╦ п╢п╣п╫п╣п╤п╫я▀п╪п╦ п╨п╬п╫я┌я─п╦п╠я┐я├п╦я▐п╪п╦, я│п╟п╪ п╬п╠я┼п╣п╥п╤п╟п╩ п╥п╫п╟я┌п╫п╣п╧я┬п╦п╣ я├п╣я─п╨п╡п╦, п╦ я┘п╬я┌я▐ п╪п╟п╩п╬ п╡п╦п╢п╣п╩ я│п╣я─п╣п╠я─п╟ п╫п╟ п╦п╨п╬п╫п╟я┘, п╦п╠п╬ п╡я│п╣ п╩я┐я┤я┬п╣п╣ п©я─п╦п©я─я▐я┌п╟п╫п╬ п╠я▀п╩п╬ п╡ п╥п╣п╪п╩я▌, п╫п╬ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╡ п╬я┌ я┐я│п╩я┐п╤п╩п╦п╡я▀я┘ п╣п╡я─п╣п╣п╡ п╦п╥п╡п╣я┴п╣п╫п╦п╣, я┤я┌п╬ п╡ я├п╣я─п╨п╡п╟я┘ я┘я─п╟п╫п╦я┌я│я▐ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╣ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬ я│п╣я─п╣п╠я─п╟, п╡я▀п╢п╟п╩ п©я─п╦п╨п╟п╥, я┤я┌п╬п╠я▀ п╦п╥ я┘я─п╟п╪п╬п╡ п╫п╣п╪п╣п╢п╩п╣п╫п╫п╬ п╠я▀п╩п╬ п╡я▀п╢п╟п╫п╬ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ я│п╬я┌ я└я┐п╫я┌п╬п╡ я│п╣я─п╣п╠я─п╟, п╦п╠п╬ п╡ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╬п╪ п╬п╠п╬п╥п╣ п©п╬я│я┌п╬я▐п╫п╫п╬ п╠я▀п╩п╟ я┤п╣п╨п╟п╫п╣п╫п╟ п╪п╬п╫п╣я┌п╟. п÷я─п╦я┤п╣п╪ п╨п╬я─п╬п╩я▄ я┐пЁя─п╬п╤п╟п╩, п╡ я│п╩я┐я┤п╟п╣ п╫п╣п╡я▀п╢п╟я┤п╦, я─п╟п╥пЁя─п╟п╠п╦я┌я▄ п╦ я│п╤п╣я┤я▄ пЁп╬я─п╬п╢. п°п╣я┴п╟п╫п╣, п╬я│я┌п╟п╡п╟я▐я│я▄ п╡п╬ п╡п╩п╟я│я┌п╦ пЁя─п╬п╥п╫п╬пЁп╬ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▐, я┐я│я┌я┐п©п╦п╩п╦ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪п╬я│я┌п╦ п╡я▀п╢п╟я┌я▄ я┌я─п╣п╠я┐п╣п╪п╬п╣ я│п╣я─п╣п╠я─п╬б╩26. б╚п╗п╡п╣п╢я▀, п©я─п╦п╠я▀п╡ п╨ п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡я┐, я┌п╬я┌я┤п╟я│ я─п╟п╥пЁя─п╟п╠п╦п╩п╦ п▒я┐п╧п╫п╦я├п╨п╦п╧ п╪п╬п╫п╟я│я┌я▀я─я▄, я─п╟п╥п╬пЁп╫п╟п╩п╦ п╪п╬п╫п╟я┘п╬п╡, я┌п╟п╨ я┤я┌п╬ п╡ п╪п╬п╫п╟я│я┌я▀я─п╣ п╫п╦ п╬п╢п╫п╬п╧ п╢я┐я┬п╦ п╫п╣ п╬я│я┌п╟п╩п╬я│я▄. п■я─п╣п╡п╫я▌я▌ п╢п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я┐я▌ я├п╣я─п╨п╬п╡я▄ пёя│п©п╣п╫п╦я▐ п©я─п╣я│п╡я▐я┌п╬п╧ п▒п╬пЁп╬я─п╬п╢п╦я├я▀ я─п╟п╥п╬п╠я─п╟п╩п╦ п╦ п╣п╣ п╢п╣я─п╣п╡п╬п╪ п©п╬п╪п╬я│я┌п╦п╩п╦ п╡ я┘п╦п╤п╦п╫п╟я┘, п╠я▀п╡я┬п╦я┘ п©п╬п╢ пЁп╬я─п╬я▌ п╦ п©п╬ п╢п╬я─п╬пЁп╟п╪б╩27.
п■п╣я┌п╟п╩я▄п╫п╬п╣ п╬п©п╦я│п╟п╫п╦п╣ п╡я│п╣я┘ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▄п╫я▀я┘ п©п╬я┌п╣я─я▄ пЁп╬я─п╬п╢п╟ (п╡ п╔я─п╬п╫п╦п╨п╣ п©п╬п╢я─п╬п╠п╫п╬ я─п╟я│п©п╦я│п╟п╫п╬, я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ я┘п╩п╣п╠п╟ п╣п╤п╣п╢п╫п╣п╡п╫п╬ п©я─п╣п╢п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩ п╨п╟п╤п╢я▀п╧ пЁп╬я─п╬п╢я│п╨п╬п╧ п╨п╡п╟я─я┌п╟п╩ п╦ я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╢п╣п╫п╣пЁ пЁп╬я─п╬п╤п╟п╫п╣ п╡я▀п©п╩п╟я┤п╦п╡п╟п╩п╦ п╨п╟п╤п╢п╬п╪я┐ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╬п╪я┐ п©п╬п╩п╨я┐) п©п╬п╥п╡п╬п╩я▐п╣я┌ п©п╬п╫я▐я┌я▄, п©п╬я┤п╣п╪я┐ п╡п╬я▌я▌я┴п╦п╣ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ я│я┌п╟я─п╟п╩п╦я│я▄ п╫п╣ п╬я┌п╢п╟п╡п╟я┌я▄ п╡ я─я┐п╨п╦ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▐ я┌п╟п╨п╦п╣ п╬п╠п╦п╩я▄п╫я▀п╣ я─п╣я│я┐я─я│п╟п╪п╦ п©п╬я│п╣п╩п╣п╫п╦я▐. п п╨п╬п╫я├я┐ п╟п╡пЁя┐я│я┌п╟ п╟я─п╪п╦я▐ п╨п╬я─п╬п╩я▐ я┐я┬п╩п╟ п╢п╟п╩я▄я┬п╣ п╫п╟ я▌пЁп╬-п╡п╬я│я┌п╬п╨, п╦ я┐ п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡п╟ я│п╫п╬п╡п╟ п©п╬я▐п╡п╦п╩п╦я│я▄ я├п╟я─я│п╨п╦п╣ п╡п╬п╧я│п╨п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╫п╟ я█я┌п╬я┌ я─п╟п╥ п╦п╪п╣п╩п╦ я┌п╡п╣я─п╢я▀п╧ п©я─п╦п╨п╟п╥ я─п╟п╥п╬я─п╦я┌я▄ пЁп╬я─п╬п╢. п÷п╣я┌я─ п©п╦я│п╟п╩ п═.п╔. п▒п╬я┐я─я┐ 1 я│п╣п╫я┌я▐п╠я─я▐: б╚п╫п╣ я┌п╬я┤п╦я▌ я┘п╩п╣п╠ п╦п╩п╦ я└я┐я─п╟п╤, п╫п╬ п╦ я│я┌я─п╬п╣п╫я▄п╣ п╤пЁп╦я┌п╣, (п╢п╟п╠я▀ п©п╬п╢ я│п╣п╧ я┘п╬п╩п╬п╢п╫я▀п╧ я┤п╟я│ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▄ п╫п╣ п╦п╪п╣п╩ п╫п╦я┤п╣пЁп╬ я│п╣п╠п╣ п╡я▀пЁп╬Б─╕ п╫п╬ п⌠п╬я─п╨п╦, п⌠п╬я─я▀ п╦ п©я─п╬я┤п╦п╣ п╪п╣я│я┌п╟ я─п╟п╥п╬я─я▐п╧б╩28. п²п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╦п╪п╦ п╢п╫я▐п╪п╦ п©п╬п╥п╤п╣ п÷п╣я┌я─ п©п╬п╡я┌п╬я─я▐п╩: б╚я┤я┌п╬п╠ п╡я│п╣ (п╨п╟п╨ я┐п╤п╣ п╦ п©я─п╣п╤п╢п╣ я┐п╨п╟п╥ п╢п╟п╫ п╡п╟п╪) п©я─п╣п╢ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩п╣п╪ п╤п╣я┤я▄, п╫п╣ я┴п╟п╢я▐ п╬я┌п╫я▌я┌я▄ п╫п╦я┤п╣п╡п╬ (п╟ п╦п╪п╣п╫п╫п╬ п╥п╫п╟я┌п╫я▀я┘ п╪п╣я│я┌)Б─╕ п╒п╟п╨п╬п╤ пЁп╩п╟п╡п╫п╬п╣ п╡п╬п╧я│п╨п╬ [п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▐] п╬п╠п╤п╦пЁп╟п╫п╦п╣п╪ п╦ я─п╟п╥п╬я─п╣п╫п╦п╣п╪ я┐я┌п╬п╪п╩я▐я┌я▄, п╢п╩я▐ я┤п╣пЁп╬ я│я┌п╬п╩п╨п╬ п╦ п╡п╬п╧я│п╨п╟ п╡п╟п╪ п©я─п╦п╠п╟п╡п╩п╣п╫п╬; я┌п╟п╨п╬п╤ п╨п╬п╪п╬п╫п╦п╨п╟я├п╦я▌ я│ п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡я▀п╪ п╬я┌я│п╣я┤я▄. п░ п╫я▀п╫п╣ я│п╩я▀я┬п╟п╩п╦ п╪я▀, я┤я┌п╬ п╡ п°п╬пЁп╦п╩п╣я└ п╫п╣я│п╨п╬п╩п╨п╬ я│п╬я┌ п╡п╬п╥п╬я└ я│ п╟п╪п╪я┐п╫п╦я├п╣п╣я▌ п©я─п╬я┬п╩п╬, п╟ п╡я▀ п╫п╦п╨п╬п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╦я│п╨я┐ п╫п╟ п╫п╦я┘ п╫п╣ я┐я┤п╦п╫п╦п╩п╦, п╦ я┌п╬ п╫п╣ п╥п╟ п╢п╬п╠я─п╬ п©я─п╦п╣п╪п╩п╣я┌я├п╟, п╨ я┤п╣п╪я┐ п╦ п╫я▀п╫п╣ п©п╟п╨п╦ п©п╬я┌я┌п╡п╣я─п╤п╢п╟п╣п╪, я┤я┌п╬п╠ п╡я▀ я┤п╦п╫п╦п╩п╦ я│ п©п╬п╪п╬я┴п╦я▌ п▒п╬п╤п╦п╣я▌ п©п╬ п╢п╟п╫п╫я▀п╪ п╡п╟п╪ я┐п╨п╟п╥п╟п╪. п я┌п╬п╪я┐ п╤ п©я─п╦п╢п╟п╣я┌я│я▐ я│п╦п╣: п╣п╤п╣п╩п╦ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▄ п©п╬п╧п╢п╣я┌ п╨ п▓п╦я┌п╣п©я│п╨я┐, п╬я│я┌п╟п╡я▐ п╢п╬я─п╬пЁп╦ п╨ п║п╪п╬п╩п╣п╫я│п╨я┐, я┌п╬пЁп╢п╟ п╫п╟п©п╣я─п╣я┌ п©п╣я─п╣п╧я┌п╦я┌я▄ п■п╫п╣п©я─ п╦ п▓п╦я┌п╣п©я│п╨п╦п╧ я┐п╣п╥п╢ (п╦п╩п╦ п╨я┐п╢п╟ п╬п╠я─п╟я┴п╣п╫п╦п╣ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▄я│п╨п╬п╣ п╠я┐п╢п╣я┌) я─п╟п╥п╬я─я▐я┌я▄ п╠п╣п╥ п╬я│я┌п╟я┌п╨я┐ (я┘п╬я┌я▐ п©п╬п╩я▄я│п╨п╬п╣ п╦п╩п╦ я│п╡п╬п╣)б╩29. п▒п╬я┐я─, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╫п╣п╥п╟п╢п╬п╩пЁп╬ п©п╣я─п╣п╢ я┌п╣п╪ п╡я▀п©п╬п╩п╫п╦п╩ п╟п╫п╟п╩п╬пЁп╦я┤п╫я┐я▌ п╥п╟п╢п╟я┤я┐ п╡ п■п╣я─п©я┌п╣, п╢п╬п╨п╩п╟п╢я▀п╡п╟п╩ п╬п╠ п╦я│п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦п╦ 6 я│п╣п╫я┌я▐п╠я─я▐: б╚п≤ п╡ п©я─п╟п╡п╢п╣ я│п╡п╬п╣п╧ п╡п╟я┬п╣п╪я┐ я├п╟я─я│п╨п╬п╪я┐ п╡п╣п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡я┐ п╢п╬п╫п╬я┬я┐: пЁп╢п╣ п╬п╠я─п╣я┌п╣п╫п╦п╣ п╪п╬п╣ п╠я▀п╩п╬, я┌п╬ п╡я│п╣ п╡я▀п╤п╣пЁ; п╟ п╡ п⌠п╬я─я▀ п╢п╩я▐ п©п╬п╤п╣пЁя┐ я│я┌я─п╬п╣п╫я▄я▐ п©п╬я│я▀п╩п╟п╩ п╬я┌я┼я▌я┌п╟п╫я┌п╟ я│п╡п╬п╣пЁп╬, п╦ п╡ я┌п╬п╪ п╪п╣я│я┌п╣ я│я┌п╬п╦я┌ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-п©п╬я─я┐я┌я┤п╦п╨ п⌠п╣п╫я│п╨п╦п╫ п╦ п╡я▀п╤п╣я┤я▄ п╫п╣ п╢п╟п╩ п╦ я│п╨п╟п╥п╟п╩, я┤я┌п╬ п©п╬ п©п╬я┘п╬п╢п╣ я│п╡п╬п╣п╪ я┌п╬ п╪п╣я│я┌п╬ п╡п╣п╩п╦я┌ п╡я▀п╤п╣я┤я▄. п▓ п°п╟пЁп╦п╩п╣п╡ я│п╣пЁп╬ я┤п╦я│п╩п╟ п╬я┌п©я─п╟п╡п╦п╩ п╡ п©п╟я─я┌п╦я▌ п╪п╟п╣п╬я─п╟ п▓п╦п╢п╪п╟п╫п╟, я│ п╫п╦п╪ п╢я─п╟пЁя┐п╫ 300, п╨п╟п╥п╟п╨п╬п╡ 500, п╦ п©п╬ я┐п╨п╟п╥я┐ п╡п╟я┬п╣пЁп╬ п╡п╣п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╟ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟п╩ я┐п©я─п╟п╡п╦я┌я▄ п©п╬п╡п╣п╩п╣п╫п╫п╬п╣, п╟ я│ п╬п╫я▀п╪ п╪п╟п╣п╬я─п╬п╪ п©п╬п╣я┘п╟п╩ п╡п╟я┬п╣пЁп╬ я├п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ п╡п╣п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╟ пЁп╬я│п©п╬п╢п╦п╫ п╬я┌я┼я▌я┌п╟п╫я┌ п▒п╟я─я┌п╣п╫п╣п╡б╩30.
п╔я─п╬п╫п╦п╨п╟ я─п╟я│я│п╨п╟п╥я▀п╡п╟п╣я┌ п╬п╠ п╦я│п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦п╦ п©п╣я┌я─п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟, п╡ я─п╣п╥я┐п╩я▄я┌п╟я┌п╣ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ пЁп╬я─п╬п╢, п╬пЁя─п╟п╠п╩п╣п╫п╫я▀п╧ я┬п╡п╣п╢п╟п╪п╦, п╡ п╬п╢п╦п╫ п╢п╣п╫я▄ п╬п╠я─п╟я┌п╦п╩я│я▐ п╡ п©я─п╟я┘ п╦ п©п╣п©п╣п╩. 8 я│п╣п╫я┌я▐п╠я─я▐ я─я┐я│я│п╨п╦п╣, п╨п╟п╩п╪я▀п╨п╦ п╦ я┌п╟я┌п╟я─я▀, п╬п╨я─я┐п╤п╦п╡ я│п╬ п╡я│п╣я┘ я│я┌п╬я─п╬п╫ пЁп╬я─п╬п╢, п╥п╟п©п╣я─п╩п╦ пЁп╬я─п╬п╢я│п╨п╦п╣ п╡п╬я─п╬я┌п╟, я┐п╢п╟я─п╦п╩п╦ п╡ п╠п╟я─п╟п╠п╟п╫я▀ я┌я─п╣п╡п╬пЁя┐ п╦ п╥п╟п╤пЁп╩п╦ п╥п╟п╪п╬п╨. п√п╦я┌п╣п╩п╦ п╡я▀п╪п╬п╩п╦п╩п╦ п╬я┌я│я─п╬я┤п╨я┐ п╫п╟ п╬п╢п╦п╫ я┤п╟я│, я┤я┌п╬п╠я▀ п©п╣я─п╣п╫п╣я│я┌п╦ пЁп╬я─п╬п╢я│п╨п╦п╣ п╨п╫п╦пЁп╦ п╦п╥ я─п╟я┌я┐я┬п╦ п╡ п©п╬п╢п╡п╟п╩. п≈п╟я┌п╣п╪ п╨п╟п╩п╪я▀п╨п╦ я─п╟п╥п╬я─п╦п╩п╦ п╦ п©п╬п╢п╬п╤пЁп╩п╦ п╩п╟п╡п╨п╦ п╦ п╢п╬п╪п╟, п╟ п©п╬я┌п╬п╪ я┐п╣я┘п╟п╩п╦ п╦п╥ пЁп╬я─п╬п╢п╟.
п║п╫п╟я┤п╟п╩п╟ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟п╫п╦п╩я│я▐ я│п╩я┐я┘, п╠я┐п╢я┌п╬ п╪п╬я│п╨п╬п╡п╦я┌я▀ п╡я▀я─п╣п╥п╟я▌я┌ п╤п╦я┌п╣п╩п╣п╧; п©п╬п╥п╢п╫п╣п╣ пЁп╬п╡п╬я─п╦п╩п╦, я┤я┌п╬ пЁп╬я─п╬п╤п╟п╫п╣ п╦п╥п╠п╣п╤п╟п╩п╦ п╦я│я┌я─п╣п╠п╩п╣п╫п╦я▐, я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ п╫п╣ я│я┌п╟п╩п╦ п╬п╨п╟п╥я▀п╡п╟я┌я▄ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╫п╬пЁп╬ я│п╬п©я─п╬я┌п╦п╡п╩п╣п╫п╦я▐. п═п╟п╥пЁя─п╟п╠п╩п╣п╫п╦п╣ я├п╣я─п╨п╡п╦ п║п╡. п²п╦п╨п╬п╩п╟я▐ п╫п╟я┤п╟п╩п╦ я┌п╬п╤п╣ п╨п╟п╩п╪я▀п╨п╦, п╫п╬ п╢п╬п╡п╣я─я┬п╦п╩п╦ п╣пЁп╬ б╚я│п╪п╣п╩п╣п╧я┬п╦п╣ п╪п╣я┴п╟п╫п╣ п╦ я│п╡я▐я┴п╣п╫п╫п╦п╨п╦ я│ п©я─п╦я┤я┌п╬п╪б╩. п·п╢п╫п╦ пЁп╬я─п╬п╤п╟п╫п╣ п╠п╣п╤п╟п╩п╦ п╦ я│п╨я─я▀п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╡ п╩п╣я│п╟я┘, п╡ я┌п╬ п╡я─п╣п╪я▐ п╨п╟п╨ п╢я─я┐пЁп╦п╣ п╬я│я┌п╟п╩п╦я│я▄ п╡ п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡п╣ п╦ п╪п╟я─п╬п╢п╣я─я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦. п·пЁп╫п╣п╪ п╠я▀п╩п╦ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╣п╫я▀ я│п╟п╪я▀п╣ п╠п╬пЁп╟я┌я▀п╣ п©п╬я│я┌я─п╬п╧п╨п╦ пЁп╬я─п╬п╢п╟: б╚п÷я▀п╩п╟я▌я┴п╦п╣ я┘я─п╟п╪я▀ п▒п╬п╤п╦п╦ п╦ я┐п╨я─п╟я┬п╟я▌я┴п╦п╣ п╦я┘ п╨я─п╣я│я┌я▀ п╬я┌ п╤п╟я─п╟ я│п╨п╩п╬п╫я▐я▌я┴п╦п╣я│я▐ п╡п╫п╦п╥ п╦ п©п╟п╢п╟я▌я┴п╦п╣ п╫п╟ п╥п╣п╪п╩я▌; п╢п╬я─п╬пЁп╬ я│я┌п╬п╦п╡я┬п╦п╣ я├п╣я─п╨п╬п╡п╫я▀п╣ п╨я┐п©п╬п╩я▀ пЁп╬я─я▐я┌, п╟ п╬я┌п╬я─п╡п╟п╫п╫я▀п╣ п╬я┌ п╫п╦я┘ п╡п╣я┌я─п╬п╪ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀п╣ п╩п╦я│я┌я▀, п╨п╟п╨ п©я┌п╦я├я▀, п╩п╣я┌п╟я▌я┌ п╡ п╡п╬п╥п╢я┐я┘п╣, п╨п╬п╩п╬п╨п╬п╩п╟ я│п╟п╪п╦ п╥п╡п╬п╫я▐я┌, п╟ я┤п╟я│я┌п╫я▀п╣ я┘п╬п╥я▐п╧я│п╨п╦п╣ п╢п╬п╪п╟ п╠п╣п╥ п╡я│я▐п╨п╬п╧ п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀ п╬п╠я─п╟я┴п╟я▌я┌я│я▐ п╡ п©п╣п©п╣п╩б╩ 31.
п╒п╣п╪ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╣п╪ я┬п╡п╣п╢я▀ п©я─п╬п╢п╬п╩п╤п╟п╩п╦ п╢п╡п╦п╤п╣п╫п╦п╣, я┌п╣п©п╣я─я▄ п╫п╟ я▌пЁп╬-п╡п╬я│я┌п╬п╨. п║я─п╣п╢п╦ п╢я─я┐пЁп╦я┘ я│п╩п╬п╠п╬п╢я│п╨п╦я┘ пЁп╬я─п╬п╢п╨п╬п╡ п╗п╣я─п╣п╪п╣я┌п╣п╡ пЁп╬я┌п╬п╡п╦п╩ п╨ п╬п╠п╬я─п╬п╫п╣ п÷п╬я┤п╣п© п╦ п©я─п╣п╢я┐я│п╪п╟я┌я─п╦п╡п╟п╩ я─п╟п╥п╫я▀п╣ п╡п╟я─п╦п╟п╫я┌я▀ я─п╟п╥п╡п╦я┌п╦я▐ я│п╬п╠я▀я┌п╦п╧. п■п╩я▐ п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀ п╬я┌ п╫п╣п╠п╬п╩я▄я┬п╦я┘ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▄я│п╨п╦я┘ п©п╟я─я┌п╦п╧ я┌я┐п╢п╟ п╡п╡п╣п╢п╣п╫ п╬п╢п╦п╫ п╠п╟я┌п╟п╩я▄п╬п╫ п©п╣я┘п╬я┌я▀ п╦ 100 п╢я─п╟пЁя┐п╫, б╚п╟ п╣п╤п╣п╩п╦ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▄ п╡я│п╣я▌ п╟я─п╪п╣п╣я▌ п╬п╠я─п╬я┌п╦я┌ п╨ п÷п╬я┤п╣п©я┐, я┌п╬ п©п╬ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩п╫п╬п╪я┐ я│п╬п╡п╣я┌я┐ п©я─п╣п╢п╩п╬п╤п╦п╩п╦ я┌п╬п╪я┐ п╨п╬п╪п╣п╫п╢п╟п╫я┌я┐ п©п╬я┤п╣п©я│п╨п╬п╪я┐ п©я┐я┬п╨п╦ п╪п╣п╢п╫я▀п╣ п╦ п©п╬я─п╬я┘ п╡п╥я▐я┌я▄ п╦ п╬я┌я│я┌я┐п©п╦я┌я▄ п╥п╟ я─п╣п╨я┐ п║я┐п╢п╬я│я┌я▄ п╦ п©п╬я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟я┌я▄ п╥п╟ пЁп╩п╟п╡п╫п╬я▌ п╟я─п╪п╣п╣я▌, п╟ п©я─п╦ п╬я┌я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╦ п÷п╬я┤п╣п© п╥п╤п╣я┤я▄б╩, Б─⌠ я│п╬п╬п╠я┴п╟п╩ я└п╣п╩я▄п╢п╪п╟я─я┬п╟п╩ п÷п╣я┌я─я┐ 12 п╬п╨я┌я▐п╠я─я▐ 1708 пЁ.32 п▒я▀п╩ п╩п╦ п╡ я─п╣п╥я┐п╩я▄я┌п╟я┌п╣ я│п╬п╤п╤п╣п╫ п÷п╬я┤п╣п© Б─⌠ п╫п╣ п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫п╬. п²п╟п©я─п╦п╪п╣я─, я│п╬я│п╣п╢п╫п╦п╧ пЁп╬я─п╬п╢п╬п╨ п°пЁп╩п╦п╫ п╗п╣я─п╣п╪п╣я┌п╣п╡ я┌п╬п╤п╣ п©я─п╦п╨п╟п╥я▀п╡п╟п╩ я│п╤п╣я┤я▄, п╫п╬ я│п╢п╣п╩п╟п╫п╬ я█я┌п╬ п╫п╣ п╠я▀п╩п╬, п╦ п╫п╣п╪п╟п╩я▀п╣ п╥п╟п©п╟я│я▀ п©я─п╬п╢п╬п╡п╬п╩я▄я│я┌п╡п╦я▐ п╢п╬я│я┌п╟п╩п╦я│я▄ я┬п╡п╣п╢п╟п╪ 33.
п п╟п╨ п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫п╬, п╡ п╦я┌п╬пЁп╣ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╟я▐ п╟я─п╪п╦я▐ п©п╬п╡п╣я─п╫я┐п╩п╟ п╫п╟ я▌пЁ, п╫п╟ пёп╨я─п╟п╦п╫я┐, пЁп╢п╣ п╫п╣п╪п╟п╩п╬ пЁп╬я─п╬п╢п╨п╬п╡ п╠я▀п╩п╬ п╣я▌ п╥п╟п╫я▐я┌п╬ (я│ п╠п╬п╣п╪ п╦п╩п╦ п╠п╣п╥ п╠п╬я▐), п╟ п©п╬я┌п╬п╪ я│п╬п╤п╤п╣п╫п╬ п©я─п╦ п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╦. п÷п╬п╢п╬п╠п╫п╟я▐ я┐я┤п╟я│я┌я▄, я│п╬пЁп╩п╟я│п╫п╬ п░п╢п╩п╣я─я└п╣п╩я▄п╢я┐, п╤п╢п╟п╩п╟ п║п╪п╣п╩п╬п╣, п²п╣п╢я─п╦пЁп╟п╧п╩п╬п╡, п╒п╣я─п╫п╬п╡, п▓п╣п©я─п╦п╨, п·п╩п╣я┬п╫я▌, п⌠п╟п╢я▐я┤, п я─п╟я│п╫я▀п╧ п я┐я┌, п⌠п╬я─п╬п╢п╫п╦я├я┐ п╦ п п╬п╩п╬п╪п╟п╨ 34. п÷п╬я│п╩п╣ п╫п╣п╬п╢п╫п╬п╨я─п╟я┌п╫я▀я┘ п©п╬п©я▀я┌п╬п╨ я│п╫я▐я┌я▄ я┬п╡п╣п╢я│п╨я┐я▌ п╬я│п╟п╢я┐ п÷п╬п╩я┌п╟п╡я▀ я┐ п÷п╣я┌я─п╟ п©п╬я▐п╡п╦п╩п╦я│я▄ п╬п©я─п╟п╡п╢п╟п╫п╫я▀п╣ я│п╬п╪п╫п╣п╫п╦я▐, я┤я┌п╬ я█я┌я┐ п╨я─п╣п©п╬я│я┌я▄ я┐п╢п╟я│я┌я│я▐ п╡я▀я─я┐я┤п╦я┌я▄. п÷п╣я─п╣п╢ я┌п╣п╪ п╨п╟п╨ п©п╣я─п╣п╧я┌п╦ п▓п╬я─я│п╨п╩я┐ п╦ п©я─п╬п╠п╬п╡п╟я┌я▄ п╟я┌п╟п╨п╬п╡п╟я┌я▄ я┬п╡п╣п╢я│п╨я┐я▌ п╟я─п╪п╦я▌ п╡ п©п╬п╩п╣, я├п╟я─я▄ п╬я┌п©я─п╟п╡п╦п╩ п©п╬п╩я┌п╟п╡я│п╨п╬п╪я┐ п╨п╬п╪п╣п╫п╢п╟п╫я┌я┐ п░.п║. п п╣п╩п╦п╫я┐ 19 п╦я▌п╫я▐ 1709 пЁ. п©п╦я│я▄п╪п╬ я│ п╦п╫я│я┌я─я┐п╨я├п╦я▐п╪п╦ п╫п╟ я│п╩я┐я┤п╟п╧ п╫п╣я┐п╢п╟я┤п╦ п╦ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪п╬я│я┌п╦ я█п╨я│я┌я─п╣п╫п╫п╬ я█п╡п╟п╨я┐п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄ п╨я─п╣п©п╬я│я┌я▄: б╚я┐я│п╪п╟я┌я─я▐ п╡я─п╣п╪я▐ (п╡ п╢п╣п╫я▄ п╦п╩п╦ п╫п╬я┤я▄я▌), п╡я▀я┌я┌п╣ п╡п╬п╫ п╥п╟ я─п╣п╨я┐, п╨я┐п╢я▀ я┐п╢п╬п╠п╫п╣п╣, п╦ я┌п╟п╪п╬я┬п╫п╦я┘ п╤п╦я┌п╣п╩п╣п╧ п╡я▀п╡п╣я│я┌я▄ п╪я┐п╤п╣я│п╨п╟ п©п╬п╩я┐ я┌п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╪: я│п╨п╟п╥п╟я┌я▄ п╦п╪, п╠я┐я┌я┌п╬ я┐п╨п╟п╥ п╡я▀ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╦ п╦я┌я┌п╦я┌я▄ п╡я│п╣п╪ п╫п╟ я┬п╟п╫я├я▀ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я│п╨п╦я▐, п╟ п╨п╬пЁп╢п╟ я─п╣п╨я┐ п©п╣я─п╣п╧п╢п╣я┌п╣, я┌п╬пЁп╢п╟ я┐п╢п╬п╠п╫п╣п╣ я│ п╫п╦п╪п╦ п╪п╬п╤п╣я┌п╣ п╢п╬п╧я┌п╦я┌я▄ п╢п╬ п╫п╟я│. п≤ я│п╦п╣ п╫п╟п╢п╩п╣п╤п╦я┌ п╥п╣п╩п╬ я┌п╟п╧п╫п╬ п╢п╣я─п╤п╟я┌я▄, п╢п╟п╠я▀ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▄ п╫п╣ п©я─п╬п╡п╣п╢п╟п╩, п╟ п╪я▀ п╨ я┌п╬п╪я┐ п╢п╫я▌ п©я─п╦я┬п╩п╣п╪ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╨п╬п╫п╫п╦я├я▀ п╨ я│п╣п╪я┐ п╪п╣я│я┌я┐, пЁп╢п╣ п╠я▀п╩ п╫п╟я┬ п╬п╠п╬п╥. п╒п╟п╨п╬п╤ п╫п╟п╢п╩п╣п╤п╦я┌ п╡п╟п╪ п╫п╟я┬п╦ п©я┐я┬п╨п╦, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╡я▀ п©я─п╦п╡п╣п╥п╩п╦ я│ я│п╬п╠п╬я▌, п╦п╩п╦ я┌п╟п╧п╫п╬ я─п╬п╥п╬я─п╡п╟я┌я▄ п╦п╩п╦ п╡ п╨п╬п╩п╬п╢п╣п╥я▄ п╠я─п╬я│п╦я┌я▄, я┤я┌п╬п╠ п╬я┌п╫я▌п╢я▄ п╫п╣ п╫п╟я┬п╩п╦, п╟ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╟ п╥п╤п╣я┤я▄, я┌п╟п╨п╬п╤ п©п╬я─п╬я┘я┐ п╡ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╦я┘ я┘п╬я─п╬п╪п╟я┘ п©п╬п╪п╟п╩я┐ п©п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ п╦ п©я─п╦ п╡я▀я┘п╬п╢п╣, я└п╦я┌п╦п╩я▄ п©п╬п╩п╬п╤п╟, п╥п╟п╪п╨п╫я┐я┌я▄, я┤я┌п╬п╠ п©п╬я│п╩п╣ п╡п╟я│ п╥п╟пЁп╬я─п╣п╩я│я▐ пЁп╬я─п╬п╢, п╨п╟п╨ я│я▌п╢я▀ п©п╣я─п╣п╧п╢п╣я┌п╣. п≤ я│п╦п╣ п╡я│п╣ п╬п╠я┼я▐п╡п╦я┌я▄ п╡п╟п╪ п╫п╟п╢п╩п╣п╤п╦я┌ п╫п╣п╪п╫п╬пЁп╦п╪ п╦п╥ пЁп╩п╟п╡п╫я▀я┘ п╟я└п╦я├п╣я─п╬п╡, п╟ п©п╣я─п╡п╬ п╫п╟ я┌п╬п╪ п©я─п╦я│я▐пЁп╟я▌ п╬п╠п╣п╥п╟я┌я├п╟, п╟ п╬я┌ п╤п╦я┌п╣п╩п╣п╧ п╡п╣я│п╪п╟ я┌п╟п╦я┌я▄, я┌п╟п╨п╬п╤; п╡п╟п╪ п©п╬п╤п╦я┌п╨п╬п╡ я│ я│п╬п╠п╬я▌ п╬я┌п╫я▌п╢я▄ п╫п╣ п╠я─п╟я┌я▄, п╢п╟п╠я▀ п╫п╣ п╢п╬пЁп╟п╢п╟п╩п╦я│я▄б╩35. п▓п©я─п╬я┤п╣п╪ я┐п╤п╣ я│п╨п╬я─п╬, 26 п╦я▌п╫я▐, п╥п╟ п╢п╣п╫я▄ п╢п╬ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩я▄п╫п╬п╧ п╠п╟я┌п╟п╩п╦п╦, п÷п╣я┌я─ я│п╪п╬я┌я─п╣п╩ п╫п╟ я┬п╟п╫я│я▀ п╫п╟ я┐я│п©п╣я┘ пЁп╬я─п╟п╥п╢п╬ п╠п╬п╩п╣п╣ п╬п©я┌п╦п╪п╦я│я┌п╦я┤п╫п╬ (б╚п©п╬п╫п╣п╤п╣ п╪я▀ п╩я┐я┌я┤п╟я▌ п╫п╟п╢п╣п╤п╢я┐ п╬я┌я│п╣п╩я▐, я│ п©п╬п╪п╬я┴п╦п╣я▌ п╠п╬п╤п╦п╣я▌, п╦п╪п╣п╣п╪ п╡п╟я│ п╡я▀я─я┐я┤п╦я┌я▄б╩), п╬я┌п╪п╣п╫я▐п╩ я│п╡п╬п╧ п©я─п╣п╤п╫п╦п╧ я┐п╨п╟п╥ п╬п╠ п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╦ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦ п╦ п©п╬п╡п╣п╩п╣п╡п╟п╩ п п╣п╩п╦п╫я┐, я┤я┌п╬п╠я▀ п╥п╟я┴п╦я┌п╫п╦п╨п╦ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦ б╚п╣я┴п╣ п╢п╣я─п╤п╟п╩п╦я│я▄, я┘п╬я┌я▐ я│ п╡п╣п╩п╦п╨п╬я▌ п╫я┐п╤п╢п╬я▌ п╢п╬ п©п╬п╩п╬п╡п╦п╫я▀ п╦я▌п╩я▐ п╦ п╢п╟п╩п╣п╣б╩36.
п║п╟п╪я▀п╣ п╪п╟я│я┬я┌п╟п╠п╫я▀п╣ п╬п©п╣я─п╟я├п╦п╦ п©п╬ я█п╡п╟п╨я┐п╟я├п╦п╦ пЁп╬я─п╬п╢п╬п╡ п╦ я├п╣п╩я▀я┘ п╬п╠п╩п╟я│я┌п╣п╧, я│ п╡я▀п╡п╬п╥п╬п╪ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╧, я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╣п╫п╦п╣п╪ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦п╧ п╦ п╡я▀п╡п╬п╢п╬п╪ п╫п╟я│п╣п╩п╣п╫п╦я▐, я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╦п╪ п╡п╬п╧я│п╨п╟п╪ п╦ п╟п╢п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟я├п╦п╦ п©я─п╦я┬п╩п╬я│я▄ п©я─п╬п╡п╣я│я┌п╦ п╡ 1711 пЁ. п╡п╬ п╦я│п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦п╣ п÷я─я┐я┌я│п╨п╬пЁп╬ п╢п╬пЁп╬п╡п╬я─п╟ я│ п╒я┐я─я├п╦п╣п╧. п²п╬ п╬пЁя─п╟п╫п╦я┤п╣п╫п╫я▀п╧ п╬п╠я┼п╣п╪ п©я┐п╠п╩п╦п╨п╟я├п╦п╦ п©п╬п╥п╡п╬п╩я▐п╣я┌ п╫п╟п╪ п╡я▀п╫п╣я│я┌п╦ я─п╟я│я│п╪п╬я┌я─п╣п╫п╦п╣ я█я┌п╦я┘ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ п╥п╟ я─п╟п╪п╨п╦ п╫п╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╧ я│я┌п╟я┌я▄п╦, п©п╬я│п╨п╬п╩я▄п╨я┐ я└п╬я─п╪п╟п╩я▄п╫п╬ я█я┌п╦ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐ п╬я┌п╫п╬я│я▐я┌я│я▐ п╫п╣ п╨ п║п╣п╡п╣я─п╫п╬п╧ п╡п╬п╧п╫п╣, п╟ п╨ п╒я┐я─п╣я├п╨п╬п╧ п╡п╬п╧п╫п╣ 1711Б─⌠1713 пЁпЁ.
п÷п╬я│п╩п╣ п÷п╬п╩я┌п╟п╡я│п╨п╬п╧ п╨п╟я┌п╟я│я┌я─п╬я└я▀ п╦ п©п╬я─п╟п╤п╣п╫п╦п╧ 1710 пЁ. я│п╦я┌я┐п╟я├п╦я▐ п╦п╥п╪п╣п╫п╦п╩п╟я│я▄ п╢п╩я▐ я┬п╡п╣п╢п╬п╡ п╦ п╡ п÷п╬п╪п╣я─п╟п╫п╦п╦, пЁп╢п╣ п╫п╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦ п╬п╫п╦ п╠я▀п╩п╦ п╡я▀п╫я┐п╤п╢п╣п╫я▀ п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ п╠п╣п╥ п╠п╬я▐ (п╬я┤п╣п╡п╦п╢п╫п╬, п©п╬ п╫п╣п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬я│я┌п╦ п╢п╣я─п╤п╟я┌я▄ п╬п╠п╬я─п╬п╫я┐ п╡п╬ п╪п╫п╬пЁп╦я┘ пЁп╬я─п╬п╢п╟я┘ п╬п╢п╫п╬п╡я─п╣п╪п╣п╫п╫п╬). п÷я─п╦я┤п╣п╪, п╡п╦п╢п╦п╪п╬, пЁп╟я─п╫п╦п╥п╬п╫я▀ я█п╡п╟п╨я┐п╦я─п╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ п©п╬я│п©п╣я┬п╫п╬, п╟ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦ п╫п╣ я─п╟п╥п╬я─я┐п╤п╟п╩п╦я│я▄ п╦ п╫п╣ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╟п╩п╦я│я▄, я┤я┌п╬ п╠я▀п╩п╬ п╢п╩я▐ я│п╬я▌п╥п╫п╦п╨п╬п╡ п©я─п╦я▐я┌п╫я▀п╪ я│я▌я─п©я─п╦п╥п╬п╪. п╒п╟п╨, п╡ 1711 пЁ. п╦п╥ п÷п╬п╪п╣я─п╟п╫п╦п╦ п╠я▀п╩п╦ п©п╬п╩я┐я┤п╣п╫я▀ п╡п╣п╢п╬п╪п╬я│я┌п╦ п╬ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ б╚п╡п╬п╧я│п╨п╦ п╫п╟я┬п╦я┘ п╟п╩п╦я─я┌п╬п╡ п╡я│п╣ я│п╩я┐я┤п╦п╩п╦я│я▄ [я│п╬п╣п╢п╦п╫п╦п╩п╦я│я▄] п╦ п╠п╩п╟п╨п╬п╡п╟п╩п╦ п║я┌я─п╟п╩п╥я┐п╫п╢, п╟ я┬п╡п╣п╢я▀ п╫п╣ я┌п╬п╨п╪п╬ п╠п╟я┌п╟п╩п╦я▌ [п╫п╣] п╢п╟п╩п╦, п╫п╬ п╦ 5 пЁп╬я─п╬п╢п╬п╡ п╥п╣п╩п╬ п╨я─п╣п©п╨п╦я┘ (п╦ п╬п╢п╫я┐ п╨я─п╣п©п╨я┐я▌ п©п╣я─п╣п©я─п╟п╡я┐ я│ я┬п╟п╫я├п╟п╪п╦) п©п╬п╨п╦п╫я┐п╩п╦, п╟ п╦п╪п╣п╫п╫п╬: п■п╣п╪п╦п╫, п⌠я─п╦п©я│п╡п╟п╩п╢, п░п╫п╨п╩п╟п╪, п▓п╬п╩пЁп╟я│я┌, пёп╥п╢я┐п╪ я│ п╬я│я┌я─п╬п╡п╬п╪ п╦ п╗п╡п╣п╧п╫я┬п╟п╫я├, п╦п╥ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╩я▌п╢п╣п╧ я┌п╬п╨п╪п╬ п╡я▀п╡п╣п╩п╦, п╟ п╬я─я┌п╦п╩п╣я─п╦я▌ п╬я│я┌п╟п╡п╦п╩п╦, п╦ я┌п╟п╨ я│п╨п╬я─п╬ я┐я┬п╩п╦, я┤я┌п╬ п╦ п╪п╦п╫я▀ п©п╬п╢ п╨п╬п╫я┌я─п╬я┬п╨п╟я─п©п╟п╪п╦ п╡ п╡я▀я┬п╣я─п╣я┤п╣п╫п╫я▀я┘ п╨я─п╣п©п╬я│я┌я▐я┘ п©п╬п╨п╦п╫я┐п╩п╦, п╫п╣ п©п╬п╢п╬я─п╡п╟п╡, п╦ п╡я│я▌ я│п╡п╬я▌ п©п╣я┘п╬я┌я┐ п╡ я┌я─п╦ пЁп╩п╟п╡п╫я▀п╣ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦ п©п╬я│п╟п╢п╦п╩п╦: п╡ п╗я┌п╣я┌п╦п╫, п▓п╦я│п╪п╟я─ п╦ п║я┌я─п╟п╩п╥я┐п╫п╢, п╟ п╨п╬п╫п╫п╦я├я┐ п╫п╟ п═я┐пЁп╣п╫ п╬я│я┌я─п╬п╡ п©п╣я─п╣п©я─п╟п╡п╦п╩п╦б╩37.
п▓ 1713 пЁ. я─я┐я│я│п╨п╦п╣ п╡п╬п╧я│п╨п╟ п╥п╟п╫я▐п╩п╦ я─я▐п╢ пЁп╬я─п╬п╢п╬п╡ п╡ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╬п╧ п÷п╬п╪п╣я─п╟п╫п╦п╦, п╬п╢п╫п╟п╨п╬ п╦п╥-п╥п╟ я┌я─я┐п╢п╫п╬я│я┌п╣п╧ я│ п©я─п╬п╡п╦п╟п╫я┌я│п╨п╦п╪ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫п╦п╣п╪ я│п╬п╢п╣я─п╤п╟я┌я▄ пЁп╟я─п╫п╦п╥п╬п╫я▀ п╡ я█я┌п╦я┘ пЁп╬я─п╬п╢п╟я┘ я│я┌п╟п╩п╬ п©я─п╬п╠п╩п╣п╪п╟я┌п╦я┤п╫п╬. п╖я┌п╬п╠я▀ я█я┌п╦ пЁп╬я─п╬п╢п╟ я│ п╦я┘ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐п╪п╦ п╦ п╥п╟п©п╟я│п╟п╪п╦ п╫п╣ п╢п╬я│я┌п╟п╩п╦я│я▄ я┬п╡п╣п╢п╟п╪, п╦я┘ п©я─п╣п╢п╩п╟пЁп╟п╩п╦ п╥п╟п╫я▐я┌я▄ я─п╦п╪я│п╨п╬п╪я┐ п╦п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─я┐ п╦ п©я─я┐я│я│п╨п╬п╪я┐ п╨п╬я─п╬п╩я▌, п╬п╢п╫п╟п╨п╬ я┌п╣ п╬я┌п╨п╟п╥п╟п╩п╦я│я▄. п╒п╬пЁп╢п╟ п╠я▀п╩п╬ п©я─п╦п╫я▐я┌п╬ я─п╣я┬п╣п╫п╦п╣ пЁп╟я─п╫п╦п╥п╬п╫я▀ п╡я▀п╡п╣я│я┌п╦, п╟ я│п╟п╪п╦ пЁп╬я─п╬п╢п╟ я─п╟п╥п╬я─п╦я┌я▄. п÷п╣я┌я─ п╡ п©п╦я│я▄п╪п╣ п▓.п⌡. п■п╬п╩пЁп╬я─я┐п╨п╬п╡я┐ п╬я┌ 17 п╟п©я─п╣п╩я▐ 1713 пЁ. п╬п╠я┼я▐я│п╫я▐п╩ п©я─п╦я┤п╦п╫я▀ я┌п╟п╨п╬пЁп╬ я─п╣я┬п╣п╫п╦я▐: б╚п╡п╬п╧я│п╨п╟ п╫п╟я┬п╦, я┌п╟п╪п╬ п╬п╠я─п╣я┌п╟я▌я┴п╦п╣я│я▐, п╬я┌ п╬я│я┌п╟п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╡ п÷п╬п╪п╣я─п╟п╫п╦п╦ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩п╣п╧ я┌п╟п╨ п╠я▀п╩п╦ я┌п╣я│п╫п╬ п╬п╨я─я┐п╤п╣п╫я▀, я┤я┌п╬ п╫п╣ п╪п╬пЁп╩п╦ я│п╣п╠п╣ п╡ я┌п╣я┘ пЁп╬я─п╬п╢п╣я┘, пЁп╢п╣ п╠я▀п╩п╦, п©я─п╬п©п╦я┌п╟п╫п╦я▐ п©п╬п╩я┐я┤п╦я┌я▄. п≤ я┌п╬пЁп╬ я─п╟п╢п╦, п©я─п╦п╫я┐п╤п╢п╣п╫я▀ п╦я│ я┌п╣я┘ п╪п╣я│я┌ п╡я▀я┌п╦ п╦ я│ п╫п╦п╪п╦ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я│п╨п╬я▌ п╪п╟п╫п╣я─п╬я▌ п©п╬я│я┌я┐п©п╦я┌я▄б╩38.
б╚п²п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▄п╨п╟я▐ п╪п╟п╫п╣я─п╟б╩ Б─⌠ я█я┌п╬ я─п╟п╥п╬я─п╣п╫п╦п╣, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╪я┐ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╦п╧ п╨п╬п╪п╟п╫п╢я┐я▌я┴п╦п╧ пЁя─п╟я└ п║я┌п╣п╫п╠п╬п╨ п©п╬п╢п╡п╣я─пЁ п╢п╟я┌я│п╨п╦п╧ пЁп╬я─п╬п╢ п░п╩я▄я┌п╬п╫я┐ 8Б─⌠9 я▐п╫п╡п╟я─я▐ 1713 пЁ. (п╫. я│я┌.)39. п÷п╬п╢п╬п╧п╢я▐ я│ п╡п╬п╧я│п╨п╟п╪п╦ п╨ я█я┌п╬п╪я┐ п╠п╬пЁп╟я┌п╬п╪я┐ я┌п╬я─пЁп╬п╡п╬п╪я┐ пЁп╬я─п╬п╢я┐ п╫п╣п╢п╟п╩п╣п╨п╬ п╬я┌ п⌠п╟п╪п╠я┐я─пЁп╟, я┬п╡п╣п╢я│п╨п╦п╧ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩ п©п╬я┌я─п╣п╠п╬п╡п╟п╩ п╬я┌ п╪п╟пЁп╦я│я┌я─п╟я┌п╟ п╨п╬п╫я┌я─п╦п╠я┐я├п╦я▌ п╡ 200 000 я─п╦п╨я│п╢п╟п╩п╩п╣я─п╬п╡, п╦ п╨п╬пЁп╢п╟ пЁп╬я─п╬п╤п╟п╫п╣ п╬я┌п╡п╣я┌п╦п╩п╦, я┤я┌п╬ п╫п╣ п╪п╬пЁя┐я┌ я│п╬п╠я─п╟я┌я▄ я│я┐п╪п╪я┐ п╠п╬п╩п╣п╣ 50 000, п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╦я┘ п╬я┌я─я▐п╢п╬п╡ п╡п╬я┬п╩п╦ п╫п╬я┤я▄я▌ п╡ пЁп╬я─п╬п╢ п╦ п©п╬п╢п╬п╤пЁп╩п╦ п╣пЁп╬. п▒я▀п╩п╬ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╣п╫п╬ п╬п╨п╬п╩п╬ я┌я─п╣я┘ я┌я▀я│я▐я┤ п╢п╬п╪п╬п╡ п╦ п╨п╟я┌п╬п╩п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ я│п╬п╠п╬я─, я┐я├п╣п╩п╣п╩п╬ п╢п╬ 80 п╢п╬п╪п╬п╡, п╩я▌я┌п╣я─п╟п╫я│п╨п╟я▐ п╦ я─п╣я└п╬я─п╪п╟я┌п╬я─я│п╨п╟я▐ я├п╣я─п╨п╡п╦. п÷п╬я│п╩п╣ я│п╬п╤п╤п╣п╫п╦я▐ п░п╩я▄я┌п╬п╫я▀ пЁя─п╟я└ п║я┌п╣п╫п╠п╬п╨ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟п╫п╦п╩ п©п╦я│я▄п╪п╟, п╡ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╥п╟я▐п╡п╩я▐п╩, я┤я┌п╬ п╠я▀п╩ п╡я▀п╫я┐п╤п╢п╣п╫ я┌п╟п╨ п©п╬я│я┌я┐п©п╦я┌я▄ п╡ п╫п╟п╨п╟п╥п╟п╫п╦п╣ п╥п╟ п╟п╫п╟п╩п╬пЁп╦я┤п╫я▀п╣ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐ я│п╬я▌п╥п╫п╦п╨п╬п╡; п©я─п╟п╡п╢п╟, п╨п╬п╫п╨я─п╣я┌п╫я▀п╣ п©я─п╦п╪п╣я─я▀ п╫п╣ п╠я▀п╩п╦ п╫п╟п╥п╡п╟п╫я▀. п≈п╟я┌п╣п╪ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╦п╧ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-пЁя┐п╠п╣я─п╫п╟я┌п╬я─ п▒я─п╣п╪п╣п╫п╟ пЁя─п╟я└ п▓п╣п╩п╦п╫пЁ п╡ п©п╦я│я▄п╪п╣ п╢п╟я┌я│п╨п╬п╪я┐ п╦ я│п╟п╨я│п╬п╫я│п╨п╬п╪я┐ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╬п╡п╟п╫п╦я▌ п╢п╬п╠п╟п╡п╦п╩, я┤я┌п╬ п░п╩я▄я┌п╬п╫я┐ я│п╬п╤пЁп╩п╦ п╡ п╬я┌п╪п╣я│я┌п╨я┐ п╥п╟ я│п╬п╤п╤п╣п╫п╦п╣ п╢п╟я┌я┤п╟п╫п╟п╪п╦ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п╗я┌п╟п╢п╣п╫п╟ п╦ п╫п╟п╪п╣п╨п╫я┐п╩ п╫п╟ п╪п╫п╬пЁп╬я┤п╦я│п╩п╣п╫п╫я▀п╣ п╠п╣я│я┤п╦п╫я│я┌п╡п╟ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ п╡п╬п╧я│п╨. п▓ п╬я┌п╡п╣я┌ я│п╬я▌п╥п╫я▀п╣ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩я▀ п╓п╩п╣п╪п╪п╦п╫пЁ п╦ п╗п╩п╬я┌п╣п╫ п╬я┌п╡п╣я┤п╟п╩п╦ п▓п╣п╩п╦п╫пЁя┐ п╡ я┌п╬п╪ я│п╪я▀я│п╩п╣, я┤я┌п╬ п╗я┌п╟п╢п╣п╫ п╨п╟п╨ п╨я─п╣п©п╬я│я┌я▄ п╠я▀п╩ п╥п╟п╨п╬п╫п╫п╬п╧ я├п╣п╩я▄я▌ п╢п╩я▐ п╠п╬п╪п╠п╟я─п╢п╦я─п╬п╡п╨п╦, я┤я┌п╬ б╚п╪п╬я│п╨п╬п╡п╦я┌я▀б╩ п╣я│п╩п╦ пЁп╢п╣-я┌п╬ п╦ п╠п╣я│я┤п╦п╫я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦, я┌п╬ п╫п╣ п©п╬ п©я─п╦п╨п╟п╥я┐ я│п╡п╬п╣пЁп╬ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╬п╡п╟п╫п╦я▐, п╟ я┬п╡п╣п╢я▀ п╡п╬п╬п╠я┴п╣ п©п╣я─п╡я▀п╣ п╬я┌п╨я─я▀п╩п╦ я│я┤п╣я┌ п╫п╣п╥п╟п╨п╬п╫п╫я▀п╪ п©п╬я│я┌я┐п©п╨п╟п╪ п╡ я█я┌п╬п╧ п╡п╬п╧п╫п╣ Б─⌠ п╡ я│я─п╟п╤п╣п╫п╦п╦ п©п╬п╢ п²п╟я─п╡п╬п╧, п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╩я▌п╠я▀п╣ п©я─п╣я┌п╣п╫п╥п╦п╦ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╬п╧ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ п╨ я│п╬я▌п╥п╫п╦п╨п╟п╪ п╬я┌п╫п╬я│п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ я│п©п╬я│п╬п╠п╬п╡ п╡п╣п╢п╣п╫п╦я▐ п╡п╬п╧п╫я▀ п╫п╣я┐п╪п╣я│я┌п╫я▀ 40.
п≤я┌п╟п╨, я│я│я▀п╩п╟я▐я│я▄ п╫п╟ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╬п╣ я─п╟п╥п╬я─п╣п╫п╦п╣ п░п╩я▄я┌п╬п╫я▀, п÷п╣я┌я─ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟п╩ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-п╪п╟п╧п╬я─я┐ п╗я┌п╟я└я┐ 28 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ 1713 пЁ.: б╚пЁп╬я─п╬п╢я▀ п©п╬п╪п╣я─п╟п╫я│п╨п╦п╣ п░п╫п╨п╩п╟п╪, п■п╣п╪п╦п╫, п⌠п╟я─я├, п▓п╬п╩я▄пЁп╟я│я┌ Б─⌠ я└п╟я─я┌п╣я├п╦п╦ я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬ я─п╟п╥п╬я─п╦я┌п╣. п╒п╟п╨п╤п╣ п╦ п╢п╬п╪я▀ я│п╬п╤пЁп╦я┌п╣, п╨я─п╬п╪п╣ я├п╣я─п╨п╡п╣п╧, п╡я│п╣, п╫п╣ я┴п╟п╢я▐, п╫п╦п╤п╣ п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐я▐ я┤я┌п╬б╩41. п╖я┐я┌я▄ п╠п╬п╩п╣п╣ п©п╬п╢я─п╬п╠п╫я┐я▌ п╦п╫я│я┌я─я┐п╨я├п╦я▌ п°п╣п╫я┬п╦п╨п╬п╡ п©п╣я─п╣п©я─п╟п╡п╦п╩ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-п╪п╟п╧п╬я─я┐ п▒я┐п╨я┐ 12 п╪п╟я─я┌п╟: б╚п╫п╣п╥п╟п╪п╣п╢п╩п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п©я─п╣п╤п╢п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╫п╟я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬, я─п╟п╥я─я┐я┬п╟я┌я▄ п╦ я│п╫п╬я│п╦я┌я▄ я└п╬я─я┌п╦я└п╦п╨п╟я├п╦п╬п╫п╫я▀п╣ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐; п©п╬я│п╩п╣ я┌п╬пЁп╬ я│п╩п╣п╢я┐п╣я┌ п╬я┌п╠п╦я─п╟я┌я▄ я┐ п╤п╦я┌п╣п╩п╣п╧ п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬, п╬п╢п╫п╟п╨п╬ п╫п╣ п╢п╬п©я┐я│п╨п╟я▐ п╠п╣я│п©п╬я─я▐п╢п╨п╟, п╡я│п╣ я┌п╟п╨п╬п╣, я┤я┌п╬ п╪п╬п╤п╣я┌ п©я─п╦пЁп╬п╢п╦я┌я▄я│я▐ я│п╬п╩п╢п╟я┌п╟п╪, п╨п╟п╨ п╫п╟п©я─п╦п╪п╣я─, п©п╬п╩п╬я┌п╫п╬, п╬п╢п╣п╤п╢п╟ п╦ я┌. п©. п╢п╩я▐ я─п╟я│п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫п╦я▐ п╪п╣п╤п╢я┐ п╫п╦п╪п╦. п·п╢п╫п╟п╨п╬ п╥п╡п╬п╫п╨п╟я▐ п╪п╬п╫п╣я┌п╟ п©п╬п╧п╢п╣я┌ п╡ п╨п╟п╥п╫я┐ п╣пЁп╬ я├п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ п╡п╣п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╟. п÷п╬я│п╩п╣ п╡я▀п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦я▐ п©я─п╣п╢я▀п╢я┐я┴п╣пЁп╬ п╡п╟я┬п╣ п╠п╩п╟пЁп╬я─п╬п╢п╦п╣ п╪п╬п╤п╣я┌п╣ п©п╣я─п╣п╧я┌п╦ п╨ п©п╬п╢п╤п╬пЁя┐ я│п╬ п╡я│п╣я┘ я┐пЁп╩п╬п╡ п╡я▀я┬п╣п╫п╟п╥п╡п╟п╫п╫я▀я┘ пЁп╬я─п╬п╢п╬п╡. п·п╢п╫п╟п╨п╬ п©я─п╦ я┌п╬п╪ п╫я┐п╤п╫п╬ п©я─п╦п╫я▐я┌я▄ п╪п╣я─я▀, я┤я┌п╬п╠ я├п╣я─п╨п╡п╦ п╫п╣ п╠я▀п╩п╦ п╬п╠я┼я▐я┌я▀ п©п╩п╟п╪п╣п╫п╣п╪, я┤я┌п╬п╠я▀ я├п╣я─п╨п╡п╦ п╠я▀п╩п╦ я│п╬я┘я─п╟п╫п╣п╫я▀. п√п╦я┌п╣п╩я▐п╪ п╪п╬п╤п╫п╬ я─п╟п╥я─п╣я┬п╦я┌я▄ я┐п╧я┌п╦, п╨я┐п╢п╟ п╬п╫п╦ п©п╬п╤п╣п╩п╟я▌я┌б╩42. п²п╬ п©я─п╦я┤п╦п╫ п╢п╩я▐ п╬п©п╟я│п╣п╫п╦я▐ я│я┌п╟п╫п╬п╡п╦п╩п╬я│я▄ п╡я│п╣ п╪п╣п╫я▄я┬п╣ Б─⌠ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╟я▐ п╟я─п╪п╦я▐ п╥п╟п©п╣я─п╩п╟я│я▄ п╡ п╒п╣п╫п╦п╫пЁп╣п╫п╣ п╦ п╠я▀п╩п╟ п╬п╠п╩п╬п╤п╣п╫п╟ я│п╬я▌п╥п╫п╦п╨п╟п╪п╦, п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╥п╟п╫я▐я┌я▄ п©п╬п╪п╣я─п╟п╫я│п╨п╦п╣ пЁп╬я─п╬п╢п╟ я┐п╤п╣ п╠я▀п╩п╟ п╫п╣ п╡ я│п╬я│я┌п╬я▐п╫п╦п╦; п╡п╦п╢п╦п╪п╬, п╡ я│п╡я▐п╥п╦ я│ я█я┌п╦п╪ 16 п╪п╟я─я┌п╟ п°п╣п╫я┬п╦п╨п╬п╡ п╬я┌п╪п╣п╫п╦п╩ п©я─п╦п╨п╟п╥ п▒я┐п╨я┐. п≈п╟ я█я┌п╬ п╡я─п╣п╪я▐ я─я┐я│я│п╨п╦п╣ п╡п╬п╧я│п╨п╟ я┐я│п©п╣п╩п╦ я─п╟п╥п╬я─п╦я┌я▄ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п⌠п╟я─я┌я├ п╦ п▓п╬п╩я▄пЁп╟я│я┌, п╟ п©я─п╬я┌п╦п╡ п╢п╟п╩я▄п╫п╣п╧я┬п╣пЁп╬ п╡я▀п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦я▐ я├п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟ п©я─п╬я┌п╣я│я┌п╬п╡п╟п╩п╦ п╢п╟я┌я│п╨п╦п╧ п╨п╬я─п╬п╩я▄, пЁп╟п╫п╫п╬п╡п╣я─я│п╨п╦п╧ п╨я┐я─я└я▌я─я│я┌ п╦ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╦я┌п╣п╩я▄ п©п╬п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ п╨п╬я─п╬п╩я▐ 43. п▓ я┤п╟я│я┌п╫п╬я│я┌п╦, пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-п╪п╟п╧п╬я─ я├п╟я─я│п╨п╬п╧ я│п╩я┐п╤п╠я▀ п╗я┌п╟я└ п╫п╟п╪п╣я─п╣п╡п╟п╩я│я▐ п╡я▀п©п╬п╩п╫п╦я┌я▄ п©п╣я─п╡п╬п╫п╟я┤п╟п╩я▄п╫п╬п╣ я─п╟я│п©п╬я─я▐п╤п╣п╫п╦п╣ п╬ я│п╬п╤п╤п╣п╫п╦п╦ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п░п╫п╨п╩п╟п╪, п©п╬п╨п╟ я┐п╨п╟п╥ п╬п╠ п╬я┌п╪п╣п╫п╣ п╣я┴п╣ п╫п╣ п©я─п╦п╠я▀п╩. п⌠п╬я─п╬п╢ п╠я▀п╩ я│п©п╟я│п╣п╫ п╢п╟я┌я│п╨п╦п╪ п╪п╬я─я│п╨п╦п╪ п╬я└п╦я├п╣я─п╬п╪ п©п╬ п╦п╪п╣п╫п╦ п╔я─п╦я│я┌п╦п╟п╫ п╒п╬п╪я│п╣п╫ п п╟я─п╩, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╡я▀п╥п╡п╟п╩ п╫п╟ п╢я┐я█п╩я▄ п╗я┌п╟я└п╟ п╦ п╠я▀п╩ я┌п╣п╪ п╥п╟п╨п╬п╩п╬я┌, п╫п╬ я┌п╣п╪ п╫п╣ п╪п╣п╫п╣п╣ я│п╬п╤п╤п╣п╫п╦п╣ п╠я▀п╩п╬ п╬я┌п╩п╬п╤п╣п╫п╬ 44.
п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╪, п©п╬п╨п╦п╢п╟я┌я▄ п╥п╟п╫я▐я┌я┐я▌ п╨я─п╣п©п╬я│я┌я▄ п╡п╬п╧я│п╨п╟п╪ п╥п╟ пЁп╬п╢я▀ п╡п╬п╧п╫я▀ п©я─п╦я┘п╬п╢п╦п╩п╬я│я▄ п╫п╣п╬п╢п╫п╬п╨я─п╟я┌п╫п╬. п╜я┌п╬ я│п╩я┐я┤п╟п╩п╬я│я▄ п╡ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╦я┘ я┌п╦п©п╦я┤п╫я▀я┘ п╬п╠я│я┌п╬я▐я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╟я┘:
Б─⌠ п╣я│п╩п╦ п╫п╣ п╠я▀п╩п╬ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬я│я┌п╦ п╢п╣я─п╤п╟я┌я▄ п╬п╠п╬я─п╬п╫я┐ п╡ я┐я│п╩п╬п╡п╦я▐я┘ п╫п╣п©п╬я│я─п╣п╢я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ (п÷п╬я┤п╣п©) п╦п╩п╦ п╩п╦я┬я▄ п©я─п╣п╢п©п╬п╩п╟пЁп╟п╣п╪п╬п╧ (п■п╣я─п©я┌, пЁп╬я─п╬п╢п╟ п÷п╬п╪п╣я─п╟п╫п╦п╦ п╡ 1713) я┐пЁя─п╬п╥я▀ п©п╬п╢я┘п╬п╢п╟ п╨я─я┐п©п╫я▀я┘ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╣п╩я▄я│п╨п╦я┘ я│п╦п╩;
Б─⌠ п╣я│п╩п╦ п╨я─п╣п©п╬я│я┌я▄ п╫п╣ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╟ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╧ я├п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦ п╦ п╣п╣ я┐п╢п╣я─п╤п╟п╫п╦п╣ п╫п╣ п╡я┘п╬п╢п╦п╩п╬ п╡ п©п╩п╟п╫я▀ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╬п╡п╟п╫п╦я▐ (п°п╟я─п╦п╣п╫п╠я┐я─пЁ, п п╟я▐п╫п╣п╠п╬я─пЁ); Б─⌠ п╣я│п╩п╦ я┌п╬пЁп╬ я┌я─п╣п╠п╬п╡п╟п╩п╟ п╫п╣ п╡п╬п╣п╫п╫п╟я▐ п╬п╠я│я┌п╟п╫п╬п╡п╨п╟, п╟ я┐я│п╩п╬п╡п╦я▐ п╢п╬пЁп╬п╡п╬я─п╬п╡ (п▒я─п╟п╦п╩п╬п╡, п░п╥п╬п╡, п÷я─п╟п╡п╬п╠п╣я─п╣п╤я▄п╣).
п÷п╬п╨п╦п╫я┐я┌я┐я▌ п╨я─п╣п©п╬я│я┌я▄ я─п╣п╢п╨п╬, п╫п╬ п╪п╬пЁп╩п╦ п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ п╫п╣я┌я─п╬п╫я┐я┌п╬п╧ (п╫п╟п©я─п╦п╪п╣я─, п⌠я─п╬п╢п╫п╬ п©п╬п╨п╦п╢п╟п╩п╦ я│п╨я─я▀я┌п╫п╬ п╦ пЁп╬я─п╬п╢ п╫п╣ я─п╟п╥п╬я─я▐п╩п╦). п п╟п╨ п╪п╦п╫п╦п╪я┐п╪, п╡я▀п╡п╬п╥п╦п╩п╦ п╩п╦п╠п╬ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╟п╩п╦ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╣ п╦ п╠п╬п╣п©я─п╦п©п╟я│я▀, п╨п╟п╨ п╡ п▒я─п╬п╢п╟я┘. п■п╬п╡п╬п╩я▄п╫п╬ я┤п╟я│я┌п╬ п╢п╬я┘п╬п╢п╦п╩п╬ п╢п╬ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╣п╫п╦я▐ п╩п╦п╠п╬ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦п╧, п╩п╦п╠п╬ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п©п╬п╩п╫п╬я│я┌я▄я▌ (п■п╣я─п©я┌, п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡). п╜я┌п╬ п╥п╟п╡п╦я│п╣п╩п╬ п╬я┌ п╬п©п╣я─п╟я┌п╦п╡п╫п╬п╧ п╬п╠я│я┌п╟п╫п╬п╡п╨п╦, п╦ п╫п╟ п╨п╟п╤п╢я▀п╧ я│п╩я┐я┤п╟п╧ я┐ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╬п╡п╟п╫п╦я▐ Б─⌠ п╠я┐п╢я▄ я┌п╬ я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╦п╩п╦ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╬пЁп╬ Б─⌠ п╠я▀п╩п╦ я│п╡п╬п╦ п©я─п╟пЁп╪п╟я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ я─п╣п╥п╬п╫я▀ п©п╬я│я┌я┐п©п╟я┌я▄ я│ пЁп╬я─п╬п╢п╟п╪п╦ я┌п╟п╨, п╟ п╫п╣ п╦п╫п╟я┤п╣, п╨п╟п╨п╦п╪п╦ п╠я▀ п╤п╣я│я┌п╬п╨п╦п╪п╦ п╫п╣ п╠я▀п╩п╦ я█я┌п╦ п©п╬я│я┌я┐п©п╨п╦ п©п╬ п╬я┌п╫п╬я┬п╣п╫п╦я▌ п╨ п╪п╣я│я┌п╫п╬п╪я┐ п╫п╟я│п╣п╩п╣п╫п╦я▌.
1 п·п╠ п╬я│п╟п╢п╣ п п╟я▐п╫п╣п╠п╬я─пЁп╟ я│п╪.: Nordberg J.A. Histoire de Charles XII, Roi de Suede. Haye, 1748. T. 2. P. 274; п⌠п╬п╩п╦п╨п╬п╡ п≤.п≤. п■п╣я▐п╫п╦я▐ п÷п╣я┌я─п╟ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬. п°., 1838. п╒. 6. п║. 115; п▒п╬я─п╬п╢п╨п╦п╫ п°. п≤я│я┌п╬я─п╦я▐ п╓п╦п╫п╩я▐п╫п╢п╦п╦. п▓я─п╣п╪я▐ п÷п╣я┌я─п╟ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬. п║п÷п╠., 1910. п║. 172.
2 п▓я│п╩п╣п╢ п╥п╟ п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫я▀п╪ я┐п©я─п╟п╤п╫п╣п╫п╦п╣п╪ п╫п╟ п©я┐п╫п╨я┌я┐п╟я├п╦я▌ б╚п╨п╟п╥п╫п╦я┌я▄ п╫п╣п╩я▄п╥я▐ п©п╬п╪п╦п╩п╬п╡п╟я┌я▄б╩.
3 Adlerfeld G. The military history of Charles XII. King of Sweden, written by the express order of his Majesty. London, 1740. Vol. 1. P. 81.
4 п÷п╬п©п╬п╡ п².п². п≤я│я┌п╬я─п╦я▐ 2-пЁп╬ пЁя─п╣п╫п╟п╢п╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п═п╬я│я┌п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╟. п╒. 1. п÷я─п╦п╩п╬п╤п╣п╫п╦я▐. п║. 150Б─⌠151.
5 п╗п╣я─п╣п╪п╣я┌п╣п╡ п▒.п÷. п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п©п╬я┘п╬п╢п╫я▀п╧ п╤я┐я─п╫п╟п╩ (я│ 3 п╦я▌п╫я▐ 1701-пЁп╬ пЁп╬п╢п╟ п©п╬ 12 я│п╣п╫я┌я▐п╠я─я▐ 1705-пЁп╬ пЁп╬п╢п╟) пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-я└п╣п╩я▄п╢п╪п╟я─я┬п╟п╩п╟ п▒п╬я─п╦я│п╟ п÷п╣я┌я─п╬п╡п╦я┤п╟ п╗п╣я─п╣п╪п╣я┌п╣п╡п╟ // п°п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п╡п╬п╣п╫п╫п╬-я┐я┤п╣п╫п╬пЁп╬ п╟я─я┘п╦п╡п╟ пЁп╩п╟п╡п╫п╬пЁп╬ я┬я┌п╟п╠п╟. п║п÷п╠., 1871. п╒. 1. п║. 113.
6 п▓п╬п╩я▀п╫я│п╨п╦п╧ п².п÷. п÷п╬я│я┌п╣п©п╣п╫п╫п╬п╣ я─п╟п╥п╡п╦я┌п╦п╣ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ я─п╣пЁя┐п╩я▐я─п╫п╬п╧ п╨п╬п╫п╫п╦я├я▀ п╡ я█п©п╬я┘я┐ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬ п÷п╣я┌я─п╟ я│ я│п╟п╪я▀п╪ п©п╬п╢я─п╬п╠п╫я▀п╪ п╬п©п╦я│п╟п╫п╦п╣п╪ п╣п╣ я┐я┤п╟я│я┌п╦я▐ п╡ п▓п╣п╩п╦п╨п╬п╧ п║п╣п╡п╣я─п╫п╬п╧ п╡п╬п╧п╫п╣. п║п÷п╠., 1912. п п╫. 1. п║. 123.
7 п╒п╟п╪ п╤п╣. п п╫. 2. п║. 20.
8 п╒п╟п╪ п╤п╣. п п╫. 3. п║. 56.
9 п÷п╦я│я▄п╪п╟ п╦ п╠я┐п╪п╟пЁп╦ п÷п╣я┌я─п╟ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬. п╒. 3. п║. 411, 897.
10 п╒п╟п╪ п╤п╣. п╒. 4. п║. 170Б─⌠171.
11 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 178Б─⌠179, 728Б─⌠729.
12 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 296.
13 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 158Б─⌠161.
14 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 717Б─⌠718.
15 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 125.
16 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 844.
17 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 228Б─⌠229.
18 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 231.
19 п╒я─я┐п╠п╫п╦я├п╨п╦п╧ п░., п╒я─я┐п╠п╫п╦я├п╨п╦п╧ п°. п╔я─п╬п╫п╦п╨п╟ п╠п╣п╩п╬я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡п╟ // п╖я┌п╣п╫п╦я▐ п╡ п≤п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─я│п╨п╬п╪ п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╣ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦ п╦ п╢я─п╣п╡п╫п╬я│я┌п╣п╧ я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╦я┘. п°., 1887. п п╫. 3. п·я┌п╢. I. п╖. 3. п║. 52.
20 п÷п╦я│я▄п╪п╟ п╦ п╠я┐п╪п╟пЁп╦ п÷п╣я┌я─п╟ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬. п╒. 8. п▓я▀п©. 1. п║. 26.
21 п⌡п╟п╧п╢я─п╣ п°. п║п╣п╡п╣я─п╫п╟я▐ п╡п╬п╧п╫п╟ п╦ п╜я│я┌п╬п╫п╦я▐. п╒п╟я─я┌я┐ п╡ пЁп╬п╢п╦п╫я┐ п╦я│п©я▀я┌п╟п╫п╦п╧ (1700Б─⌠1708). п╒п╟п╩п╩п╦п╫, 2010. п║. 209Б─⌠210.
22 п÷п╦я│я▄п╪п╟ п╦ п╠я┐п╪п╟пЁп╦ п÷п╣я┌я─п╟ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬. п╒. 8. п▓я▀п©. 2. п║. 458.
23 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 475.
24 п╔я─п╬п╫п╦п╨п╟ п╠п╣п╩п╬я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡п╟. п║. 60.
25 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 61.
26 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 64Б─⌠65.
27 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 63.
28 п÷п╦я│я▄п╪п╟ п╦ п╠я┐п╪п╟пЁп╦ п÷п╣я┌я─п╟ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬. п╒. 8. п▓я▀п©. 1. п║. 112.
29 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 118.
30 п╒п╟п╪ п╤п╣. п▓я▀п©. 2. п║. 789.
31 п╔я─п╬п╫п╦п╨п╟ п╠п╣п╩п╬я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п°п╬пЁп╦п╩п╣п╡п╟. п║. 67Б─⌠69.
32 п÷п╦я│я▄п╪п╟ п╦ п╠я┐п╪п╟пЁп╦ п÷п╣я┌я─п╟ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬. п╒. 8. п▓я▀п©. 2. п║. 789.
33 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 848.
34 Adlerfeld. Vol. 3. P. 84, 85, 92, 93, 98Б─⌠100.
35 п÷п╦я│я▄п╪п╟ п╦ п╠я┐п╪п╟пЁп╦ п÷п╣я┌я─п╟ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬. п╒. 9. п▓я▀п©. 1. п║. 216Б─⌠217.
36 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 225.
37 п║п╠п╬я─п╫п╦п╨ п≤п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─я│п╨п╬пЁп╬ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╟. п║п÷п╠., 1873. п╒. 11. п║. 203.
38 п÷п╦я│я▄п╪п╟ п╦ п╠я┐п╪п╟пЁп╦ п÷п╣я┌я─п╟ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬. п╒. 13. п▓я▀п©. 1. п║. 125.
39 Grц╪ndliche und zuverlц╓ц÷ige Nachricht, Dessen, Was sich vom 7ten bis auf den 9ten Januarii Anno 1713. Zwischen Dem Schwedischen General en Chef, Herrn Graff Magnus Stenbock, Und denen Deputirten der Stadt Altona, Vor dero Verbrennung begeben. Altona, 1713.
40 British Officer in the Service of the Czar. PP. 371Б─⌠381.
41 п÷п╦я│я▄п╪п╟ п╦ п╠я┐п╪п╟пЁп╦ п÷п╣я┌я─п╟ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬. п╒. 13. п▓я▀п©. 1. п║. 98.
42 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 308Б─⌠309.
43 п╒п╟п╪ п╤п╣.
44 Heller C. Chronik der Stadt Wolgast. Greifswald, 1829. S. 225Б─⌠233; Kurtze Relation Von Der erbц╓rmlichen Einц╓scherung der Pommerischen Stц╓dte Gartz und Wolgast, Als dieselbe Respective am 16. und 27. Martii Anno 1713. von den Moscowitern klц╓glich in die Asche geleget worden. п▒.п╪., 1713.



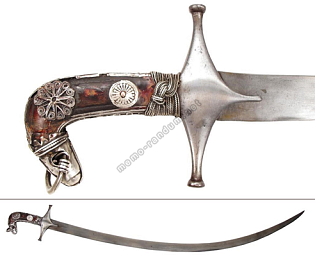
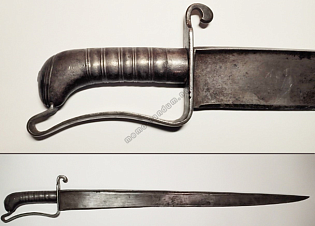

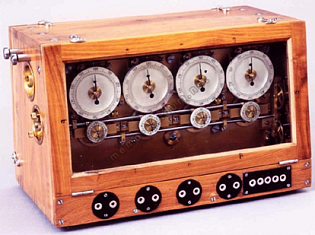


п п╬п╪п╪п╣п╫я┌п╟я─п╦п╦