–Р.–Э. –Ы–Њ–±–Є–љ (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥) –Ь–Р–Ы–Ю–Ш–Ч–Т–Х–°–Ґ–Э–Ђ–Щ –Ш–°–Ґ–Ю–І–Э–Ш–Ъ –Ю –С–Ш–Ґ–Т–Х –Я–Ю–Ф –Ю–†–®–Х–Щ 1514 –≥. (–Ъ –Т–Ю–Я–†–Ю–°–£ –Ю–С –£–Э–Ш–Ъ–Р–Ы–ђ–Э–Ю–°–Ґ–Ш –°–Т–Х–Ф–Х–Э–Ш–Щ –†–Р–Э–Э–Х–У–Ю –°–Я–Ш–°–Ъ–Р –•–Ю–Ы–Ь–Ю–У–Ю–†–°–Ъ–Ю–Щ –Ы–Х–Ґ–Ю–Я–Ш–°–Ш)1
–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є
–І–∞—Б—В—М III–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥
¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016
¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2015
¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016
–Ю –±–Є—В–≤–µ –њ–Њ–і –Ю—А—И–µ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–∞ 2. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є XVI –≤. –°–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –≤–µ—Б–Њ–Љ—Г—О –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В –Ї—А–∞–є–љ–µ —Б–Ї—Г–і–љ—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –Њ –љ–µ–Љ –ї–∞–Ї–Њ–љ–Є—З–љ–Њ –Є –Љ–Є–Љ–Њ–ї–µ—В–љ–Њ. –Ю—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –£–≤–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є (—Б–≤–Њ–і 1518 –≥.), –°–Њ—Д–Є–є—Б–Ї–Њ–є II, –Ш–Њ—Б–∞—Д–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–є, –Э–Є–Ї–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –Ы—М–≤–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П–Љ–Є (—Б–≤–Њ–і—Л 1520вАУ1533 –≥–≥.). –Т –љ–Є—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –±–Є—В–≤–µ (–Є–Ј–Љ–µ–љ–∞ –Ь. –У–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Ш.–Р. –І–µ–ї—П–і–љ–Є–љ–∞), –Є –Њ —Е–Њ–і–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є—З–µ–Љ —А—П–і –і–µ—В–∞–ї–µ–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–∞–Ї —В–Њ: –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ ¬Ђ–ґ–Њ–ї–љ—Л—А–Њ–≤ —Б –њ–Є—Й–∞–ї—М–Љ–Є¬ї, –≥–Є–±–µ–ї—М –Ї–љ—П–Ј—П –Ш–≤–∞–љ–∞ –Ґ–µ–Љ–Ї–Є-–†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г.
–°—А–µ–і–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є, –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –Ї —Б–≤–Њ–і—Г 1539 –≥., –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є. –Я—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–є —Б–≤–Њ–і 1547 –≥., –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–є –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Њ–Љ –Я—Б–Ї–Њ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Є–µ–Љ, –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±—П –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —В–µ—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±–Њ—И–ї–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ. –Э–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –Є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Г—О —Б—В–∞—В—М—О –Ј–∞ 7023 (1514) –≥., —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й—Г—О –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Њ–± –Ю—А—И–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–±–Њ–Є—Й–µ¬ї, —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–љ–Њ–µ —Б–Њ ¬Ђ–°–ї–Њ–≤–Њ–Љ –Њ –њ–Њ–ї–Ї—Г –Ш–≥–Њ—А–µ–≤–µ¬ї –Є ¬Ђ–Ч–∞–і–Њ–љ—Й–Є–љ–Њ–є¬ї.
–Ф–ї—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П III –Њ—Б–Њ–±—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Љ–µ–µ—В –£—Б—В—О–ґ—Б–Ї–Є–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–є —Б–≤–Њ–і, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1516 –≥. –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –љ–µ —А–∞–Ј –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ –≤–Ј—П—В–Є–Є –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞ –Є –Ю—А—И–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –°–∞–±—Г—А–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤ –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–µ–≤.
–Т —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –≥–Є–њ–µ—А –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–∞. –Ґ–∞–Ї, –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Є–Ј –У—А–Њ–і–љ–Њ –Р–ї—М–±–Є–љ–∞ –°–µ–Љ—П–љ—З—Г–Ї –±–µ–Ј–∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї—П–µ—В, —З—В–Њ ¬Ђ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–Є –Є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ-–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–ЄвА¶ –і–∞—О—В –±–Њ–ї—М—И–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—Е –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В –±–Њ–ї—М—И–∞—П –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М, —З–µ–Љ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї3. –Ч–і–µ—Б—М –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –∞–њ—А–Є–Њ—А–љ—Л–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –і–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –і–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–∞—Ж–Є–Є —Д–∞–Ї—В–∞. –° –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –≤–µ—Б–Њ–Љ—Л—Е –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –і–ї—П –і–µ–Ї–ї–∞—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є¬ї –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ-–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–∞ –Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ–є, —В. –µ. –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї—Г –Є –Є–≥–љ–Њ—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –і—А—Г–≥–Њ–є.
–С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Р.–Т. –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і –Ю—А—И–µ–є –і–ї—П –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Є —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞ —З–µ—А—В–∞ вАУ ¬Ђ—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В—М –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤¬ї, ¬Ђ–Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В—М —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ¬ї, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–Њ–≤–µ—А–Є—П –Ї –љ–Є–Љ –љ–µ—В4. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –∞–≤—В–Њ—А –љ–µ –≤–Є–і–Є—В —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –Т –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л—Е —В–µ–Ї—Б—В–∞—Е –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П вАУ –≥—А–µ—Е–Є –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ (¬Ђ–≥—А–µ—Е —А–∞–і–Є –љ–∞—И–Є—Е¬ї, ¬Ђ–њ–Њ –≥—А–µ—Е–∞–Љ –љ–∞—И–Є–Љ¬ї). –Т –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ—А–Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —В–∞–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ. –Я–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–∞—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ ¬Ђ–Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є—П –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П¬ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ.
–Т –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞—Е —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П —Б –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ–є –Р.–Т. –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞–µ—В –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Л–≤–Њ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–Є–µ. –Ґ–∞–Ї, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Б–ї–Њ–≤–∞ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є ¬Ђ–∞ —Б–Є–ї–∞ –љ–µ–љ–∞—А—П–і–љ–∞ –±—Л–ї–∞¬ї –Ї–∞–Ї —Б–µ—В–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞ –љ–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є5. –•–Њ—В—П —В–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ–љ–∞—А—П–і¬ї –≤ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е XVIвАУXVII –≤–≤. –Є–Љ–µ–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ: ¬Ђ–њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї¬ї, ¬Ђ–±–Њ–µ–≤–∞—П –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М¬ї, ¬Ђ—Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ¬ї, ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В¬ї, ¬Ђ–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П¬ї6. –Х—Б–ї–Є –љ–µ –≤—Л—А—Л–≤–∞—В—М —Ж–Є—В–∞—В—Г –Є–Ј –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–∞, —В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –≤–Њ —Д—А–∞–Ј–µ ¬Ђ–∞ —Б–Є–ї–∞ –љ–µ–љ–∞—А—П–і–љ–∞ –±—Л–ї–∞, –∞ –Є–љ–Є–µ –≤ –Њ—В—К–µ–Ј–і–µ –±—Л–ї–Є (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–є. вАУ –Р. –Ы.) ¬ї —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ –љ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ (—В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —З–∞—Б—В—М –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –≤ —А–∞–Ј—К–µ–Ј–і–∞—Е), –∞ –љ–µ –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є.
–Ґ–∞–Ї–ґ–µ —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ –Ј–≤—Г—З–Є—В —В–µ–Ј–Є—Б –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–Є (—В–∞–Ї –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ. вАУ –Р. –Ы.) –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є –Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є –Є–Љ–µ–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —З—В–Њ–±—Л, –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–≤ –Ј–∞ –Ф–љ–µ–њ—А, –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –±–Є—В–≤–µ¬ї7. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О –Р.–Т. –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –љ–µ —Г—В–Њ—З–љ—П–µ—В, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Є –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞–Љ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞ –љ–µ–і–µ–ї—О (—Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –≤—Л–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –∞—А–Љ–Є–Є –Ъ. –Ю—Б—В—А–Њ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј –ї–∞–≥–µ—А—П –њ–Њ–і –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤—Л–Љ) —Б–Њ–±—А–∞—В—М —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Б–Њ—В–љ–Є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ ¬Ђ–Ј–∞–≥–Њ–љ—Л¬ї –≤–Њ–µ–і–Є–љ–Њ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –∞–≤—В–Њ—А –≤–њ–∞–і–∞–µ—В –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ —Б –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ-–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —А–∞—Б–Ї–Є–і–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –Њ—В—А—П–і—Л ¬Ђ–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—В–Њ–≤¬ї –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Н—В–∞–њ–љ–Њ —А–∞–Ј–±–Є—В—Л –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л–Љ–Є —З–∞—Б—В—П–Љ–Є –Т. –Я–Њ–ї—Г–±–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ш. –Я–Є–ї–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, –Ш. –°–∞–њ–µ–≥–Є8. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –µ—Й–µ –Ј–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –і–Њ –Ю—А—И–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Њ9. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж.
–Ч–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—И–Є—А–Є—В—М –љ–∞—И–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—П—В–Є—Б–Њ—В–ї–µ—В–љ–µ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –і–≤—Г—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є, —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–≤—И–Є–є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞. –Ф–Њ 1948 –≥. –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–∞—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1977 –≥. –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ–Њ –Я–Њ–≥–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–њ–Є—Б–Ї—Г вДЦ 1405 (2- –є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XVII –≤.). –Э–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ —Б—В–∞—В—М—П –Њ –±–Є—В–≤–µ –њ–Њ–і –Ю—А—И–µ–є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞. –Т—В–Њ—А–Њ–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї (–±—Г–Љ–∞–≥–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –њ–Њ —Д–Є–ї–Є–≥—А–∞–љ—П–Љ 1580вАУ1590-–Љ–Є –≥–≥., —В. –µ. –Њ–љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–Є–Љ) –±—Л–ї –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ вАУ –µ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1985 –≥. –Р.–Т. –Ы–∞–≤—А–µ–љ—М—В–µ–≤—Л–Љ10. –Ю–љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –І–µ—А—В–Ї–Њ–≤—Л—Е –≤ –Њ—В–і–µ–ї–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П11.
–Ю–±–∞ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є, –Є –Я–Њ–≥–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –Є –І–µ—А—В–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Њ–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б—В–∞—В—М–µ–є –Ј–∞ 1559 –≥., –≥–і–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П –Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і–µ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л ¬Ђ–њ–Є—Б–∞—В—М –Ф–≤–Є–љ—Г¬ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –У–∞–≥–Є–љ–∞. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Р.–Т. –Ы–∞–≤—А–µ–љ—В—М–µ–≤–∞, —Н—В–Є–Љ –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ ¬Ђ–њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М —Б–∞–Љ —Д–∞–Ї—В –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Ф–≤–Є–љ–µ¬ї12.
–І–µ–Љ –ґ–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ –і–ї—П –љ–∞—Б —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ –±–Є—В–≤–µ –њ–Њ–і –Ю—А—И–µ–є —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є? –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е, –љ–µ—В –µ–≥–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –≤ –Я–Њ–≥–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ. –Ъ–∞–Ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –Р.–Т. –Ы–∞–≤—А–µ–љ—В—М–µ–≤, —А—П–і –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–є –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є ¬Ђ–Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ –Є–Ј —Г—Б—В–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є¬ї13.
–Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –±–Њ—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –ї–Є—Б—В —Б –Њ–±–Њ—А–Њ—В–Њ–Љ (–Ы. 318вАУ 318 –Њ–±.), –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–љ–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–≤–∞–ґ–љ—Л–µ –і–µ—В–∞–ї–Є –і–ї—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Њ—И–Є–±–Ї–Є –≤ –Є–Љ–µ–љ–∞—Е (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ш–≤–∞–љ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З –І–µ–ї—П–і–љ–Є–љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–Љ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З–µ–Љ, –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—К–µ–Ј–і–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П III –±—Л–ї –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —П–Ї–Њ–±—Л –Ф–∞–љ–Є–ї–∞ –©–µ–љ—П –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –®—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ), —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —А–∞—Б —Б–Ї–∞–Ј–∞ —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є —Б—В–Њ–Є—В –љ–∞—А–∞–≤–љ–µ —Б –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ–Љ –£—Б—В—О–ґ—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є (–Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–Њ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞).
–Ш–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –±–Є—В–≤—Л –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–µ—В–∞–ї—П—Е –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П —Б —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –°. –У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ–∞. –Ґ–∞–Ї, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Ј—П—В–Є—П –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є III –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –Ї –Ю—А—И–µ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ–µ–≤–Њ–і: ¬Ђ–Ш –њ—А–Є—И–µ–і—И–µ –≤ –Ы–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Л, –Є —Б—В–∞—И–∞ –њ–Њ–і –Ю—А—М—И–µ—О —Г —А–µ–Ї–Є¬ї. –Ю ¬Ђ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є¬ї –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –њ–Є—Б–∞–ї –°. –У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞. –Я–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ъ.–Ш. –Ю—Б—В—А–Њ–ґ—Б–Ї–Є–є ¬Ђ–њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –С–Њ—А–Є—Б—Д–µ–љ—Г –±–ї–Є–Ј –Ю—А—И–Є (Orsa), –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Њ—В—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Њ—В –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞ –љ–∞ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —З–µ—В—Л—А–µ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –Љ–Є–ї–Є, —В–Њ —В–∞–Љ —Г–ґ–µ —Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—В–∞вА¶¬ї14.
–Т –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П: ¬Ђ–Ш –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –ї–Є—В–Њ–≤—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј–µ—Б—П –Ј–∞ —А–µ–Ї—Г –Ј–∞ –Ю—А—М—И—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ы–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≥–µ—В–Љ–∞–љ –±–Њ–ї—И–µ–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ъ–Њ–љ—Б—В—П–љ—В–Є–љ –Ю—Б—В—А–Њ–ґ—Б–Ї–Є–є, –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞, –Њ–±—К–µ–і–µ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –ї–µ—Б—Л –Њ–± –Њ–љ—Г —Б—В—А–∞–љ—Г –Ю—А—И–Є —А–µ–Ї–Є —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –≤–Њ–µ–≤–Њ–і—Л –ї—П—Ж–Ї–Є–Љ–Є (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–є. вАУ –Р. –Ы.)¬ї15.
–Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ—А—Б–Є–є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –±–Є—В–≤—Л. –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —Б–њ–Њ—А—П—В, –≥–і–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ: –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ –Є–ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ъ—А–∞–њ–Є–≤–љ—Л? –Р–≤—В–Њ—А —Н—В–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є, –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–≤ –µ–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П—Е –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–∞—П –≤–µ—А—Б–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј—Г–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –Ъ—А–∞–њ–Є–≤–љ–Њ–є –Є –Ф—Г–±—А–Њ–≤–љ–Њ–є16. –Ґ–∞–Ї, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Р.–Т. –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –Я–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –≤—Б–µ —В–µ –≤–µ—А—Б–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј—Г—О—В –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –Ю—А—И–µ–є –Є –Ъ—А–∞–њ–Є–≤–љ–Њ–є, ¬Ђ–Є–Љ–µ—О—В –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ–ї–∞—О—В –Ї–∞–ґ–і—Г—О –Є–Ј —Н—В–Є—Е –≤–µ—А—Б–Є–є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є¬ї, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П ¬Ђ—Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П –Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ, –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В —В–µ–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В –і–Њ–≤–µ—А–Є—П¬ї17. –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і –Ѓ. –Ъ–Њ–њ—Ж–Є–Ї —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ъ—А–∞–њ–Є–≤–љ—Л18. –Ь—Л, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—Б—П —Б –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї–Њ–є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –љ–∞ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П—Е, —З–µ–Љ –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є –±–∞–Ј–µ.
–†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П–≤–љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±–Њ—П –Є –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —П—Б–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ: –Ю—Б—В—А–Њ–ґ—Б–Ї–Є–є —Г–і–∞—А–Є–ї –≤ —В—Л–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –ї–µ—Б–∞. –Ю–±—А–∞—В–Є–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –±—Л–ї —Г–і–∞—А –Ј–∞—Б–∞–і—Л: ¬Ђ–Њ—В –ї–µ—Б—Г –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—М—Б–Ї–∞ –Є –љ–∞–µ—Е–∞ —Б–Њ –Ј–∞–і–Є –љ–∞ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П¬ї, —В. –µ. –Є–Ј –ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —В–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ, –≥–і–µ –Є –≥–Њ—А–Њ–і –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї (—В. –µ. —Б –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П). –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј, –Ї–∞–Ї –Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ –°. –У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ–∞, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј—Г–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і –Ю—А—И–µ–є.
–С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—О (—В. –µ. 1514вАУ 1515 –≥–≥.) —В–∞–Ї–ґ–µ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј—Г—О—В –±–Є—В–≤—Г –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ ¬Ђ—Г –Ю—А—И–Є¬ї. –Х—Б–ї–Є –≤ —Н–њ–Є—Б—В–Њ–ї—П—А–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–µ ¬ЂActa Tomiciana¬ї –Њ –Љ–µ—Б—В–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ вАУ ¬Ђ–љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –С–Њ—А–Є—Б—Д–µ–љ–∞¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ—Г –С–Њ—А–Є—Б—Д–µ–љ–∞¬ї, вАУ —В–Њ –≤ –Њ—А–і–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —З–µ—В–Ї–Њ —З–Є—В–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ—Г –Ю—А—И–Є –љ–∞ –Ф–љ–µ–њ—А–µ¬ї. –Э–∞–і–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ—А–і–µ–љ—Б–Ї–∞—П —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Є–ї–∞ –Ј–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–∞ secretum littera (—Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є—П) –Њ—В —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–Є—В–µ–ї–µ–є (–Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Ї–∞–Ї ¬Ђexploratores¬ї, ¬Ђunstschaffter¬ї –Є ¬Ђvorspeer¬ї) –Ї–∞–Ї –Є–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —В–∞–Ї –Є –Є–Ј –Ы–Є—В–≤—Л. 16 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1514 –≥., —В. –µ. —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–і–µ–ї—О –њ–Њ—Б–ї–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М: ¬Ђkonincklike magestat folk hebbenn eyne slachtynge geholdenn by Orsa an der Nepe¬ї (¬Ђ–Т–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Х–≥–Њ –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –і–∞–ї–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Г –Ю—А—И–Є –љ–∞ –Ф–љ–µ–њ—А–µ¬ї19).
–Ґ–µ–Ї—Б—В —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Л –С–Њ–љ—Л –°—Д–Њ—А—Ж–∞ –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤–∞ –У—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –Р.–Т. –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є20, –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –љ–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞. –У—Г—А—Б–Ї–Є–є –њ—А—П–Љ–Њ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Њ–± –Ю—А—И–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ –Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—В–Њ–≤¬ї –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –Њ–і–Є–љ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А: ¬ЂSed etiam in flumine Kopriwna limoso ac riparum preruptarum in quatuor milliariis a loco pugne tantus in illia fuga Moscorum numerus una cum equis submersus est, ut fluminis cursus cadaveribus submersorum impeditus restagnaret; unde nostril, urgente siti, aquam sanguinolentam galeis haurientes potare coacti fuerint¬ї (¬Ђ–Ф–∞–ґ–µ –≤ –±–Њ–ї–Њ—В–Є—Б—В–Њ–Љ —А—Г—Б–ї–µ –Ъ—А–∞–њ–Є–≤–љ—Л –Є –љ–∞ –µ–µ –Њ–±—А—Л–≤–Є—Б—В—Л—Е –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –≤ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Љ–Є–ї—П—Е –Њ—В –Љ–µ—Б—В–∞ –±–Є—В–≤—Л –ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—В–Њ–≤ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –ї–Њ—И–∞–і—М–Љ–Є, —В–∞–Ї —З—В–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–њ—А—Г–ґ–µ–љ–Њ –љ–∞–≤–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ї—Г—З–µ–є —В—А—Г–њ–Њ–≤, –Є –љ–∞—И–Є, —Б–ґ–Є–≥–∞–µ–Љ—Л–µ –ґ–∞–ґ–і–Њ–є, –Ј–∞—З–µ—А–њ—Л–≤–∞–ї–Є —И–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є –Є –њ–Є–ї–Є –Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Г—О –≤–Њ–і—Г¬ї). –І–∞—Б—В–Є—Ж–∞ ¬Ђ–і–∞–ґ–µ¬ї (etiam), —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ–Љ–∞—П –і–ї—П —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б–ї–Њ–≤, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ вАУ –∞–≤—В–Њ—А —Е–Њ—В–µ–ї –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М, —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—В –±–Є—В–≤—Л –Љ–µ—Б—В–µ, –Ї–∞–Ї —А—Г—Б–ї–Њ –Ъ—А–∞–њ–Є–≤–љ—Л, –≤ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Љ–Є–ї—П—Е –Њ—В —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є —В—А—Г–њ—Л. ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—В—Л¬ї –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –њ–Њ–і –љ–∞–њ–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —Б–њ–∞—Б–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤ –ї–µ–љ–Є—О –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—П–Љ (¬Ђ–њ–Њ–±–µ–≥–Њ—И–∞ –Ї –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї—Г¬ї21), –љ–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і. –Э–µ—Г–і–∞—З–љ–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї –Њ–±—А—Л–≤–Є—Б—В—Л–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –њ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б–Є–ї–∞–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Ъ—А–∞–њ–Є–≤–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Ї –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –Њ—В –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є, –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є —Г —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї.
–Т –Є–Љ–њ–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е —В–∞–Ї–ґ–µ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г–µ—В —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—Г –Ю—А—И–Є¬ї (¬Ђbey Orsa¬ї)22, —З—В–Њ, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј—Г–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ –≤–±–ї–Є–Ј–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є. –Ч–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Є–Љ–њ–µ—А—Б–Ї–Є–µ, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ –°. –У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ–∞. –Р.–Т. –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б–Ї–µ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞, ¬Ђ—А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј (–Њ –±–Є—В–≤–µ. вАУ –Р.–Ы.) –њ–Њ–њ–∞–ї –Ї –°. –У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ—Г —Г–ґ–µ –≤ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ¬ї23. –Я—А–Є—З–Є–љ—Л, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Р.–Т. –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Њ—В–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є–Љ–њ–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–∞, –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –°. –У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ–∞ —Н—В–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —П–≤–љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Њ: –Њ–љ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Њ –љ–µ–Љ –љ–µ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј, –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ –і–∞–ґ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ–±–Њ–Є—Й–∞. –Т–Њ—В —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Є—И–µ—В: ¬Ђ–Ь–µ–ґ–і—Г –Ю—А—И–µ–є –Є –Ф—Г–±—А–Њ–≤–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–∞—П –≤—Л—И–µ –±–Є—В–≤–∞. –Ь–Є–љ—Г–ї–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В, –∞ —В–∞–Љ –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –і–µ—А–µ–≤—М—П, —З—В–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–∞–є—В–Є—Б—М –Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –љ–∞—А–Њ–і—Г –Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–є. вАУ –Р.–Ы.)¬ї. –Ґ. –µ. —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–≤—И–Є–µ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–∞ –њ–Њ –њ—Г—В–Є –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї –ї–Є—В–Њ–≤—Ж—Л –µ–Љ—Г —П–≤–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є, –њ—Г—Б—В—М –Є –≤ ¬Ђ–Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ¬ї, –Њ–± ¬Ђ–Є–Ј–±–Є–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—В–Њ–≤¬ї. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О: ¬Ђ–Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ, –љ–∞–≤–µ–і—П (–њ–ї–∞–≤—Г—З–Є–є) –Љ–Њ—Б—В (–њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–є –Ї–∞–Љ—Л—И–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ–ї–µ—В–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є), –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї –њ–µ—Е–Њ—В—Г —З–µ—А–µ–Ј –С–Њ—А–Є—Б—Д–µ–љ –≤–Њ–Ј–ї–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ю—А—И–Є; –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞ –ґ–µ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ —Г–Ј–Ї–Њ–Љ—Г –±—А–Њ–і—Г –њ–Њ–і —Б–∞–Љ–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М—О –Ю—А—И–µ–є (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–є. вАУ –Р. –Ы.)¬ї24.
–У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В –і–µ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—З–µ—А–њ–љ—Г—В—Л–µ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Њ—В –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞: –Љ–Њ—Б—В, –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є —Б–∞–њ–µ—А–∞–Љ–Є –ѓ. –С–∞—И—В—Л25, –±—Л–ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–њ–ї–∞–≤–љ–Њ–є, –њ–Њ –љ–µ–Љ—Г –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –њ–µ—Е–Њ—В–∞ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –∞ –њ–Њ —Г–Ј–Ї–Њ–Љ—Г –±—А–Њ–і—Г, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–Љ—Г—Б—П –њ–Њ–і —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є —Б—В–µ–љ–∞–Љ–Є –Ю—А—И–Є, –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞ (—Б–Љ. –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї—Б–Є–ї–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –Р. –Ъ—А–Є—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ 1515 –≥.26). –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ-–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ю—А—И–µ–є –Є —А. –Ъ—А–∞–њ–Є–≤–љ–Њ–є. –Ю–љ–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ъ—А–∞–њ–Є–≤–љ—Л вАУ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Љ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–є—В–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–ї—М –њ–Њ –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–ї—М–µ—Д—Г –Є –µ—Й–µ —А–∞–Ј –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —З–µ—А–µ–Ј —А–µ–Ї—Г —Б –Ї—А—Г—В—Л–Љ–Є —Б–Ї–ї–Њ–љ–∞–Љ–Є.
–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–є, —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –±–Є—В–≤–µ ¬Ђ–њ–Њ–і –Ю—А—И–µ—О¬ї: ¬Ђ–С—Л—Б—В—М –њ–Њ–±–Њ–Є—Й–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і –Ю—А—И–µ—О¬ї, ¬Ђ–њ–Њ—Б–ї–∞–ївА¶ –Ї–Њ –≥—А–∞–і—Г –Ю—А—И—ГвА¶ –Є —В–∞–Љ–Њ —Б—П —Г—З–Є–љ–Є–ї –±–Њ–є¬ї. –Т —А–∞–Ј—А—П–і–∞—Е –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —З—В–Њ ¬Ђ–њ–Њ–і –Ю—А—И–µ—О –≤–Њ–µ–≤–Њ–і –њ–Њ–±–Є–ї–Є¬ї27. –Т —А–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤—Ж–∞—Е –Є –∞–Ї—В–Њ–≤—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е XVI –≤. —Д—А–∞–Ј—Л ¬Ђ—Г–±–Є—В –њ–Њ–і –Ю—А—И–µ–є¬ї, ¬Ђ—Г–±–Є–ї–Є –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –њ–Њ–і –Ю—А—И–µ—О¬ї, ¬Ђ–±–Њ–є –±—Л–ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤—Л–Љ –ї—О–і–µ–Љ –њ–Њ–і –Ю—А—И–µ—О¬ї –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ28. –Э–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–µ –љ–µ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г–µ—В –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Ф—Г–±—А–Њ–≤–љ–∞ –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ—В –Ю—А—И–Є.
–°—А–µ–і–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –Ґ–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д—Б–Ї—Г—О –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й—Г—О —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–µ: ¬Ђ–њ–Њ–±–Є—И–∞ –Ы–Є—В–≤–∞ –њ–Њ–і –Ю—А—И–µ—О, –Ј–∞ –њ—П—В—М –≤–µ—А—Б—В (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–є. вАУ –Р.–Ы.), –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –≤–Њ–µ–≤–Њ–і –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ–Њ–Є–Љ–∞—И–∞ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і, –Ї–љ—П–Ј—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –У–Њ–ї–Є—Ж—Г —Б —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є¬ї29. 5 –≤–µ—А—Б—В (–µ—Б–ї–Є –±—А–∞—В—М 700-—Б–∞–ґ–µ–љ–љ—Г—О –≤–µ—А—Б—В—Г XVI –≤.) вАУ —Н—В–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 7,5 –Ї–Љ –Њ—В –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Њ—А—И–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—П. –°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ґ–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—В —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Р. –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Є –Ѓ. –Ъ–Њ–њ—Ж–Є–Ї–∞.
–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —В–∞–Ї–ґ–µ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј—Г–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ –±–Є—В–≤—Л —Г –Ю—А—И–Є, —В. –µ. –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ъ—А–∞–њ–Є–≤–љ—Л. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–∞–ґ–µ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–љ –Ю—А—И–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞.
–Т –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і –Ю—А—И–µ–є –Є —Б–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ј–∞—Б–∞–і–µ (—А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є —Б—В–Њ—П–ї–Є —Б–њ–Є–љ–Њ–є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞): ¬Ђ–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–љ—П–Ј—М –Ъ–Њ–љ—Б—В—П–љ—В–Є–љ –Ю—Б—В—А–Њ–ґ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–µ—Е–∞ –Њ—В –ї–µ—Б—Г –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—М—Б–Ї–∞ –Є –љ–∞–µ—Е–∞ —Б–Њ –Ј–∞–і–Є –љ–∞ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Є –њ–Њ–≤–µ–ї–µ –≤ —В—А—Г–±—Л —В—А—Г–±–Є—В–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є –Є –≤–Њ –љ–∞–Ї—А—Л –±–Є—В–Є, –Є–Ј—А—П–і–Є–≤ –Љ–љ–Њ–≥–Є –њ–Њ–ї–Ї–Є –Є —Г–і–∞—А–Є—Б—П —Б–Њ –Ј–∞–і–Є –љ–∞ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П¬ї. –Э–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –љ–µ—В —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ –Њ —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤—И–µ–Љ –µ–Љ—Г –њ–Њ–±–µ–і—Г. –Ъ–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ —Д—А–∞–Ј—Л –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ–є (¬Ђ—Б –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Л–Љ–Є –ґ–µ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –ґ–µ–ї–љ—Л—А—Л —Б –њ–Є—Й–∞–ї–Љ–Є, –∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ —В–µ—Б–љ–Њ, –Є –±–Є—И–∞ –Є–Ј –ї–µ—Б–Њ–≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –ї—О–і–µ–є¬ї30) –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–∞–Љ–µ–Ї–∞–ї–Є –љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –ї–Є—В–Њ–≤—Ж–µ–≤ –Є–Ј –Ј–∞—Б–∞–і—Л, –љ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є. –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–∞—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –Є –£—Б—В—О–ґ—Б–Ї–∞—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ –£—Б—В—О–ґ—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–Є—З–Є–љ—Г –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ —Б –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Ј–∞—Б–∞–і—Л, –∞ —Б –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–Љ вАУ –Љ–µ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –і–≤—Г—Е –≤–Њ–µ–≤–Њ–і, –Ш.–Р. –І–µ–ї—П–і–љ–Є–љ–∞ –Є –Ь.–Ш. –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤–∞, –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–≤—И–Є—Е –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –≤ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ —Б –ї–Є—В–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є.
–°–Њ–Њ—В–љ–µ—Б–µ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є —Б–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –°. –У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ–∞: ¬Ђ–Ы–Є—В–Њ–≤—Ж—Л, —Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–≤ –Ї —В–Њ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В—Г, –≥–і–µ —Г –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є —Б–њ—А—П—В–∞–љ—Л –њ—Г—И–Ї–Є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –Є—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–∞—Б–µ–і–∞–≤—И–Є—Е –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—В–Њ–≤ –Є –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї–Є –Ј–∞–і–љ–Є–µ –Є—Е —А—П–і—Л, –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —А–µ–Ј–µ—А–≤–µ, –љ–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Б–Ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ, –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Є—Е –≤ –Ј–∞–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є —А–∞—Б—Б–µ—П–ї–Є¬ї31. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є, –Є –Є–Љ–њ–µ—А—Б–Ї–Є–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—В, –∞ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞.
–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–∞—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –њ—А—П–Љ–Њ –њ–Є—И–µ—В –Њ–± –Є—Б–њ—Г–≥–µ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П III, —Г–Ј–љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ–µ–≤–Њ–і (–≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е —Н—В–Њ—В —Н–њ–Є–Ј–Њ–і –Ј–∞–Љ–∞–ї—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П): ¬Ђ–Ъ–љ—П–Ј—М –ґ–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є, —Б–ї—Л—И–∞–≤ —Б–Є–µ, —Г–±–Њ—П—Б—П –Є —Б—В–∞–≤–Є –≤–Њ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Ж–µ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–∞–љ–Є–ї–∞ –©–µ–љ—П –Є –Є–љ—Л—Е –≤–Њ–µ–≤–Њ–і –±–ї—О—Б—В–Є –≥—А–∞–і. –Р —Б–∞–Љ –Ї–љ—П–Ј—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –њ–Њ–Є–і–µ –Ї –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ¬ї. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –≤ –Ы–Є—В–≤—Г (¬Ђ–Ґ–Њ–≥–Њ –ґ–µ –ї–µ—В–∞ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї –Ї–љ—П–Ј—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –≤–Њ–µ–≤–Њ–і —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–∞ –Ы–Є—В–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О. –Т–Њ–µ–≤–Њ–і—Л –ґ–µ —И–µ–і –≤ –Ы–Є—В–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О –Є –≤–Њ–µ–≤–∞—И–∞ –Є –њ–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—И–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –≥—А–∞–і—Л –Є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –њ–Њ —Б–∞–Љ—Г—О –Т–Є–ї–љ—О –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ—М –Т–Є–ї–љ–Є –Є –Ј–∞ –Т–Є–ї–љ—О. –Ш –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—И–∞—Б—П —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –њ–ї–µ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Г¬ї), –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ –Ї 1514/1515, –∞ –љ–µ –Ї 1516вАУ1518 –≥–≥.32.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —А–∞–љ–љ–Є–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ –Є —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—О–ґ–µ—В—Л –Њ–± –Ю—А—И–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П.
1 –†–∞–±–Њ—В–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –њ—А–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –†–У–Э–§, –≥—А–∞–љ—В 15-21-01003 –∞(–Љ).
2 –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ –Њ–±–Ј–Њ—А —Б–Љ.: –Ы–Њ–±–Є–љ –Р.–Э. –С–Є—В–≤–∞ –њ–Њ–і –Ю—А—И–µ–є 8 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1514. –Ъ 500-–ї–µ—В–Є—О —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –°–Я–±., 2011.
3 –°–µ–Љ—П–љ—З—Г–Ї –Р. –С—Ц—В–≤–∞ –њ–∞–і –Ю—А—И–∞–є —П–Ї ¬Ђ—Д—Ц–≥—Г—А–∞ –њ–∞–Љ—П—Ж—Ц¬ї // ARCHE. 2013. вДЦ 2 (119). –°. 151.
4 –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Р. –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ–є –Њ–± –Ю—А—И–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ 1514 –≥. // TraptautinƒЧ mokslinƒЧ konferencija ¬Ђ1514 m. Or≈°os m≈Ђ≈°is: karinƒЧ pergalƒЧ ir jos ≈Њenklai¬ї, Vilnius, 2014 m. rugsƒЧjo 26вАУ27 d. Prane≈°im≈≥ tezƒЧs. Vilnius, 2014. P. 116. –Т –і—А—Г–≥–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Ю—А—И–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤—Л, –Р. –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤, –Ї—А–Є—В–Є–Ї—Г—П –Љ–Њ–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –њ–Є—И–µ—В: ¬Ђ–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Ј–∞–і–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ, –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤ –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —З–∞—Б—В–Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –±–Є—В–≤—Л –Є–ї–Є –Њ —П–Ї–Њ–±—Л –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–є –і–ї—П –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є—Е–Њ–і –Ю—Б—В—А–Њ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і –Ю—А—И—Г –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В—М —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ?¬ї (–Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ—Ю. –У—Ц—Б—В–∞—А—Л—П–≥—А–∞—Д—Ц—П –Р—А—И–∞–љ—Б–Ї–∞–є –±—Ц—В–≤—Л 1514 –≥.: –і–∞—Б—П–≥–љ–µ–љ–љ—Ц —Ц –њ—А–∞–±–ї–µ–Љ—Л // –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Ї—Ц –У—Ц—Б—В–∞—А—Л—З–љ—Л –Р–≥–ї—П–і. –Ґ. 22. –°—И. 1вАУ2 (42вАУ43). –°–љ–µ–ґ–∞–љ—М 2015. –°. 26).
5 –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Р.–Т. –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ–є –Њ–± –Ю—А—И–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ 1514 –≥. –°. 116вАУ 118.
6 –°–ї–Њ–≤–∞—А—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ XIвАУXVII –≤–≤. –Ь., 1983. –Т—Л–њ. 10 (–Э вАУ –љ–∞—П—В–Є—Б—П). –°. 227вАУ230.
7 –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Р. –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ–є –Њ–± –Ю—А—И–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ 1514 –≥. –°. 116.
8 –Ы–Њ–±–Є–љ –Р.–Э. –С–Є—В–≤–∞ –њ–Њ–і –Ю—А—И–µ–є. –°. 142.
9 –Ъ—А–Є—В–Є–Ї–∞ —А–∞–±–Њ—В –Р.–Т. –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Є –љ–∞—И –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ –µ–≥–Њ —А–µ—Ж–µ–љ–Ј–Є–Є –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –±—Г–і—Г—В –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ.
10 –Ы–∞–≤—А–µ–љ—В—М–µ–≤ –Р.–Т. –†–∞–љ–љ–Є–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Р.–Ш. –Ь—Г—Б–Є–љ–∞–Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ // –Ґ—А—Г–і—Л –Њ—В–і–µ–ї–∞ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –Ы., 1985. –Ґ. 39. –°. 323вАУ334.
11 –Ю–Я–Ш –У–Ш–Ь. –§. 445. вДЦ 173.
12 –Ы–∞–≤—А–µ–љ—В—М–µ–≤ –Р.–Т. –†–∞–љ–љ–Є–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Р. –Ш. –Ь—Г—Б–Є–љ–∞–Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞. –°. 329.
13 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.
14 –У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ –°. –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Њ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є–Є. –Ь., 1988. –°. 70.
15 –Ы–∞–≤—А–µ–љ—В—М–µ–≤ –Р.–Т. –†–∞–љ–љ–Є–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Р. –Ш. –Ь—Г—Б–Є–љ–∞–Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞. –°. 333.
16 –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ—Ю –Р. –Ф–Ј–µ –∞–і–±—Л–ї–∞—Б—П –Р—А—И–∞–љ—Б–Ї–∞—П –±i—В–≤–∞ 1514 –≥.? // –У–µ—А–Њ–ї—М–і-Litherland, Nr 20. 2014. –°. 4вАУ29; –Ъ–Њ–њ—Ж—Ц–Ї –Ѓ. –Ъ–∞—А—Ж—Ц–љ–∞ ¬Ђ–С—Ц—В–≤–∞ –њ–∞–і –Т–Њ—А—И–∞–є¬ї —П–Ї –Ї—А—Л–љ—Ц—Ж–∞ –і–∞ –њ—А–∞–±–ї–µ–Љ—Л –ї–∞–Ї–∞–ї—Ц–Ј–∞—Ж—Л—Ц –Р—А—И–∞–љ—Б–Ї–∞–є –±—Ц—В–≤—Л // –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 30вАУ39.
17 –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ—Ю –Р. –Ф–Ј–µ –∞–і–±—Л–ї–∞—Б—П –Р—А—И–∞–љ—Б–Ї–∞—П –±i—В–≤–∞ 1514 –≥.? C. 29.
18 –Ъ–Њ–њ—Ж—Ц–Ї –Ѓ. –Ъ–∞—А—Ж—Ц–љ–∞ ¬Ђ–С—Ц—В–≤–∞ –њ–∞–і –Т–Њ—А—И–∞–є¬ї —П–Ї –Ї—А—Л–љ—Ц—Ж–∞ –і–∞ –њ—А–∞–±–ї–µ–Љ—Л –ї–∞–Ї–∞–ї—Ц–Ј–∞—Ж—Л—Ц –Р—А—И–∞–љ—Б–Ї–∞–є –±—Ц—В–≤—Л. –°. 30вАУ39.
19 GStAPK. XX HA Hist. StA K√ґnigsberg, OBA. 20215. Fol. 1вАУ4.
20 –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ—Ю –Р. –Ф–Ј–µ –∞–і–±—Л–ї–∞—Б—П –Р—А—И–∞–љ—Б–Ї–∞—П –±i—В–≤–∞ 1514 –≥.? C. 11.
21 –Я—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є. –Ь., 1955. –Т—Л–њ. 2. –°. 260.
22 –°–Љ. –љ–∞–њ—А: Fontes Rerum Austricarum. √Цsterreichische Geschichts-Quellen. Band I. Wein, 1855. S. 113.
23 –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ—Ю –Р. –Ф–Ј–µ –∞–і–±—Л–ї–∞—Б—П –Р—А—И–∞–љ—Б–Ї–∞—П –±i—В–≤–∞ 1514 –≥.? –°. 12.
24 –У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ –°. –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Њ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є–Є, –Ь., 1988. –°. 70.
25 Kaminski A.J. Dwa swiadectwa rycerskich zaslug mieszczanina zywieckiego Jana Baszty // Gronie. 1938. вДЦ 8. S. 194вАУ196.
26 Ad inclytum Sigismundum primum kegem Poloniae etc. nomine reginae Sarbare, post partam de Moscis victoriam epistola Andreae Kritii [1515].
27 –Ю—В—А—Л–≤–Њ–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є // –Я–Њ–ї–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ–є (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Я–°–†–Ы), –°–Я–±., 1853. –Ґ. 6. –°. 280; –†–∞–Ј—А—П–і–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1475вАУ1605 –≥–≥. –Ь., 1977. –Ґ. I. –І. I. –°. 142.
28 –°–Є–љ–Њ–і–Є–Ї –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞: –Ф—А–µ–≤–љ—П—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Т–Є–≤–ї–Є–Њ—Д–Є–Ї–∞ / –Ш–Ј–і. –Э.–Э–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ. –Ь., 1788. –Ґ. VI. –°. 463вАУ464; –С–µ–ї–Њ–Ї—Г—А–Њ–≤ –°.–Р. –Ъ—А–∞—В–Ї–∞—П –≤—Л–њ–Є—Б–Ї–∞ –Њ –±—Л–≤—И–Є—Е –Љ–µ–ґ–і—Г –Я–Њ–ї—М—И–µ—О –Є –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞—Е, –≤–Њ–є–љ–∞—Е –Є –њ–µ—А–µ–Љ–Є—А—М—П—Е 1462вАУ1565 –≥–≥. // –І—В–µ–љ–Є—П –≤ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е. 1902. –Ъ–љ. 4. –°–Љ–µ—Б—М. –°. 10. вДЦ 2; –°–∞–≤–µ–ї–Њ–≤ –Ы.–Ь. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А–Њ–і–∞ –і–≤–Њ—А—П–љ –°–∞–≤–µ–ї–Њ–≤—Л—Е (–њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –±–Њ—П—А –°–∞–≤–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е). –Ь., 1894. –Ґ. I. –°. 10.
29 –Ґ–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д—Б–Ї–∞—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М // –Я–°–†–Ы. –Ь., 2000. –Ґ. 24. –°. 217.
30 –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –њ–Њ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–њ–Є—Б–Ї—Г // –Я–°–†–Ы. –°–Я–±., 1859. –Ґ. 8. –°. 258; –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Л–є –Я–∞—В—А–Є–∞—А—И–µ–є –Є–ї–Є –Э–Є–Ї–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М—О // –Я–°–†–Ы. –°–Я–±., 1904. –Ґ. 13. –І. 1. –°. 22.
31 –У–µ—А–±–µ—А—И—В–µ–є–љ –°. –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Њ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є–Є. –Ь., 1988. –°. 70.
32 1518, –∞–≤–≥—Г—Б—ВвАУ—Б–µ–љ—В—П–±—А—М. –Я–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞ –≤ –Ъ—А—Л–ЉвА¶ // –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Ґ. 95. –°–Я–±., 1895. –°. 535. вДЦ 31.






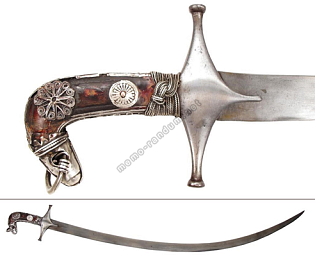
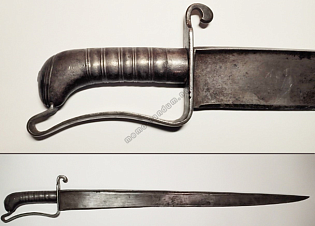

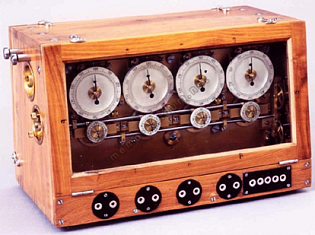
–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є