А.Д. Немцев (Курск) БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ХОДЕ ХАРЬКОВСКОЙ ОПЕРАЦИИ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МАЙ 1942 ГОДА)
Управление культуры Минобороны России Российская Академия ракетных и артиллерийских наук Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
Часть IVСанкт-Петербург
©ВИМАИВиВС, 2016
©Коллектив авторов, 2016
© СПбГУПТД, 2016
Согласно директиве командования Юго-Западного направления № 00275 от 28 апреля 1942 г. прорыв обороны в районе Харькова было решено осуществить на двух участках. На северном – протяженностью 55 километров должны были действовать войска 21, 28, 38-й армий (командующие – генерал-майор В.Н. Гордов, генерал-лейтенант Д.И. Рябышев, генерал-майор К.С. Москаленко), на южном – в полосе 36 километров – войсками 6-й армии (командующий – генерал-лейтенант А.М. Городнянский) и оперативной группы фронта под командованием генерал-майора Л.В. Бобкина.
21-я армия (в ее состав входили 8-я мотострелковая, 297, 301, 76, 293, 227-я стрелковые дивизии (командиры – полковники Н.Д. Козин, Г.А. Афанасьев, А.А. Соколов, Г.Г. Воронин, генерал-майор П.Ф. Лагутин, полковник Г.А. Тер-Гаспарян) 1-я мотострелковая, 10-я танковая бригады (командир – полковник В.А. Бутман-Дорошевич), 8-й отдельный танковый батальон с четырьмя артиллерийскими полками РГК) получила задачу: в ходе наступления силами левофланговых 76, 293 и 297-й дивизий и 10-й танковой бригады, наступая с территории южных районов Курской области, прорвать вражескую оборону на 14-километровом участке, прикрыть правый фланг 28-й армии на рубеже Пристень – Петровка и к исходу третьего дня операции, закрепившись на достигнутых рубежах, надежно обеспечить маневр частей 28-й армии (169-й стрелковой дивизии), охватывающих Харьков с севера и северо-запада. 10-я танковая бри гада и 8-й отдельный танковый батальон армии насчитывал 48 танков (3,5 на один километр фронта прорыва). В армии имелось 331 орудие и миномет (23,6 орудия на один километр фронта прорыва).1 Для прорыва на северном фланге командование фронта сосредоточило для наступления 13 дивизий (21-я армия – 3 (76, 227, 293-я); 28-я армия – 6; 38-я – 4), 349 танков и 1709 орудий.2
Необходимо отметить, что, несмотря на наступательный оптимизм, царивший среди командного состава Юго-Западного направления, подготовка к наступательной операции в районе Харькова, начавшаяся в конце апреля 1942 г., была связана с большими трудностями. Многие соединения и части находились на удалении от отведенных им участков прорыва, поэтому их приходилось перемещать вдоль фронта. Одновременно нужно было формировать новую 28-ю армию, 10 апреля 1942 г. занявшую рубежи на территории Харьковской области, и размещать соединения, прибывавшие в ее состав из резерва Ставки Верховного Главнокомандования.3 Все это осложнялось весенней распутицей и связанным с ней плохим состоянием дорог.
К 11 мая 1942 г. плотность гитлеровских войск на участках ударных группировок Юго-Западного фронта резко увеличилась. Боевые группы и смешанные части противника были организационно объединены в пехотные дивизии. В оперативной глубине враг разместил сильные резервы.
Итак, подготовляемое наступление на Харьков не явилось внезапным для противника.4
Большой вред делу нанесла недооценка сил врага. Эта особенность в деятельности военных советов Юго-Западного направления и фронта, еще зимой 1942 г. наложившая заметный отпечаток на принимаемые решения, теперь проявлялась еще резче. В эти дни армейская разведка стремилась собрать наиболее полные сведения о противнике. Значительную помощь ей оказывали территориальные органы НКВД, в том числе и Курской области. Так, в разведсводке № 49 от 9 мая 1942 г., направленной начальником управления НКВД по Курской области майором госбезопасности П.М. Аксеновым в разведотдел 21-й армии, значилось, что в Белгороде располагались штабы 75-й пехотной дивизии и 79-й пехотной дивизии. Указывалось также, что место расположения штаба еще одной дивизии установить пока не удалось. Отмечалось, что линию фронта возле сел Мелихово и Большая Игуменка Белгородского района держит 202-й полк 75-й немецкой дивизии. В составе второго батальона этого полка находилась 6-я рота русских добровольцев, сформированная в апреле 1942 г. из молодежи Белгородского района Курской области. По данным агентурной разведки НКВД в район Белгорода с Украины прибывали отряды дезертиров из Красной армии, хорошо обмундированных и одетых в немецкую форму5. В других донесениях отмечалось, что из Курска и Льгова в направлении на Конотоп–Сумы–Харьков перебрасываются танковые части, в том числе из дивизий СС6.
Как впоследствии оказалось, гитлеровцы на этом участке фронта также готовили наступательную операцию под кодовым названием «Фридерикус-I». Штабы Юго-Западного направления, Юго-Западного и Южного фронтов оказались в полном неведении о намерениях противника. В таких условиях 12 мая 1942 г. началось наступление советских войск на Харьков.
На участке прорыва северной ударной группировки от села Нежеголь (16 км севернее Волчанска) советская артиллерия нанесла первый огневой удар по опорным пунктам противника. Артиллерийская подготовка продолжалась ровно час. Довольно успешно решались задачи прорыва немецкой обороны в полосе 21-й армии. В немалой степени этому способствовало то, что вечером 11 мая специально подготовленные отряды 76-й стрелковой дивизии (командир – полковник Г.Г. Воронин) неожиданно для противника форсировали реку Северский Донец и захватили на левом берегу два небольших плацдарма. По решению командира дивизии туда ночью переправились главные силы. С этих плацдармов дивизия и перешла в наступление, вклинившись к полудню 12 мая в оборону противника в полосе до 5 километров по фронту и 3–4 километра в глубину.7 Ее успех умело использовали части 293-й стрелковой дивизии (командир – генералмайор П.Ф. Лагутин). Во взаимодействии со 169-й стрелковой дивизией 28-й армии (командир – полковник С.М. Рогачевский) при поддержке 156-го артполка РГК и бронепоезда № 4 59-го Отдельного дивизиона бронепоездов (ОДБП) наносила удар в направлении Бугроватки и Старицы. Ей противостояли части 71-й пехотной и 3-й танковых дивизий врага.
Менее успешно действовали соединения 28-й армии. В полосе наступления развернулись тяжелые, кровопролитные бои. Так, командование 169-й стрелковой дивизии получило задачу – личным составом 556-го полка 12 мая 1942 г. овладеть селом Терновая Боль ше-Троицкого района Курской обл.8 Противник, как выяснилось, хо рошо укрепил этот участок обороны, подготовив населенные пункты к круговой обороне. Лишь воинам 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала А.И. Родимцева при поддержке 90-й танковой бригады (командир – подполковник М.И. Малышев) на своем участке удалось прорвать оборону врага.
В итоге первого дня наступления войска северной ударной группировки прорвали главную полосу вражеской обороны, продвинувшись на глубину от 6 до 10 километров. Южная ударная группировка вклинилась вглубь обороны противника на 12–15 километров.
Успешно начавшееся наступление войск Юго-Западного фронта встревожило командование 6-й немецкой армии. Бывший первый адъютант армии полковник В. Адам писал: «Подготовка к переброске наших войск для летней кампании 1942 года шла полным ходом. Но на долю 6-й армии выпало еще одно тяжелое испытание. Советские соединения, располагавшие значительными силами, включая и многочисленные танки, предпринимали 12 мая новое наступление с изюмского выступа и под Волчанском. Для нас создалось угрожающее положение. Наносящим удар советским войскам удалось на ряде участков прорвать нашу оборону... Советские танки стояли в 20 километрах от Харькова... Почти столь же серьезным было положение под Волчанском, северо-восточнее Харькова. Понадобилось ввести в бой буквально последние резервы 6-й армии, чтобы задержать противника».9
Выполняя распоряжение Ф. фон Бока, генерал Ф. Паулюс в течение 12 мая 1942 г. выдвинул из Харькова в район Приволье 3-ю и 23-ю танковые дивизии, до трех полков пехоты из состава 71-й и 44-й пехотных дивизий. Эти войска предназначались для нанесения контрудара по левому флангу ударной группировки в направлении на северо-восток. 4-й воздушный флот под командованием генерала В. Рихтгофена получил задачу обеспечить мощную поддержку авиацией.
Анализируя итоги действий северной группировки за день 12 мая 1942 г., Главком Юго-Западного направления (ЮЗН) маршал С.К. Тимошенко пришел к выводу, что в общем наступление развивается по плану. Главкома очень тревожило появление двух немецких танковых дивизий. Ф. Паулюс посчитал, что наступление из района Волчанска является самым опасным, и поэтому принял решение ввести в сражение свои танковые силы.
13 мая 1942 г. войска северной советской группировки при активной поддержке авиации продолжали атаки на прежних направлениях. В полосе наступления 21-й армии 76 и 293-я стрелковые дивизии соединились на западном берегу Северского Донца, образовав плацдарм, достаточный для накапливания сил и средств, способных прорваться вглубь вражеской обороны. Главком ЮЗН отдал указания генералу В.Н. Гордову ускорить продвижение войск на запад и овладеть опорными пунктами противника на правом берегу Северского Донца в Графовке и Муроме (Шебекинский район Курской обл.). Однако организация наступления в полосе действий этих двух дивизий не была столь эффективной. Им сразу не удалось преодолеть упорное сопротивление врага. 293-я стрелковая дивизия медленно продвигалась к с. Муром. Первыми к нему вышли подразделения 1034-го стрелкового полка, которые заняли восточную часть села.
На направлении главного удара войска 28-й армии (169-я и 175- я стрелковые дивизии полковника С.М. Рогачевского и генерала А.Д. Кулешова) сломили сопротивление гарнизона врага в Варваровке, но выбить гитлеровцев из с. Терновая Больше-Троицкого района Курской области не смогли. Как вспоминал бывший член Военного Совета 28-й армии генерал-лейтенант Н.К. Попель: «Наша артиллерия во время артподготовки не достала до Терновой. Здесь укрылось не меньше двух полков вражеской пехоты, танки, тяжелые орудия. К вечеру две дивизии блокируют эту деревню… в темноте гитлеровцы попытались вырваться из Терновой… пехота прикрытия была смята, но через огневые позиции артполка майора Шкидченко прорваться не удалось… Бой у Терновой не стихал. На деблокирование гарнизона прибыл танковый полк. Вырваться из кольца немцам не удалось, но и сдаваться они не собирались. Две наши дивизии были прикованы к Терновой…»10.
Самым неприятным событием дня явилось то, что выдвинувшийся вперед южный фланг 28-й армии оказался обнаженным. Одновременно с танковым контрударом Ф. Паулюс постарался укрепить свою оборону в полосе наступления 28-й армии, усилив 79-ю и 294-ю пехотные дивизии. Следовательно, удар на Харьков с северо-востока начал тормозиться уже 13 мая.
14 мая 1942 г. дивизии 28-й армии продвинулись еще на 6–8 километров и вышли к тыловому рубежу противника, проходившему по правым берегам рек Харьков и Муром. Части 169-й стрелковой дивизии в этот день вели ожесточенные бои в районе с. Липцы.11
Начальник штаба 21-й армии генерал-майор А.И. Данилов докладывал, что противник по-прежнему удерживает опорные пункты Графовка, Шамино и Муром (Шебекинский район Курской обл.). 76- я и 293-я дивизии пытались взять эти узлы сопротивления фронтальными атаками, но безуспешно.
Главком С.К. Тимошенко «не без соответствующего назидания» приказал генералу В.Н. Гордову прекратить бесполезные атаки, частью сил наступавших дивизий блокировать опорные пункты, а главными силами развивать наступление на северо-запад. К исходу дня 14 мая с. Муром было освобождено частями 293-й стрелковой дивизии, которые вышли к рубежу Нехотеевка – МТФ севернее Мурома. В боях за Муром противник потерял до батальона пехоты, было захвачено 12 орудий, 15 пулеметов, до миллиона патронов, 5 тысяч снарядов и мин, 6 автомашин и много другого военного имущества и снаряжения.12
Маршал С.К. Тимошенко решил активизировать действия фланговых дивизий 21-й армии В.Н. Гордова и сорвать маневр противника. Эту задачу выполнила 227-я стрелковая дивизия, которая успешно прорвала оборону на одном из участков 17-го армейского корпуса противника. Разгромив противостоящие части, она за день продвинулась на 6 километров и овладела рядом населенных пунктов. Из состава 29-го армейского корпуса, оборонявшегося на подступах к Белгороду, Ф. Паулюс все же использовал 168-ю пехотную дивизию. В районе с. Мясоедово (Белгородский район Курской обл.) была организована атака силами полка 301-й стрелковой дивизии.
Тем не менее, общий итог боев к исходу дня 14 мая 1942 г. в полосе северной группы был положительным, фронт прорыва составил здесь 56 километров. Войска, действовавшие в центре группы, продвинулись в глубину обороны врага на 20–25 километров.
В ночь на 15 мая 1942 г. штаб Юго-Западного фронта подготовил донесение в Ставку Верховного Главнокомандования, в котором он констатировал успех первых трех дней наступления. «На правом крыле фронта наши войска, наступая на Харьков с востока, разгромили части 79, 294, 297, 71-й пд, нанесли значительные потери 3-й и 23-й тд и к исходу 15 мая вышли на фронт: Маслова Пристань, Муром, Пыльная, Веселая, Петровская, р. Бабка. Общая ширина фронта прорыва обороны противника достигает 50 км и глубина нашего проникновения – 18–25 км». Оценивая результаты боев северной ударной группировки с резервами противника, отмечалось, что, несмотря на причиненный двум немецким танковым дивизиям большой урон, они продолжают оставаться серьезным препятствием для советских войск в их наступлении на Харьков. Командование ЮЗН (С.К. Тимошенко, И.Х. Баграмян, Н.С. Хрущев) делало слишком оптимистичный вывод, что «до сего времени противник не разгадал замысла нашей операции и свой основной ударный кулак направил на второстепенный участок фронта и этим предоставил свободу действий нашим ударным группировкам… Сейчас противник в районе Харькова не располагает такими силами, чтобы развернуть против нас встречное наступление. Наши действия на Харьковском направлении создают весьма благоприятные условия для намеченного наступления Голикова (Брянский фронт)».13
Оценивая общее развитие событий 15–16 мая 1942 г., следует отметить крайнюю осторожность в проведении операции со стороны командования Юго-Западного направления. Приказ на ввод в прорыв 21-го и 23-го танковых корпусов (командиры генералы Г.И. Кузьмин и Е.Г. Пушкин) не последовал вплоть до третьего дня наступления 6-й армии. Документы показывают, что наступление войск левого крыла Юго-Западного фронта поставило в очень тяжелое положение войска Ф. Паулюса на Красноградском направлении.
Утром 15 мая на северном участке, в полосе 21-й армии обстановка начала особенно осложняться. В район Зиборовка, Бочковка, Черемушное (на границе Микояновского и Шебекинского районов Курской области) из-под Белгорода стали прибывать передовые части 168-й пехотной дивизии. Они с ходу начали контратаки в направлении Мурома. Почти одновременно 3-я и 23-я немецкие танковые дивизии и до трех полков пехоты нанесли удар в северо-восточном направлении (на стыке 21-й и 28-й армий). Из района Борщевая, Черкасские Тишки (Харьковская обл.) до 80 танков и пехота атаковали наши позиции в районе Петровского и продвинулись на 3–5 километров к востоку от этого села. Командир 169-й стрелковой дивизии полковник С.М. Рогачевский докладывал в штаб 28-й армии, что немецкая танковая колонна (30 танков и 20 автомашин) с пехотой двинулось на Терновую, чтоб прорваться к окруженному гарнизону с северо-востока. На северо-западной окраине Терновой вновь завязались ожесточенные бои. В результате неожиданной немецкой атаки батальон из 38-й стрелковой дивизии, понеся большие потери, оставил захваченную с таким трудом окраину села и отступил в рощу, примыкавшую к деревне с юго-запада.14
Главком С.К. Тимошенко подтвердил приказ: временно прекратить наступление, закрепиться на достигнутых рубежах для надежного обеспечения фланга ударной группировки. 15 мая 1942 г. наступательные задачи фактически получили только 21-я армия и правофланговые – 169-я и 175-я дивизии 28-й армии.
В итоге наступления частей Красной армии была освобождена значительная территория Микояновского района Курской области – населенные пункты Середа, Солнцево, Вергелевка, Устинка, Нечаевка, Ревенек.15
Бои северной ударной группировки 16 мая 1942 г. в основном носили оборонительный характер. Враг предпринял несколько сильных контратак. Их удалось отбить, но войска 21-й армии не смогли продвинуться вперед, особенно в районе Зиборовки, Нечаевки. На левом фланге (против 227-й дивизии) разведка обнаружила, что ночью противник отвел свои главные силы на рубеж р. Харьков. Командир 227-й дивизии полковник Г.А. Тер-Гаспарян и командир 175-й дивизии 28-й армии генерал А.Д. Кулешов, воспользовавшись этим, продвинули свои части на западный берег р. Липец.
На 17 мая задача северной группы оставалась прежней – разгромить вклинившуюся танковую группировку противника. Здесь уместно отметить одно обстоятельство, касающееся возможностей, которые представились 38-й армии в этот день, но не были реализованы. С раннего утра 17 мая после короткой артиллерийской подготовки танки 3-й и 23-й немецких дивизий, поддерживаемые цепями пехоты, атаковали стыки 21-й, 28-й и 38-й армий. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в полосе 169-й и 175-й дивизий 28-й армии, которые находились на стыке 21-й армии. Уже 17 мая стало ясно, что наступление советских войск на Харьков находится под серьезной угрозой. Военный совет и командование ЮЗН не предприняло мер для остановки наступления и защиты южного фланга наступающей группировки.
К сожалению, этот серьезнейший просчет военного командования ЮЗН привел к тому, что 17 мая 1942 г. из района Славянска был осуществлен удар группы генерала Э. Клейста в составе 11 дивизий и 360 танков.16
19 мая 1942 г. соединениям 28-й, левого фланга 21-й и правого фланга 38-й армий еще ставилась задача разгромить танковую группировку врага в составе 3-й и 23-й танковых дивизий. Согласно замыслу эту группировку предполагалось окончательно уничтожить, тем самым исключив в дальнейшем всякую угрозу для наших войск с ее стороны.
Из содержания приказа командования Юго-Западного направления № 00320 от 19 мая 1942 г. видно, что замысел командования Юго-Западного направления был смелый, и представлялся он авторам простым и реальным.17 На деле все обстояло далеко не так просто. Необходимо было срочно, в ограниченное время перегруппировать разбросанную на обширном пространстве большую массу войск, что в тех условиях было, конечно же, нереально.
20 мая 1942 г. северная ударная группировка советских войск пыталась продолжать наступление, но безуспешно. Танковая группа противника нанесла контрудар, в результате которого войска 21-й и 28-й армий со значительными потерями вынуждены были отойти в исходное положение – почти на те самые рубежи, с которых они начали наступательную операцию неделю назад. Под ударами превосходящих сил 28-я армия отошла на исходные рубежи в район с. Мартыновка, оставив села Терновую, Липцы, Веселое на территории Больше-Троицкого района,18 а 21-я армия – за Северский Донец на территорию Шебекинского района Курской области, где закрепилась на рубеже Нежеголь, Красная Поляна. 293-я стрелковая дивизия с 19 по 27 мая в районе Нежеголь, имея в стрелковых полках лишь по 110–120 активных штыков, отбивала яростные атаки противника на участке шириной 8 километров.
22 мая 1942 г. войска танковой группы Клейста соединились с частями 6-й полевой армии Ф. Паулюса. Наступавшие советские войска оказались в глубоком вражеском кольце.
Исход советского наступления на Харьков и всей Харьковской операции трагичен. К началу операции в войсках Юго-Западного фронта и правого крыла Южного фронта насчитывалось 765 300 человек. Потери советских войск в ходе операции составили 277 190 человек (безвозвратные – 170 958, санитарные – 106 232), что составляло 27,6 % всего личного состава.19
В боях в районе Харькова погибли многие советские военачальники: заместитель командующего войсками Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко, командующий и член Военного Совета 6-й армии генерал-лейтенант А.М. Городнянский и бригадный комиссар И.А. Власов, командующий, член Военного Совета и начальник штаба 57-й армии генерал-лейтенант К.П. Подлас, бригадный комиссар А.И. Попенко, генерал-майор А.Ф. Анисов, командующий армейской группой генерал-майор Л.В. Бобкин, командующий 21-м танковым корпусом генерал Г.И. Кузьмин, многие командиры дивизий.20
Таким образом, успешно начатая Харьковская наступательная операция к концу мая 1942 г. закончилась крупной неудачей. Объясняя причины, приведшие войска ЮЗН к тяжелейшему поражению, командование направления в докладе в Ставку ВГК писало: «Ставка, Верховному Главнокомандующему тов. Сталину. VI Основные причины поражения.
1. Хорошо задуманное и организованное наступление на Харьков оказалось не вполне обеспеченным от ударов противника на Барвенковском направлении. Ослабление боевого состава и нарушение намеченного боевого построения обороны 9-й армии, вызванные боями за Маяки и уменьшением ее состава на одну стрелковую дивизию (216 сд), лишило эту армию возможности создать глубоко эшелонированную оборону с наличием достаточных резервов, способных не допустить прорыва фронта. Поражение 9-й армии в значительной мере явилось результатом несостоятельности командования этой армии для управления войсками в сложных условиях боя. Разведка всех видов 9-й армии и Южного фронта своевременно не вскрыла готовящегося удара и этим лишила командование возможности принять дополнительные меры для отражения удара противника по 9-й армии.
2. Было очевидно, что без поворота основной массы танковых соединений 6-й армии на восток нельзя избежать назревающей катастрофы. Своевременно не были приняты меры для немедленного поворота 21-го и 23-го танковых корпусов на восток навстречу танковым соединениям противника, стремившимся к захвату переправ через р. Сев. Донец на участке Савинцы, Петровская. Вместо того чтобы бить противника сразу массированно, вначале был повернут лишь один 23 тк, затем с опозданием на одни сутки – 21 тк с 248 сд.
3. Командование армий и часть командиров корпусов и дивизий со своими штабами оказались несостоятельными руководить войсками в сложных условиях боя. Как правило, руководящий командный состав армий, корпусов и дивизий в ответственные моменты операций и боя не руководил соединениями войск, а разъезжал по подразделениям. Так происходило в группе генерала Костенко и 6-й армии в период полуокружения, когда командующий армией уезжал в одну дивизию, член Военного совета – в другую, начальник штаба – в третью. Такое самоустранение от руководства войсками армии в целом окончательно приводило к потере управления войсками на поле боя.
Это одна из основных причин поражения 9-й, 6-й и 57-й армий.
4. Большую роль в поражении наших войск в этой операции сыграла авиация противника, которая со второго дня нашего наступления завоевала господство в воздухе и непрерывными ударами большого количества самолетов по войскам наносила поражение, приковывала к земле и лишала их маневра на поле боя. ВВС фронта, невзирая на стремление массировать свои действия на важнейших направлениях, все-таки из-за значительного количественного превосходства авиации противника не обеспечивали действия своих войск.
Главнокомандующий войсками ЮЗН маршал Советского Союза С.К. Тимошенко. Член Военного Совета ЮЗН Н.С. Хрущев. Начальник штаба ЮЗН генерал-лейтенант И.X. Баграмян».21
В этом документе командование Юго-Западного направления обвинило командармов, командиров корпусов и дивизий, их начальников штабов в неумении руководить войсками. И.В. Сталин дал свою оценку действиям командования Юго-Западного направления в директивном письме Военному Совету Юго-Западного фронта. Верховный Главнокомандующий писал: «В течение каких-либо трех недель Юго-Западный фронт благодаря своему легкомыслию не только проиграл наполовину выигранную Харьковскую операцию, но успел еще отдать противнику 18–20 дивизий».
Наиболее строго Верховный Главнокомандующий наказал начальника штаба фронта генерала И.X. Баграмяна. Об основных виновниках провала операции – маршале С. К. Тимошенко и члене Военного Совета Н.С. Хрущеве И.В. Сталин выразился так: «Понятно, что дело здесь не только в тов. Баграмяне. Речь идет также об ошибках всех членов Военного Совета и прежде всего тов. Тимошенко и тов. Хрущева. Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе – с потерей 18–20 дивизий, которую пережил фронт и продолжает еще переживать, то я боюсь, что с Вами поступили бы очень круто. Поэтому вы должны учесть допущенные Вами ошибки и принять все меры к тому, чтобы впредь они не имели места».22
В конце мая 1942 г. Ставка ВГК поставила перед войсками Юго-Западного фронта задачу перейти к обороне на занимаемых рубежах, прочно закрепиться на них силами 21-й, 28-й, 38-й армий, а также остатками 9-й и не допустить развития наступления противника на восток. Чтобы решить эту задачу, Ставка усилила фронт семью стрелковыми дивизиями, двумя танковыми корпусами и четырьмя танковыми бригадами.
Таким образом, наступательная операция на южном крыле советско-германского фронта крупными силами и с более решительными целями, чем Харьковская, могла быть осуществима. Это вовсе не означает, что решающим для исхода Харьковской наступательной операции был недостаток сил и средств. Еще больше сказались на итогах этой операции и связанных с ней событиях серьезные недостатки в руководстве ее подготовкой и ведением со стороны Военного совета Юго-Западного направления, фронта и командующих армиями.
В поисках ответа на вопрос о реальности замысла Харьковской наступательной операции в мае 1942 г. мы находим две группы фактов. Это, с одной стороны, соотношение сил и средств на участках прорыва, сложившееся в целом в пользу войск фронта, и высокий наступательный дух, царивший в наших войсках. Именно благодаря им, в особенности героизму и отваге советских воинов, в первые дни наступления возникла чрезвычайно опасная для врага ситуация, грозившая сорвать его планы. Гитлеровский генерал 3. Вестфаль по существу признал это, заявив относительно боев под Харьковом в те дни: «Победа досталась нам только после серьезных усилий».23
К сожалению, факторы, делавшие реальным осуществление целей операции, сводились к нулю отмеченными выше недостатками в руководстве организацией и ведением ее. Наиболее пагубной оказалась недооценка сил противостоящего врага в целом и отдельных его группировок.
1 Москаленко К.С. На Юго-Западном направлении. Записки командарма. М., 1969. С.184, 188; Исаев А.В. Наступление маршала Шапошникова. История ВОВ, которую мы не знали. М., 2005. С. 314.
2 Там же. С. 188.
3 Рябышев Д.И. Первый год войны. М., 1990. С. 176–177.
4 Москаленко К.С. На Юго-Западном направлении. Записки командарма. С. 186–187.
5 АУ ФСБ КО. Ф. 4-го отдела НКВД. Д. 141. Л. 22.
6 Там же. Л. 29.
7 Баграмян И.Х. Так шли мы к победе. М., 1977. С. 84; Военно-исторический архив 2002. № 8 (32). С. 37.
8 ЦАМО РФ. Ф. 1410. Оп. 1. Д. 26. Л. 44.
9 Адам В. Трудное решение. М., 1967. С. 40.
10 Попель Н.К. В тяжкую пору. М., 1959. С. 321–322.
11 ЦАМО РФ. Ф. 1410. Оп. 1. Д. 6. Л. 52–54.
12 ЦАМО РФ. Ф. 1197. Оп. 1. Д. 11. Л. 8.
13 ЦАМО РФ. Ф. 220. Оп. 226. Д. 17. Л. 1–6. 14 Рябышев Д.И. Первый год войны. С. 206. 15 ГАКО. Ф. Р-3191. Оп. 2. Д. 125. Л. 1.
16 Военно-исторический архив. 2002. № 8 (32). С. 62.
17 ЦАМО РФ. Ф. 220. Оп. 226. Д. 17. Л. 27–29.
18 ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 161. Д. 842. Л. 243–244; Ф. 1410. Оп. 1. Д. 18 (карта); Д. 19. Л. 122.
19 Памяти Павших. Великая Отечественная война (1941–1945). М., 1995. С. 96.
20 Генерал Ф.Я. Костенко погиб 26.05.1942, место захоронения неизвестно (Военная энциклопедия: в 8 т. Т. 4. М., 1999. С. 241–242; Военно-исторический журнал. 1993. № 5. С. 19); генерал А.М. Городнянский погиб 27.05.1942, перезахоронен в 1965 г. в Харькове (Военная энциклопедия: в 8 т. Т. 2. М., 1995. С. 461; Военно-исторический журнал. 1992. № 5. С. 17); генерал К.П. Подлас погиб 25.05.1942, похоронен в районе д. Копанки Изюмского района Харьковской обл. (Военная энциклопедия: в 8 т. Т. 6. М., 2002. С. 449; Военно-исторический журнал. 1993. № 9. С. 5); генерал Л.В. Бобкин погиб 26.05.1942, место захоронения неизвестно (Военно-исторический журнал. 1991. № 11. С. 27); генерал танковых войск Г.И. Кузьмин погиб 28.05.1942 г., место захоронения неизвестно (Военно-исторический журнал. 1993. № 6. С. 9; Дриг Е. Механизированные корпуса РККА в бою. М., 2005. С. 697).
21 ЦАМО РФ. Ф. 251. Оп. 646. Д. 145. Л. 238, 266–269.
22 Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: документы и материалы: 1942 год. Т. 16 (5-2). М., 1996. С. 264.
23 Вестфаль 3., Крейне В. и др. Роковые решения. М., 1958. С. 117.









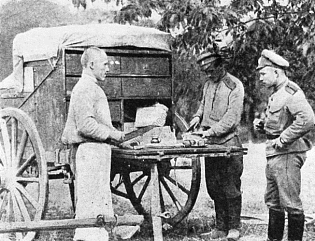
Комментарии