Ð.Ð. ÐĄÐžÐļŅÐ―ÐūÐē (ÐÐūŅКÐēа) Ð ÐÐÐÐ ÐÐĄÐĢ Ð ÐÐŦÐĢЧÐÐ Ð ÐĢÐĄÐĄÐÐÐ ÐÐÐĨÐÐĒÐŦ Ð ÐÐÐÐĢÐĄÐĒÐ 1914 ÐÐÐÐ Ð Ð ÂŦÐÐĢÐÐĢÐĻÐÐÐĨÂŧ Ð ÂŦÐÐÐÐÐŪÐŪ ÐÐÐÐÐĢÂŧ Ð Ð ÐÐÐÐÐÐĢÐŪ ÐÐĒÐЧÐÐĄÐĒÐÐÐÐÐĢÐŪ: ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐĶÐ-ÐĪÐÐÐŽÐÐĪÐÐÐÐÐŊ ÐÐĒÐĒÐ ÐĻÐÐĨÐĒÐ (1914)
ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ
ЧаŅŅŅ VÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ
ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016
ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2016
ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016
ÐĢŅаŅŅÐ―ÐļК ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ОÐļŅÐūÐēÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ, ŅÐ―ŅÐĩŅ-ÐūŅÐļŅÐĩŅ, а заŅÐĩО ÐūŅÐļŅÐĩŅ ÐģÐĩŅÐžÐ°Ð―ŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ ÐŅŅÐū ÐĻаŅ Ņ ÐąŅÐŧ ÐŋÐūОÐĩŅÐ°Ð―ŅÐĩО Ðļз ÐĻŅÐĩŅŅÐļÐ―Ð° (Ð―ŅÐ―Ðĩ ÐĐÐĩŅÐļÐ― Ðē ÐÐūÐŧŅŅÐĩ) Ðļ ŅŅÐūŅÐ―ŅŅ ŅÐŧŅÐķÐąŅ ÐŋŅÐūŅ ÐūÐīÐļÐŧ Ðē ÐŋÐūОÐĩŅÐ°Ð―ŅКÐūО 34-О ŅŅзÐļÐŧÐĩŅÐ―ÐūО КÐūŅÐūÐŧÐĩÐēŅ ÐÐļКŅÐūŅÐļÐļ ÐĻÐēÐĩÐīŅКÐūÐđ ÐŋÐūÐŧКŅ â ŅŅаÐēŅÐĩО ÐŋÐūŅÐūО ÐĩÐīÐļÐ―ŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐģÐĩŅÐžÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ŅаŅŅŅŅ ÐÐĩŅÐēÐūÐđ ОÐļŅÐūÐēÐūÐđ, ŅŅÐĩ Ð·Ð―Ð°ÐžŅ Ð―Ðĩ ŅÐūÐŧŅКÐū заŅ ÐēаŅÐļÐŧÐļ, Ð―Ðū Ðļ ŅÐīÐĩŅÐķаÐŧÐļ ŅŅŅŅКÐļÐĩ ÐēÐūÐđŅКа. ÐŅÐļ ОÐūÐąÐļÐŧÐļзаŅÐļÐļ ÐķÐĩ Ðē аÐēÐģŅŅŅÐĩ 1914 Ðģ. ÐēÐļŅÐĩ-ŅÐĩÐŧŅÐīŅÐĩÐąÐĩÐŧŅ ŅÐĩзÐĩŅÐēа ÐĻаŅ Ņ ÐąŅÐŧ Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ― ÐēÐū ÐēÐ―ÐūÐēŅ ŅŅÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅÐđ Ðļз ÐķÐļŅÐĩÐŧÐĩÐđ ŅÐūÐđ ÐķÐĩ ÐÐūОÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐļ 9-Ðđ ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―ŅÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅÐđ ÐŋÐūÐŧК â ÐģÐīÐĩ ŅŅаÐŧ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅÐūО ÐēзÐēÐūÐīа 7-Ðđ ŅÐūŅŅ. ÐОÐĩŅŅÐĩ Ņ ÐŋÐūОÐĩŅÐ°Ð―ŅКÐļО ÐķÐĩ 2-О ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―ŅО 9-Ðđ ÐŋÐūÐŧК ÐūÐąŅазÐūÐēаÐŧ 5-Ņ ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―ŅŅ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅŅ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ, КÐūŅÐūŅаŅ ÐēÐūŅÐŧа Ðē ŅÐūŅŅаÐē 3-Ðđ ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―ÐūÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐīÐļÐēÐļзÐļÐļ. Ð ŅŅÐīаŅ ŅŅÐūÐđ ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐĻаŅ Ņ Ņ аÐēÐģŅŅŅа 1914-ÐģÐū ÐŋÐū ŅÐĩÐēŅаÐŧŅ 1915-ÐģÐū ÐēÐūÐĩÐēаÐŧ Ðē ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐŅŅŅŅÐļÐļ Ðļ Ðē ÐÐēÐģŅŅŅÐūÐēŅКÐļŅ ÐŧÐĩŅаŅ , а ÐŧÐĩŅÐūО Ðļ ÐūŅÐĩÐ―ŅŅ 1915-ÐģÐū â Ðē ÐÐļŅÐēÐĩ Ðļ ÐаÐŋаÐīÐ―ÐūÐđ ÐÐĩÐŧÐūŅŅŅŅÐļÐļ. ÐаŅÐĩО ÐĩÐģÐū ÐŋÐūÐŧК ÐąŅÐŧ ÐēŅÐēÐĩÐīÐĩÐ― Ðļз ŅÐūŅŅаÐēа 3-Ðđ ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―ÐūÐđ ÐīÐļÐēÐļзÐļÐļ Ðļ ÐŋÐĩŅÐĩÐąŅÐūŅÐĩÐ― Ðē ÐŅŅÐŧŅÐ―ÐīÐļŅ, а ÐūŅÐĩÐ―ŅŅ 1916-ÐģÐū â Ðē Ð ŅОŅÐ―ÐļŅ. ÐĒаО, Ðē ÐūКŅŅÐąŅÐĩ 1916 Ðģ., КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅ 7-Ðđ ŅÐūŅŅ 9-ÐģÐū ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―ÐūÐģÐū ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа ÐŧÐĩÐđŅÐĩÐ―Ð°Ð―Ņ ŅÐĩзÐĩŅÐēа ÐŅŅÐū ÐĻаŅ Ņ Ðļ ÐŋÐūÐģÐļÐą. ÐÐģÐū ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐīÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК, ÐŋÐūŅÐēŅŅÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐļО ŅÐēÐūÐĩÐđ ОаÐŧÐĩÐ―ŅКÐūÐđ ÐīÐūŅÐĩŅÐļ ÐŅÐļОŅ ÐļÐŧŅÐīÐĩ (ÐĻаŅ Ņ ÐąŅÐŧ ÐēÐīÐūÐēŅÐūО), ÐŋÐūŅŅÐļ ÐēÐĩК ŅÐŋŅŅŅŅ ÐūÐŋŅÐąÐŧÐļКÐūÐēаÐŧ ÐĩÐģÐū ÐēÐ―ŅК, ŅŅÐ― ÐŅÐļОŅ ÐļÐŧŅÐīŅ, ÐļŅŅÐūŅÐļК, ÐīÐūКŅÐūŅ ÐККаŅŅ ÐĨаООÐĩŅŅŅŅŅО1.
ÐÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐĻаŅ Ņа за 1914 Ðģ. â ŅŅÐū Ð―Ðĩ ÐŋŅÐūŅŅÐū ÐīÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐēŅÐĩÐģÐū ÐŧÐļŅŅ ŅÐ―ŅÐĩŅ-ÐūŅÐļŅÐĩŅа, Ð·Ð―Ð°ÐēŅÐĩÐģÐū ŅÐūÐŧŅКÐū ŅÐū, ŅŅÐū ÐĩОŅ ÐąŅÐŧÐū ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ðū Ð·Ð―Ð°ŅŅ, Ðļ ÐēÐļÐīÐĩÐēŅÐĩÐģÐū Ðē ÐąÐūŅ ÐŧÐļŅŅ ŅÐū, ŅŅÐū ŅОÐĩŅаÐŧÐūŅŅ Ðē ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ŅзКÐūО ÐŋÐūÐŧÐĩ зŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐēзÐēÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅа. ÐŅÐū ÐĩŅÐĩ Ðļ ÐīÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐēŅŅ ÐūÐīŅа Ðļз ÐąŅŅÐģÐĩŅŅКÐūÐđ ŅÐĩОŅÐļ, КÐūŅÐūŅŅÐđ Ð―Ðĩ ŅÐūÐąÐļŅаÐŧŅŅ ŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅŅŅ ÐŋŅÐūŅÐĩŅŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅО ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅО, Ðļ, Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅ, ŅŅÐū ÐīÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩКа, Ð―Ðĩ ŅКÐŧÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū К ŅÐĩŅÐŧÐĩКŅÐļÐļ. ÐÐīÐĩŅŅ Ð―Ðĩ ŅÐūÐŧŅКÐū Ð―ÐĩŅ ŅаŅŅŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐđ, ŅÐĩзÐūÐ―ÐĩŅŅŅÐēа, Ð°Ð―Ð°ÐŧÐļза, ÐūŅÐĩÐ―ÐūК, зÐīÐĩŅŅ ÐūŅÐĩÐ―Ņ ŅКŅÐŋа ÐīаÐķÐĩ ŅаКŅÐūÐģŅаŅÐļŅ. ÐÐēŅÐūŅ КŅаŅКÐū, ÐŋÐūŅŅÐļ ÐąÐĩз ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―ÐūŅŅÐĩÐđ ŅÐļКŅÐļŅŅÐĩŅ ÐŋÐū ÐīÐ―ŅО Ðļ ŅаŅаО ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐūÐŧКа Ðļ ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐŋŅÐļ ŅŅÐūО ÐļО, аÐēŅÐūŅÐūО, Ð―ÐĩŅÐīÐūÐąŅŅÐēа Ðļ ОаÐŧÐĩÐ―ŅКÐļÐĩ ŅаÐīÐūŅŅÐļ ÐŋÐūŅ ÐūÐīÐ―ÐūÐđ ÐķÐļÐ·Ð―Ðļ, ÐŋÐūŅŅÐūŅÐ―Ð―Ðū ÐūŅОÐĩŅаŅ, ŅŅÐū ÐēŅÐīаÐēаÐŧÐļ Ð―Ð° ÐūÐąÐĩÐī ÐļÐŧÐļ заÐēŅŅаК, ŅŅÐū ŅÐīаÐŧÐūŅŅ КŅÐŋÐļŅŅ Ðļз ŅŅÐĩŅŅÐ―ÐūÐģÐū ÐļÐŧÐļ Ðļз ÐēÐĩŅÐĩÐđ. ÐĒаК ÐķÐĩ КŅаŅКÐū, ŅŅŅ Ðū, Ņ ОÐļÐ―ÐļОŅОÐūО ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―ÐūŅŅÐĩÐđ Ðļ ÐļÐ―ŅÐūŅОаŅÐļÐļ Ðū ÐŧÐļŅÐ―ŅŅ ÐēÐŋÐĩŅаŅÐŧÐĩÐ―ÐļŅŅ , ÐūÐŋÐļŅŅÐēаŅŅŅŅ Ðļ ÐąÐūÐĩÐēŅÐĩ ŅÐŋÐļзÐūÐīŅ.
ÐŅÐĩ-ŅаКÐļ Ð―Ð° ŅÐĩŅ Ð―ÐĩÐžÐ―ÐūÐģÐļŅ ŅŅŅÐ°Ð―ÐļŅаŅ ÐīÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļКа, ŅŅÐū ÐŋÐūŅÐēŅŅÐĩÐ―Ņ ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ 26â31 аÐēÐģŅŅŅа (зÐīÐĩŅŅ Ðļ ÐīаÐŧÐĩÐĩ ÐīаŅŅ ÐŋŅÐļÐēÐūÐīŅŅŅŅ ÐŋÐū Ð―ÐūÐēÐūОŅ ŅŅÐļÐŧŅ) 1914 Ðģ. ÐŋÐūÐī ÐĒÐ°Ð―Ð―ÐĩÐ―ÐąÐĩŅÐģÐūО, ОÐūÐķÐ―Ðū Ð―Ð°ÐđŅÐļ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅÐ―ŅŅ ŅÐūÐūÐąŅÐĩÐ―ÐļÐđ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐŋŅÐūÐŧÐļÐēаŅŅ ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐđ ŅÐēÐĩŅ Ð―Ð° ÐēŅŅŅКŅ КаÐīŅÐūÐēÐūÐđ ŅŅŅŅКÐūÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅŅ ÐšÐ°Ð―ŅÐ―Ð° ÐÐĩŅÐēÐūÐđ ОÐļŅÐūÐēÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ. ÐÐĩÐīŅ КаК ÐīÐŧŅ ÐŋÐūÐŧКа ÐĻаŅ Ņа, ŅаК Ðļ ÐīÐŧŅ ŅаŅŅÐĩÐđ ŅŅŅŅКÐļŅ 1-Ðđ Ðļ 8-Ðđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅŅ ÐīÐļÐēÐļзÐļÐđ, Ņ КÐūŅÐūŅŅОÐļ ÐīÐūÐēÐĩÐŧÐūŅŅ ŅÐūÐģÐīа ŅŅÐūÐŧÐšÐ―ŅŅŅŅŅ 3-Ðđ ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―ÐūÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐīÐļÐēÐļзÐļÐļ, ŅŅÐū ÐąŅÐŧÐļ ÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ÐąÐūÐļ Ðē ОÐļŅÐūÐēÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ. ÐĄÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū, ŅŅŅŅКÐļÐĩ ŅаŅŅÐļ ÐēÐĩÐŧÐļ ÐļŅ , ÐūÐŋÐļŅаŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐūŅ ŅŅÐūÐēÐĩÐ―Ņ ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēКÐļ, ŅŅÐū ÐąŅÐŧ ÐīÐūŅŅÐļÐģÐ―ŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐī ÐēÐūÐđÐ―ÐūÐđ.
ÐÐĩŅÐēŅÐĩ ÐīÐēа ŅÐūÐūÐąŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅŅŅ К ŅÐĩŅаŅŅÐĩОŅ ÐīÐ―Ņ ÐĒÐ°Ð―Ð―ÐĩÐ―ÐąÐĩŅÐģŅКÐūÐģÐū ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ â 28 аÐēÐģŅŅŅа 1914 Ðģ. ÐĄ ŅŅŅа ŅŅÐūÐģÐū ÐīÐ―Ņ 3-Ņ ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―Ð°Ņ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―Ð°Ņ ÐīÐļÐēÐļзÐļŅ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ÐŧÐĩÐđŅÐĩÐ―Ð°Ð―Ņа Ð. ŅÐūÐ― ÐÐūŅÐģÐĩÐ―Ð°, ÐēÐūŅÐĩÐīŅаŅ Ðē ŅÐūŅŅаÐē ÐģŅŅÐŋÐŋŅ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧа ÐūŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐĪ. ŅÐūÐ― ÐĻÐūÐŧŅŅа, ŅÐļÐŧаОÐļ 5-Ðđ ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―ÐūÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ОаÐđÐūŅа Ð.Ð. ÐĨÐĩŅŅÐĩ (Hesse) Ð―Ð°Ð―ÐūŅÐļÐŧа Ņ ŅŅÐąÐĩÐķа ŅÐĩКÐļ ÐŅÐĩÐēÐĩÐ―Ņ ŅÐīаŅ Ð―Ð° ÐīÐĩŅÐĩÐēÐ―Ņ ÐŅŅÐąÐ―ÐļŅ, ŅŅÐūÐąŅ ÐūŅŅÐĩŅÐ―ÐļŅŅ ÐŋŅаÐēÐūÐĩ КŅŅÐŧÐū Ð―Ð°ŅŅŅÐŋаÐēŅÐĩÐģÐū Ð―Ð° ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ŅÐđ ŅŅÐąÐĩÐķ XV аŅОÐĩÐđŅКÐūÐģÐū КÐūŅÐŋŅŅа ŅŅŅŅКÐļŅ â 2-Ņ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ 8-Ðđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐīÐļÐēÐļзÐļÐļ (31-Ðđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅÐđ ÐÐŧÐĩКŅÐĩÐĩÐēŅКÐļÐđ Ðļ 32-Ðđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅÐđ ÐŅÐĩОÐĩÐ―ŅŅÐģŅКÐļÐđ ÐŋÐūÐŧКÐļ).
ÐÐīÐĩŅŅ ÐŋŅÐĩÐķÐīÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ÐūÐąŅаŅаÐĩŅ Ð―Ð° ŅÐĩÐąŅ ÐēÐ―ÐļÐžÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐīÐ°Ð―Ð―Ð°Ņ ÐĻаŅ ŅÐūО Ņ аŅаКŅÐĩŅÐļŅŅÐļКа заŅ ÐēаŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐŋÐūзÐļŅÐļÐļ аÐŧÐĩКŅÐĩÐĩÐēŅÐĩÐē ÐļÐŧÐļ КŅÐĩОÐĩÐ―ŅŅÐķŅÐĩÐē ÐąÐŧÐļз ÐŅŅÐąÐ―ÐļŅа. Ð ŅŅŅКÐļÐĩ ÐūКÐūÐŋŅ (ÐūÐīÐļÐ―ÐūŅÐ―ŅÐĩ ŅŅÐĩÐđКÐļ) ÐąŅÐŧÐļ Ð―Ðĩ ÐŋŅÐūŅŅÐū ÂŦÐļŅКŅŅÐ―ÐūÂŧ заОаŅКÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ņ, Ð―Ðĩ ÐŋŅÐūŅŅÐū ÂŦÐļŅКŅŅÐ―ÐūÂŧ ÐēŅŅŅŅŅ, Ð―Ðū Ðļ ÐēŅŅŅŅŅ ÂŦŅŅаŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÂŧ (mit Sorgfalt)2. ÐŅÐū Ð―Ðĩ ÐŋŅÐūŅŅÐū ÐŧÐļŅÐ―ÐĩÐĩ ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐēŅŅÐūКÐūÐđ ÐūŅÐĩÐ―ÐšÐļ, ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ Ð―ÐĩОŅаОÐļ ÐļŅ КŅŅŅŅÐēŅ ŅаОÐūÐūКаÐŋŅÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ОаŅКÐļŅÐūÐēКÐļ ŅŅŅŅКÐūÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅŅ 1914 Ðģ.3 Ð Ð―Ðĩ ÐŋŅÐūŅŅÐū ÐŧÐļŅÐ―ÐĩÐĩ ÐūÐŋŅÐūÐēÐĩŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐĩŅŅÐļОÐļŅŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ ÐūŅÐĩÐ―ÐūК ŅŅÐūÐģÐū ÐļŅКŅŅŅŅÐēа ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅОÐļ ŅŅŅŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ â Ð.Ð. ÐŅŅŅÐļÐŧÐūÐēŅО (ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīаÐēŅÐļО, ŅŅÐū ÂŦÐŋÐĩŅ ÐūŅа Ð―Ð°Ņа ÐūÐąŅŅаÐŧаŅŅ Ðē ОÐļŅÐ―ÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ŅаОÐūÐūКаÐŋŅÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐūŅÐēŅаŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū, ŅÐŋŅŅŅŅ ŅŅКаÐēаÂŧ) Ðļ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ÐŧÐĩÐđŅÐĩÐ―Ð°Ð―ŅÐūО Ð.Ð. ÐŅаÐģÐūОÐļŅÐūÐēŅО (ÐŋÐļŅаÐēŅÐļО, ŅŅÐū Ð·Ð°Ð―ŅŅÐļŅОÐļ ÐŋÐū ŅаОÐūÐūКаÐŋŅÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐēÐūÐđŅКа ÐŋÐĩŅÐĩÐī ÐēÐūÐđÐ―ÐūÐđ ÐžÐ°Ð―ÐšÐļŅÐūÐēаÐŧÐļ)4. ÐÐĩŅÐĩÐī Ð―Ð°ÐžÐļ ÐŧÐļŅÐ―ÐĩÐĩ ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐū ÐēŅŅÐūКÐūÐđ ÐīÐļŅŅÐļÐŋÐŧÐļÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ÐūŅŅÐļ КаÐīŅÐūÐēÐūÐđ ŅŅŅŅКÐūÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅŅ 1914 Ðģ.5 ÐОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐūÐ―Ð° ÐąŅÐŧа ÐŋŅÐļŅÐļÐ―ÐūÐđ ŅÐūÐģÐū, ŅŅÐū, ÐĩŅÐŧÐļ ŅÐķ (КаК ÐūŅОÐĩŅаÐŧ Ð.Ð. ÐŅаÐģÐūОÐļŅÐūÐē) Ð·Ð°Ð―ŅŅÐļŅ ÐŋÐū ŅаОÐūÐūКаÐŋŅÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅÐēÐūÐīÐļÐŧÐļŅŅ К ŅÐĩŅ Ð―ÐļКÐĩ ÐūŅŅŅÐēКÐļ ÐūКÐūÐŋа, ŅÐū ŅÐĩŅ Ð―ÐļКа ŅŅа ÐūКазŅÐēаÐŧаŅŅ ÐąÐĩзŅŅÐŧÐūÐēÐ―Ðū ÐūŅÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅÐūÐŧÐīаŅаОÐļ Ðļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧаŅŅ ÐļОÐļ ÐīаÐķÐĩ Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ Ð―Ð°ŅŅŅÐŋаŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐąÐūÐĩÐē! ÐÐūÐīÐūÐąÐ―ŅÐĩ ŅаКŅŅ заŅŅаÐēÐŧŅŅŅ ÐĩŅÐĩ ŅÐēŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐĩÐĩ ÐūŅÐūÐ·Ð―Ð°ŅŅ ŅÐūŅ ÐūÐŋÐūÐŧŅÐĩÐ―ŅÐĩŅКÐļÐđ Ņ аŅаКŅÐĩŅ, КÐūŅÐūŅŅÐđ ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐŧа ŅŅŅŅКаŅ аŅОÐļŅ Ðē 1915â1917 ÐģÐģ. â Ðē ŅŅÐļ ÐģÐūÐīŅ ÐūŅŅаÐŧÐļŅŅ ÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа ÐŋŅÐĩÐ―ÐĩÐąŅÐĩÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐūŅŅŅÐēКÐūÐđ Ðļ ÐūÐąÐūŅŅÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩО ÐūКÐūÐŋÐūÐē ÐīаÐķÐĩ Ðē ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ðĩ6.
Ð ÐēÐūŅ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐąÐ° аÐŧÐĩКŅÐĩÐĩÐēŅÐĩÐē (ÐļÐŧÐļ КŅÐĩОÐĩÐ―ŅŅÐķŅÐĩÐē) ÐĻаŅ Ņа Ð―Ðĩ ÐēÐŋÐĩŅаŅÐŧÐļÐŧа: ÂŦÐ ŅŅŅКÐļÐđ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐŧ, КаК ÐŋŅаÐēÐļÐŧÐū, ÐēŅŅÐūКÐū (allgemein hoch), ŅаК ŅŅÐū ÐŋŅÐŧÐļ, ÐēŅÐŋŅŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐŋŅаÐēÐļÐŧŅÐ―Ðū ÐŋÐū Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, ÐŋŅÐūÐŧÐĩŅаÐŧÐļ Ð―Ð°Ðī Ð―Ð°ÐžÐļÂŧ7. Ð ŅŅÐū ÐŋŅÐļ ŅÐūО, ŅŅÐū ÐēзÐēÐūÐī ÐĻаŅ Ņа ÐīÐēÐļÐģаÐŧŅŅ Ðē КаŅÐĩŅŅÐēÐĩ ŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐŋÐūÐīÐīÐĩŅÐķКÐļ Ðē 150â200 О за ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐūÐēÐūÐđ ŅÐĩÐŋŅŅ. ÐĶÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ ŅŅÐūÐģÐū ŅÐūÐūÐąŅÐĩÐ―ÐļŅ Ðē ŅÐūО, ŅŅÐū ÐŋÐĩŅÐĩÐī Ð―Ð°ÐžÐļ КÐūÐ―ÐšŅÐĩŅÐ―ŅÐđ ŅÐŋÐļзÐūÐī Ðļз ŅÐĩŅ , ŅŅÐū ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļÐŧÐļ ŅŅÐ°ÐąŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐūÐēаÐēŅÐĩÐđ Ðē ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐŅŅŅŅÐļÐļ 8-Ðđ аŅОÐļÐļ Ð―ÐĩОŅÐĩÐē заÐŋÐļŅаŅŅ Ðē ÐīаŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ 12 ÐūКŅŅÐąŅŅ 1914 Ðģ. ÂŦÐŅÐēÐūÐīаŅ Ðļз ÐūÐŋŅŅа ÐēÐūÐđÐ―Ņ ÐŋÐū ÐīÐ°Ð―Ð―ŅО 8-Ðđ ÐģÐĩŅÐžÐ°Ð―ŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļÂŧ: ÂŦÐ ŅŅŅКаŅ ÐŋÐĩŅ ÐūŅа ŅŅŅÐĩÐŧŅÐĩŅ ÐūŅÐĩÐ―Ņ ÐēŅŅÐūКÐūÂŧ8. Ð ŅÐļÐģŅŅÐļŅŅÐĩŅ Ðē ŅŅÐūО ŅÐŋÐļзÐūÐīÐĩ КаÐīŅÐūÐēаŅ ŅаŅŅŅ. ÐĄÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū, ÐīÐūÐēÐĩŅÐļÐĩ К ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ÐūОŅ ÐēŅÐēÐūÐīŅ â ÐļÐīŅŅÐĩОŅ ÐēŅазŅÐĩз Ņ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―Ðū ÐēŅŅÐūКÐūÐđ ÐūŅÐĩÐ―ÐšÐūÐđ ŅŅŅÐĩÐŧКÐūÐēÐūÐđ ÐēŅŅŅКÐļ ŅŅŅŅКÐūÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅŅ К аÐēÐģŅŅŅŅ 1914 Ðģ. â ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ðū ÐąŅŅŅ ÐŋÐūÐēŅŅÐĩÐ―Ðū.
ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū Ð―Ðĩ ŅÐŧÐĩÐīŅÐĩŅ Ðļ Ð°ÐąŅÐūÐŧŅŅÐļзÐļŅÐūÐēаŅŅ ŅŅÐūŅ ÐēŅÐēÐūÐī â Ðļ ÐūÐą ŅŅÐūО Ð―Ð°ÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ÐĩŅ Ð―Ðĩ ŅÐūÐŧŅКÐū заŅÐļКŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―Ð°Ņ ÐūÐąÐĩÐļОÐļ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ð°ÐžÐļ Ņ ÐūŅÐūŅаŅ ОÐĩŅКÐūŅŅŅ ÐūÐģÐ―Ņ ŅŅŅŅКÐūÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅŅ Ðē ÐŅÐžÐąÐļÐ―Ð―ÐĩÐ―ŅКÐūО ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ, Ð―Ðū Ðļ ŅÐūŅ ÐķÐĩ ÐīÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐĻаŅ Ņа â ÐŋŅÐļ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐļ ÐąÐūŅ 29 аÐēÐģŅŅŅа 1914 Ðģ. ÐŋÐūÐī ÐĻÐēÐĩÐīŅÐļŅ ÐūО. ÐĢ ŅŅÐūÐđ ÐīÐĩŅÐĩÐēÐ―Ðļ, Ðē ОÐĩÐķÐūзÐĩŅÐ―ÐūО ÐīÐĩŅÐļÐŧÐĩ, аŅŅÐĩŅÐģаŅÐī XIII аŅОÐĩÐđŅКÐūÐģÐū КÐūŅÐŋŅŅа ŅŅŅŅКÐļŅ â 2-Ðđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅÐđ ÐĄÐūŅÐļÐđŅКÐļÐđ ÐŋÐūÐŧК 1-Ðđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐīÐļÐēÐļзÐļÐļ â Ð―Ð° ŅÐĩÐŧŅÐđ ÐīÐĩÐ―Ņ заÐīÐĩŅÐķаÐŧ 5-Ņ ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―ŅŅ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅŅ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ Ð―ÐĩОŅÐĩÐē â ÐīÐēÐļÐ―ŅŅŅŅ ŅÐūÐ― ÐÐūŅÐģÐĩÐ―ÐūО ÐŋŅÐĩŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅŅ Ð―Ð°ŅаÐēŅÐļÐđ ÐūŅŅ ÐūÐī КÐūŅÐŋŅŅ. 2-Ðđ Ðļ 9-Ðđ ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―ŅÐĩ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅÐĩ ÐŋÐūÐŧКÐļ ÐŋÐūŅÐĩŅŅÐŧÐļ ŅаО ÐīÐū 550 ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩК, Ðē ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ ÐūКÐūÐŧÐū 200 ŅÐąÐļŅŅОÐļ, 316 ŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ŅОÐļ Ðļ 47 ÐŋŅÐūÐŋаÐēŅÐļОÐļ ÐąÐĩз ÐēÐĩŅŅÐļ9, ÐŋŅÐļŅÐĩО ÐēŅÐĩ ŅŅÐū ÐąŅÐŧÐļ ÐķÐĩŅŅÐēŅ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐūÐģÐ―Ņ. ÐĻаŅ Ņ Ð―Ðĩ ŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ÐĩŅ Ðū ŅŅŅÐĩÐŧŅÐąÐĩ ŅŅŅŅКÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ â Ņ ÐūŅŅ Ðē ÐīŅŅÐģÐļŅ ŅÐŧŅŅаŅŅ ÐēŅÐĩÐģÐīа ŅазÐŧÐļŅаÐĩŅ ÐūÐģÐūÐ―Ņ ÐŋÐĩŅ ÐūŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļÐđ â Ðļ ÐūŅОÐĩŅаÐĩŅ, ŅŅÐū ÐūŅÐąŅÐūŅÐļŅŅ ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐ―ÐļКа ŅÐīаÐŧÐūŅŅ ÐŧÐļŅŅ ÐąÐŧаÐģÐūÐīаŅŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ10. Ð ÐēÐĩÐīŅ ÐąŅÐīŅ Ņ ŅŅŅŅКÐļŅ ÐŋÐūÐī ÐĻÐēÐĩÐīŅÐļŅ ÐūО Ņ ÐūŅŅ ÐąŅ ÐŋÐūÐŧŅÐąÐ°ŅаŅÐĩŅ, ÐūÐ―Ð° Ð―Ð°ÐēÐĩŅÐ―ŅКа заŅŅаÐēÐļÐŧа ÐąŅ заОÐūÐŧŅаŅŅ ÐĩÐīÐļÐ―ŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐąÐ°ŅаŅÐĩŅ, ÐŋÐūÐīŅŅÐ―ŅŅŅŅ ŅŅÐīа Ð―ÐĩОŅаОÐļâĶ ÐĒÐū, ŅŅÐū ÐēÐļÐīÐĩÐŧ аÐēŅÐūŅ ÐīÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļКа, Ð―Ð°ÐģÐŧŅÐīÐ―Ðū ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīаÐĩŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ ÐūÐģÐ―Ņ ŅÐūŅÐļÐđŅÐĩÐē. ÐĒÐūÐŧŅКÐū Ð―Ð° ÐģÐŧазаŅ Ņ ÐĻаŅ Ņа ÐūÐīÐļÐ― за ÐīŅŅÐģÐļО ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐŧÐļ ŅŅÐķÐĩÐŧŅÐĩ ŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐ―ŅÐĩŅÐūŅÐļŅÐĩŅ ÐĩÐģÐū ŅÐūŅŅ ÐŅÐŧŅ (Ðē КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŋаÐŧÐļ КаК ОÐļÐ―ÐļОŅО ŅŅÐļ ÐŋŅÐŧÐļ), КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅ ÐļŅ 2-ÐģÐū ÐąÐ°ŅаÐŧŅÐūÐ―Ð° ОаÐđÐūŅ ÐĻÐēÐĩÐ―ÐšÐĩ, ŅÐ―ŅÐĩŅ-ÐūŅÐļŅÐĩŅ 9-Ðđ ŅÐūŅŅ 2-ÐģÐū ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―ÐūÐģÐū ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа (ÂŦŅаŅŅÐļ зÐīÐĩŅŅ зÐīÐūŅÐūÐēÐū ÐŋÐĩŅÐĩОÐĩŅаÐŧÐļŅŅÂŧ) ÐĻОÐļŅŅ Ðļ ŅŅÐīÐūÐēÐūÐđ ŅÐĩзÐĩŅÐēÐļŅŅ. Ð ŅŅÐū ÐŋŅÐļ ŅÐūО ŅŅÐū ÐŋÐĩŅÐĩÐąÐĩÐķКÐļ, КÐūŅÐūŅŅОÐļ Ð―Ð°ŅŅŅÐŋаÐŧÐļ ÐŋÐūОÐĩŅÐ°Ð―ŅŅ, Ð―Ðĩ ÐŋŅÐĩÐēŅŅаÐŧÐļ 15 ОÐĩŅŅÐūÐē11.
ÐĨÐūŅÐūŅаŅ ŅŅŅÐĩÐŧКÐūÐēаŅ ÐēŅŅŅКа ÐĄÐūŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа ŅÐĩО ÐŋÐūКазаŅÐĩÐŧŅÐ―ÐĩÐĩ, ŅŅÐū ÐūÐ― ŅÐēÐ―Ðū ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаÐŧ К ŅÐĩО КаÐīŅÐūÐēŅО ŅаŅŅŅО 1914 Ðģ., Ðē КÐūŅÐūŅŅŅ ÐŋŅÐūŅÐĩÐ―Ņ КаÐīŅÐūÐēŅŅ ŅÐūÐŧÐīаŅ ÐūКазаÐŧŅŅ ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ОÐūÐąÐļÐŧÐļзаŅÐļÐļ Ð―Ð°ÐļОÐĩÐ―ŅŅÐļО. ÐÐĩÐīŅ ÐīÐēа ÐīŅŅÐģÐļŅ ÐŋÐūÐŧКа 1-Ðđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐīÐļÐēÐļзÐļÐļ â 1-Ðđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅÐđ ÐÐĩÐēŅКÐļÐđ Ðļ 3-Ðđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅÐđ ÐаŅÐēŅКÐļÐđ â ÐūŅÐ―ÐūŅÐļÐŧÐļŅŅ ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū К ŅаКÐļО; 80 % ÐļŅ Ð―ÐļÐķÐ―ÐļŅ ŅÐļÐ―ÐūÐē ŅÐūŅŅаÐēÐļÐŧÐļ ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ОÐūÐąÐļÐŧÐļзаŅÐļÐļ ÐŋŅÐļзÐēÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ Ðļз заÐŋаŅа12. Ðз ÐēŅÐĩŅ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―ŅŅ Ð―Ð°Ðž Ņ ŅŅÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ÐŋÐūÐŧКÐūÐē ŅŅŅŅКÐūÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅŅ ŅаКÐūÐđ ÐķÐĩ ÐŋŅÐūŅÐĩÐ―Ņ заÐŋаŅÐ―ŅŅ ÐūКазаÐŧŅŅ ŅÐūÐģÐīа ÐĩŅÐĩ ŅÐūÐŧŅКÐū Ðē 122-О ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūО ÐĒÐ°ÐžÐąÐūÐēŅКÐūО; Ðē 170-О ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūО ÐÐūÐŧÐūÐīÐĩŅÐ―ÐĩÐ―ŅКÐūО ÐūÐ― Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧŅŅ Ðē ÐīÐļаÐŋазÐūÐ―Ðĩ ÐŋŅÐļОÐĩŅÐ―Ðū ÐūŅ 67 ÐīÐū 78 %, Ðē 13-О ÐŧÐĩÐđÐą-ÐģŅÐĩÐ―Ð°ÐīÐĩŅŅКÐūО ÐŅÐļÐēÐ°Ð―ŅКÐūО, 44-О ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūО ÐаОŅаŅŅКÐūО Ðļ 12-О ŅŅŅÐĩÐŧКÐūÐēÐūО ŅÐūŅŅаÐēÐļÐŧ ÐŋŅÐļОÐĩŅÐ―Ðū 58â64 %, Ðē 26-О ÐĄÐļÐąÐļŅŅКÐūО ŅŅŅÐĩÐŧКÐūÐēÐūО â ÐŋÐūŅŅÐīКа 50â60 %, а Ðē 5-О ÐģŅÐĩÐ―Ð°ÐīÐĩŅŅКÐūО ÐÐļÐĩÐēŅКÐūО, 46-О ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūО ÐÐ―ÐĩÐŋŅÐūÐēŅКÐūО Ðļ 159-О ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūО ÐŅŅÐļÐđŅКÐūО â ÐŋÐūŅŅÐīКа 50 %13.
ÐÐūОÐūÐģаŅ ŅŅÐūŅÐ―ÐļŅŅ Ð―Ð°ŅÐļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ðū ÐēŅŅŅКÐĩ ŅŅŅŅКÐūÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅŅ Ðē аÐēÐģŅŅŅÐĩ 1914 Ðģ., ÐīÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐĻаŅ Ņа ÐļОÐĩÐĩŅ ÐĩŅÐĩ ÐąÃģÐŧŅŅŅŅ ŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ ÐīÐŧŅ ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ ŅÐūÐēÐĩŅŅКÐū-ŅÐļÐ―ÐŧŅÐ―ÐīŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ 1939â1940 ÐģÐģ.: ÐūÐ― ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐĩŅ ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū ÐŋŅÐūŅŅÐ―ÐļŅŅ ÐēÐūÐŋŅÐūŅ Ðū ŅÐļÐ―ŅКÐļŅ ÂŦКŅКŅŅКаŅ Âŧ. ÐĄÐūÐēÐĩŅŅКÐļÐĩ ŅŅаŅŅÐ―ÐļКÐļ ÂŦзÐļÐžÐ―ÐĩÐđ ÐēÐūÐđÐ―ŅÂŧ ÐąŅÐŧÐļ Ð°ÐąŅÐūÐŧŅŅÐ―Ðū ŅÐąÐĩÐķÐīÐĩÐ―Ņ Ðē ŅÐūО, ŅŅÐū ŅŅÐļ ÂŦКŅКŅŅКÐļÂŧ â ŅÐ―Ð°ÐđÐŋÐĩŅŅ, ŅŅŅÐĩÐŧŅÐēŅÐļÐĩ Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐĩÐē â ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐŧÐļ Ðļ ŅÐļŅÐūКÐū ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ŅÐļÐ―Ð―Ð°ÐžÐļ. ÐĪŅÐūÐ―ŅÐūÐēÐļКÐļ Ð―Ðĩ Ņаз Ðē ÐīÐĩŅаÐŧŅŅ ŅаŅŅКазŅÐēаÐŧÐļ Ðū ŅÐūО, КаК ÐūÐ―Ðļ ÐŧÐļŅÐ―Ðū ÐēÐļÐīÐĩÐŧÐļ ÂŦКŅКŅŅКŅÂŧ Ðļ ŅаŅÐŋŅаÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ Ņ Ð―ÐĩÐđ. ÂŦÐÐ―Ðĩ ŅÐīаÐŧÐūŅŅ ÐŋŅÐļŅÐĩÐŧÐļŅŅŅŅ, â ÐēŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ðŧ, К ÐŋŅÐļОÐĩŅŅ, ÐąŅÐēŅÐļÐđ ÐąÐūÐĩŅ 17-ÐģÐū ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŧŅÐķÐ―ÐūÐģÐū ÐąÐ°ŅаÐŧŅÐūÐ―Ð° 9-Ðđ аŅОÐļÐļ ÐаÐēÐĩÐŧ ÐĻÐļÐŧÐūÐē, â Ðļ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļОÐļ ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧаОÐļ ŅÐąÐļŅŅ âКŅКŅŅКŅâ. ÐĪÐļÐ―Ð― ŅÐŋаÐŧ, ŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ŅÐđ, Ðļ, КÐūÐģÐīа ÐŋŅÐĩКŅаŅÐļÐŧŅŅ ÐūÐģÐūÐ―Ņ ŅÐ―Ð°ÐđÐŋÐĩŅÐūÐē, ОŅ ÐŋÐūÐīÐūŅÐŧÐļ К Ð―ÐĩОŅ. ÐÐīÐļÐ― Ðļз Ð―Ð°ŅÐļŅ заКÐūÐŧÐūÐŧ ŅÐļÐ―Ð―Ð° ŅŅŅКÐūО. ÐŊ Ðļ ÐīŅŅÐģÐļÐĩ ÐŋÐūŅŅÐģаÐŧÐļ ÐĩÐģÐū за ÐķÐĩŅŅÐūКÐūŅŅŅÂŧ14. ÐĪÐļÐ―ŅКŅŅ ÐķÐĩ ŅÐūŅКŅ зŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐļŅŅÐĩŅÐŋŅÐēаŅŅÐĩ ÐēŅŅазÐļÐŧ Ð. ÐÐ°Ð―Ð―ÐļÐ―ÐĩÐ―: ÂŦŅÐļÐ―Ð―Ð°Ðž Ð―ÐĩÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū Ðū ŅаКÐūО ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐĩ ÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐđÐ―ŅÂŧ, ŅŅÐū ÂŦŅŅŅÐūÐđŅÐļÐēÐū ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ŅŅŅаŅŅŅ ÐēŅÐīŅОКаÂŧ, ОÐūÐģÐŧÐļ ÐąŅŅŅ ÐŧÐļŅŅ ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅÐŧŅŅаÐļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐĩÐē Ðē КаŅÐĩŅŅÐēÐĩ ŅŅŅÐĩÐŧКÐūÐēŅŅ ÐŋÐūзÐļŅÐļÐđ15. ÐÐĩÐīŅ ŅŅŅÐĩÐŧÐūК, ÐēÐĩÐīŅŅÐļÐđ ÐūÐģÐūÐ―Ņ Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēа, ÐŧÐļŅÐĩÐ― ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ŅÐēÐūÐĩÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐūŅŅŅŅÐŋÐļŅŅ Ðļ Ðē ŅÐŧŅŅаÐĩ ÐūŅŅ ÐūÐīа ŅÐēÐūÐļŅ ÐūÐąŅÐĩŅÐĩÐ― Ð―Ð° ÐģÐļÐąÐĩÐŧŅ ÐļÐŧÐļ ÐŋÐŧÐĩÐ―.
ÐŅÐūŅ ÐŋаŅаÐīÐūКŅ ŅÐĩО заÐģаÐīÐūŅÐ―ÐĩÐĩ, ŅŅÐū ÐūÐ― ÐļОÐĩÐŧ ОÐĩŅŅÐū Ðļ Ðē ÐÐĩÐŧÐļКŅŅ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐēÐūÐđÐ―Ņ. Ð ÐēÐūŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļŅŅ ŅÐūÐēÐĩŅŅКÐļŅ ŅŅаŅŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐąÐūÐĩÐē Ð―Ð° ÐÐĩÐ―ÐļÐ―ÐģŅаÐīŅКÐūО Ðļ ÐÐūÐŧŅ ÐūÐēŅКÐūО ŅŅÐūÐ―ŅаŅ Ð―ÐĩОаÐŧÐū Ðļ ÐŋŅÐūŅŅÐū ŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļÐđ Ðū Ð―ÐĩОÐĩŅКÐļŅ ÂŦКŅКŅŅКаŅ Âŧ, Ðļ ÐīÐĩŅаÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐūÐūÐąŅÐĩÐ―ÐļÐđ Ðū ŅÐūО, КаК ŅаŅŅКазŅÐļК ÐēÐļÐīÐĩÐŧ ÂŦКŅКŅŅКŅÂŧ ŅÐēÐūÐļОÐļ ÐģÐŧазаОÐļ. ÐĒаК, ÐŋÐū ŅÐŧÐūÐēаО Ð.Ð. ÐÐļКŅÐŧÐļÐ―Ð°, Ðē ОаŅŅÐĩ 1942 Ðģ. ÐūÐ―, ÐąÐūÐĩŅ ÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū Ðļз аŅŅÐŋÐūÐŧКÐūÐē 54-Ðđ аŅОÐļÐļ ÐÐĩÐ―ÐļÐ―ÐģŅаÐīŅКÐūÐģÐū ŅŅÐūÐ―Ņа, Ņ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ ÐÐūÐģÐūŅŅŅÐĩ (ŅÐģÐū-ÐēÐūŅŅÐūŅÐ―ÐĩÐĩ ÐÐģÐļ) ŅŅаÐŧ ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧÐĩО ŅÐūÐģÐū, КаК ÂŦŅÐēÐĩŅŅ Ņ ÐŋÐūŅŅÐŋаÐŧŅŅ ŅÐ―ÐĩÐģ Ðļ ŅŅÐķÐĩÐŧÐū ÐēŅÐēаÐŧÐļÐŧŅŅ Ðļз ÐēÐĩŅÐēÐĩÐđ зÐīÐūŅÐūÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ð―ÐĩОÐĩŅ Ðē зÐĩÐŧÐĩÐ―ÐūÐđ ŅÐļÐ―ÐĩÐŧÐļ Ðļ Ð―Ð°ŅŅÐ―ŅŅÐūÐđ Ð―Ð° ŅŅÐļ ÐŋÐļÐŧÐūŅКÐĩ. [âĶ] ÐÐģÐū ÐŋÐūŅаÐīÐļÐŧÐļ Ð―Ð° ÐīÐĩŅÐĩÐēÐū ÐīÐ―Ņ ÐīÐēа Ð―Ð°Ð·Ð°Ðī Ðē КаŅÐĩŅŅÐēÐĩ âКŅКŅŅКÐļâ, ÐŋŅÐļКазаÐē ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅ Ðē Ð―Ð°ŅŅŅÐŋаŅŅÐļŅ ŅŅŅŅКÐļŅ . ÐÐū ŅŅÐūÐ―Ņ ÐŋŅÐūŅÐĩÐŧ ÐēÐŋÐĩŅÐĩÐī, Ðļ ÐŋŅÐļŅÐŧÐūŅŅ ŅÐīаÐēаŅŅŅŅÂŧ16. ÐÐĩÐķÐīŅ ŅÐĩО Ðē ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―ÐūО ŅаŅŅКазÐĩ Ð―ÐĩОÐĩŅКÐūÐģÐū ÐļŅŅÐūŅÐļКа ÐĨ.Ð. ÐĄŅаŅ ÐūÐēа Ðū ŅаКŅÐļКÐĩ Ð―ÐĩОÐĩŅКÐļŅ ŅÐ―Ð°ÐđÐŋÐĩŅÐūÐē, ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐūÐēаÐēŅÐļŅ ÐŋÐūÐī ÐÐģÐūÐđ Ðļ ÐĄÐļÐ―ŅÐēÐļÐ―ÐūО â КаК Ņаз ŅаО, ÐģÐīÐĩ ŅÐūÐēÐĩŅŅКÐļÐĩ ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐēÐļКÐļ, ÐŋÐū ÐļŅ ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅО, Ð―Ðĩ Ņаз ŅŅаÐŧКÐļÐēаÐŧÐļŅŅ Ņ ÂŦКŅКŅŅКаОÐļÂŧ â Ð―ÐĩŅ ÐīаÐķÐĩ Ð―Ð°ÐžÐĩКа Ð―Ð° ŅŅŅÐĩÐŧŅÐąŅ Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐĩÐē17. ÐÐļ ŅÐŧÐūÐēÐūО Ð―Ðĩ ŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ÐĩŅ Ðū ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ÐūÐđ ŅаКŅÐļКÐĩ Ð―ÐĩОÐĩŅКÐļŅ ŅÐ―Ð°ÐđÐŋÐĩŅÐūÐē Ðļ аÐēŅÐūŅ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―ÐūÐģÐū ŅŅŅÐīа Ðū ŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūО ÐūÐŋŅŅÐĩ ŅÐūÐēÐĩŅŅКÐū-ÐģÐĩŅÐžÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ŅŅÐūÐ―Ņа Ð. ÐÐļÐīÐīÐĩÐŧŅÐīÐūŅŅ, ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―Ðū ŅÐ°Ð·ÐąÐļŅаŅŅÐļÐđ Ðē ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ Ðļ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐūÐąÐĩÐļОÐļ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ð°ÐžÐļ ÐąÐūÐĩÐē Ðē ÐŧÐĩŅŅ18.
Ðз ÐīÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļКа ÐŅŅÐū ÐĻаŅ Ņа ŅÐēŅŅÐēŅÐĩŅ, ŅŅÐū Ðē ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ÂŦКŅКŅŅÐĩКÂŧ ÐąŅÐŧÐļ ŅÐąÐĩÐķÐīÐĩÐ―Ņ Ðļ ÐžÐ―ÐūÐģÐļÐĩ Ð―ÐĩОÐĩŅКÐļÐĩ ŅŅаŅŅÐ―ÐļКÐļ ÐĒÐ°Ð―Ð―ÐĩÐ―ÐąÐĩŅÐģŅКÐūÐģÐū ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ. ÐÐīÐļÐ― ŅÐŧŅŅаÐđ ŅŅÐūÐŧÐšÐ―ÐūÐēÐĩÐ―ÐļŅ ÐļŅ Ņ ÂŦКŅКŅŅКаОÐļÂŧ Ðē Ð―ÐĩОÐĩŅКÐūÐđ ÐŧÐļŅÐĩŅаŅŅŅÐĩ ÐąŅÐŧ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð― ÐĩŅÐĩ Ðē 1920-Ņ : ÐŋÐū ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐļÐ―ÐūÐē 3-ÐģÐū ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―ÐūÐģÐū ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа 1-Ðđ ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―ÐūÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐīÐļÐēÐļзÐļÐļ, Ðē ÐąÐūŅ 28 аÐēÐģŅŅŅа 1914 Ðģ. Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēÐ―Ðļ ÐĶаŅÐīŅÐūŅ (ŅÐķÐ―ÐĩÐĩ ÐÐŧÐŧÐĩÐ―ŅŅÐĩÐđÐ―Ð°) Ņ ÐŋŅÐļКŅŅÐēаÐēŅÐĩÐđ ÐūÐąÐūз ŅŅŅŅКÐūÐģÐū XIII КÐūŅÐŋŅŅа 13-Ðđ ŅÐūŅÐūÐđ 1-ÐģÐū ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐÐĩÐēŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа ŅŅŅŅКÐļÐĩ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐŧÐļ Ðē ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ Ðļ Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐĩÐē ÐÐŧÐŧÐĩÐ―ŅŅÐĩÐđÐ―ŅКÐūÐģÐū ОŅÐ―ÐļŅÐļÐŋаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŧÐĩŅа19. ÐĻаŅ Ņ ÐķÐĩ ŅÐūÐūÐąŅаÐĩŅ Ðū ŅÐĩÐŧÐūО ŅŅÐīÐĩ ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ŅŅ ŅÐŧŅŅаÐĩÐē. ÐÐūÐģÐīа ÐēÐū ÐēŅÐūŅÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ðĩ ÐīÐ―Ņ 28 аÐēÐģŅŅŅа 5-Ņ ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―Ð°Ņ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―Ð°Ņ ÐąŅÐļÐģаÐīа ÐīÐēÐļÐģаÐŧаŅŅ за ÐūŅŅ ÐūÐīÐļÐēŅÐļО ÐūŅ ÐŅŅÐąÐ―ÐļŅа Ðļ ÐŅÐŧÐĩÐ―Ð° XV КÐūŅÐŋŅŅÐūО ŅŅŅŅКÐļŅ ÐŋÐū ŅÐūŅŅÐĩ ÐаŅÐŧŅŅÐģŅŅ â ÐŅÐ―Ņ ÐĩÐ―ÐģŅŅ, ÐŋÐū ŅŅÐūŅÐūÐ―Ð°Ðž ÐŧÐĩÐķаÐŧÐļ ŅŅŅÐŋŅ ŅŅŅŅКÐļŅ â Ðļ Ðē ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ ÂŦŅÐąÐļŅŅŅ ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧаОÐļ Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐĩÐēÂŧ20 (КÐūŅÐūŅŅОÐļ ÐąŅÐŧÐū ÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ðū ŅÐūŅŅÐĩ). Ð Ðē ÐąÐūŅ 29 аÐēÐģŅŅŅа Ņ ÐĻÐēÐĩÐīŅÐļŅ а, Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ аŅаКÐļ ÐŋÐĩŅÐĩОÐĩŅаÐēŅÐļŅ ŅŅ ÐŋÐūÐīŅазÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ Ð―Ð° ÐīÐĩŅÐĩÐēÐ―Ņ ÐĻÐēÐĩÐīŅÐļŅ , ŅÐ―ŅÐĩŅ-ÐūŅÐļŅÐĩŅ ÐŅÐŧŅ, ÐŋÐļŅÐĩŅ ÐĻаŅ Ņ, ÂŦÐŋÐūÐīŅŅŅÐĩÐŧÐļÐŧ 5 ŅŅŅŅКÐļŅ Ð―Ð° ÐīÐĩŅÐĩÐēŅŅŅ Ņ ŅÐĩŅКÐļ, КÐūŅÐūŅŅŅ ОŅ ÐŋÐĩŅÐĩŅÐŧÐļ ÐēÐąŅÐūÐīÂŧ21. ÐÐūŅКÐūÐŧŅКŅ ÐŅÐŧŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧŅŅ ŅŅÐīÐūО ÐļÐŧÐļ, ÐŋÐū КŅаÐđÐ―ÐĩÐđ ОÐĩŅÐĩ, Ðē ÐŋÐūÐŧÐĩ зŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐĻаŅ Ņа (ŅÐūŅ, Ðē ŅаŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, ÐēÐļÐīÐĩÐŧ, КаК Ðļ КŅÐīа ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐŅÐŧŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐŧÐū), ОÐūÐķÐ―Ðū заКÐŧŅŅÐļŅŅ, ŅŅÐū аÐēŅÐūŅ ÐīÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļКа ÐŧÐļŅÐ―Ðū Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаÐŧ ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅŅ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐąŅ ÐŋÐū ÂŦКŅКŅŅКаОÂŧ.
ÐĄÐūÐūÐąŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐĻаŅ Ņа â ŅКазŅÐēаŅŅÐļÐĩ Ð―Ð° ŅÐļŅÐūКŅŅ ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ ÂŦКŅКŅŅКÐūÐąÐūŅÐ·Ð―ÐļÂŧ ŅŅÐĩÐīÐļ Ð―ÐĩОÐĩŅКÐļŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðē ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐŅŅŅŅÐļÐļ Ðē аÐēÐģŅŅŅÐĩ 1914 Ðģ. â ŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ, Ð―Ð° Ð―Ð°Ņ ÐēзÐģÐŧŅÐī, ÐŧÐļŅÐ―ÐļО ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩО ŅÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū ÐūŅÐēÐĩŅа Ð―Ð° ÐēÐūÐŋŅÐūŅ Ðū ÂŦКŅКŅŅКаŅ Âŧ ÂŦзÐļÐžÐ―ÐĩÐđ ÐēÐūÐđÐ―ŅÂŧ (Ðļ ОÐūÐŧŅаÐŧÐļÐēÐūÐģÐū Ð―ÐĩОÐĩŅКÐūÐģÐū ÐūŅÐēÐĩŅа Ð―Ð° ÐēÐūÐŋŅÐūŅ Ðū Ð―ÐĩОÐĩŅКÐļŅ ÂŦКŅКŅŅКаŅ Âŧ Ðē ÐÐĩÐŧÐļКŅŅ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ): Ð―ÐļКаКÐļŅ ÂŦКŅКŅŅÐĩКÂŧ Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐū. ÐÐļ ŅŅŅаÐēаОÐļ, Ð―Ðļ Ð―Ð°ŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅОÐļ, ÐŋÐū КÐūŅÐūŅŅО ÐūÐąŅŅаÐŧаŅŅ Ðē 1914 Ðģ. ŅŅŅŅКаŅ ÐŋÐĩŅ ÐūŅа, â Ðļ КÐūŅÐūŅŅОÐļ ÐūÐ―Ð°, ÐĩŅŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū, ŅŅКÐūÐēÐūÐīŅŅÐēÐūÐēаÐŧаŅŅ Ðē ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐąÐūŅŅ 1914-ÐģÐū â ŅаКÐūÐđ ŅÐŋÐūŅÐūÐą ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐđ Ð―Ðĩ ÐŋŅÐĩÐīŅŅОаŅŅÐļÐēаÐŧŅŅ; Ð―Ðĩ ÐŋÐūÐīŅКазŅÐēаÐŧŅŅ ÐūÐ― Ðļ ÐūÐŋŅŅÐūО ŅŅŅŅКÐū-ŅÐŋÐūÐ―ŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ. ÐÐūŅŅÐūОŅ, ÐĩŅÐŧÐļ ŅÐķ ÐīаÐķÐĩ ŅÐļÐ―Ð―Ņ â ŅŅÐģÐūŅÐĩÐēŅÐļÐĩ Ðē ÂŦзÐļÐžÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđÐ―ŅÂŧ К ÐŋÐūÐŧŅÐŋаŅŅÐļÐ·Ð°Ð―ŅКÐūÐđ ŅаКŅÐļКÐĩ Ðļ ÐīÐĩÐŧаÐēŅÐļÐĩ ŅŅаÐēКŅ Ð―Ð° ÐūÐīÐļÐ―ÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐąÐūÐđŅа â ÐūŅŅÐļŅаŅŅ ŅаОŅ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐļОÐļ ÂŦКŅКŅŅÐĩКÂŧ, ŅÐū Ðē ŅÐŧŅŅаÐĩ Ņ ŅŅŅŅКÐūÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐūÐđ аÐēÐģŅŅŅа 1914-ÐģÐū ÐēÐūÐŋŅÐūŅ ÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ― ŅÐĩŅаŅŅŅŅ ÐūÐīÐ―ÐūÐ·Ð―Ð°ŅÐ―Ðū: ÐūÐ―Ð° ÂŦКŅКŅŅÐĩКÂŧ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅŅŅ Ð―Ðĩ ОÐūÐģÐŧа Ðļ Ð―Ðĩ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅÐŧа. Ð ŅÐēÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ ÐžÐ―ÐūÐģÐļŅ Ð―ÐĩОŅÐĩÐē Ðē ŅÐūО, ŅŅÐū ÐūÐ―Ðļ ÐēÐļÐīÐĩÐŧÐļ ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅŅŅ ÐļÐŧÐļ ÐŋаÐīаŅŅŅŅ Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēа ŅŅŅŅКŅŅ ÂŦКŅКŅŅКŅÂŧ, ÐūÐ·Ð―Ð°ŅаÐĩŅ ÐŧÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐūÐ―Ðļ ÐŋŅÐļÐ―ŅÐŧÐļ за Ð―ÐĩÐĩ ŅŅÐū-ÐŧÐļÐąÐū ÐīŅŅÐģÐūÐĩ ÐļÐŧÐļ ÐēÐūÐūÐąŅÐĩ ŅŅаÐŧÐļ ÐķÐĩŅŅÐēаОÐļ ÐģаÐŧÐŧŅŅÐļÐ―Ð°ŅÐļÐđ. ÐŅ, а ÐĩŅÐŧÐļ ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ÐūÐĩ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―Ðū, ŅÐū ÐūÐ―Ðū ОÐūÐģÐŧÐū ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļŅŅ â Ðļ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļÐŧÐū â Ðļ Ņ ŅÐūÐēÐĩŅŅКÐļОÐļ ŅŅаŅŅÐ―ÐļКаОÐļ ÂŦзÐļÐžÐ―ÐĩÐđÂŧ Ðļ ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―, ŅаŅŅКазŅÐēаÐēŅÐļОÐļ ÐŋÐūŅÐūО Ðū ŅÐļÐ―ŅКÐļŅ Ðļ Ð―ÐĩОÐĩŅКÐļŅ ÂŦКŅКŅŅКаŅ Âŧ.
ÐŅÐūÐąÐŧÐĩОа, ŅаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, ŅÐēÐūÐīÐļŅŅŅ К ÐīŅŅÐģÐūÐđ: ÐīÐūКазаŅŅ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ŅŅ ÐģаÐŧÐŧŅŅÐļÐ―Ð°ŅÐļÐđ Ðļ ÐūÐąŅŅŅÐ―ÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐŋŅÐļÐ―ÐļОаÐŧÐļ за ÂŦКŅКŅŅÐĩКÂŧ (ÐļÐŧÐļ за ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐļ ÐļŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐđ) ŅÐĩ, КŅÐū ÐģаÐŧÐŧŅŅÐļÐ―Ð°ŅÐļÐđ Ð―Ðĩ ÐļŅÐŋŅŅŅÐēаÐŧ, Ð―Ðū ÐąŅÐŧ ŅÐĩО Ð―Ðĩ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ ŅÐąÐĩÐķÐīÐĩÐ―, ŅŅÐū ÐēÐļÐīÐĩÐŧ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐēŅÐļŅ Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐĩÐē ŅÐ―Ð°ÐđÐŋÐĩŅÐūÐē (ÐļÐŧÐļ ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅŅ ÐļŅ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐąŅ).
ÐÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ ÐēÐūÐ·Ð―ÐļÐšÐ―ÐūÐēÐĩÐ―ÐļŅ Ðē ÐąÐūÐĩÐēÐūÐđ ÐūÐąŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКÐĩ ÐģаÐŧÐŧŅŅÐļÐ―Ð°ŅÐļÐđ ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ŅÐūÐīа ÐēÐļÐīÐ―Ð° Ņ ÐūŅŅ ÐąŅ Ðļз ÐūÐŋŅŅа ŅÐūÐģÐū ÐķÐĩ ÐĒÐ°Ð―Ð―ÐĩÐ―ÐąÐĩŅÐģŅКÐūÐģÐū ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ. ÐĒаК, КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐūÐēаÐēŅÐļÐđ ŅÐūÐģÐīа XIII аŅОÐĩÐđŅКÐļО КÐūŅÐŋŅŅÐūО ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ÐŧÐĩÐđŅÐĩÐ―Ð°Ð―Ņ Ð.Ð. ÐÐŧŅÐĩÐē ÐēŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ðŧ Ðū ÐŋÐūŅŅŅÐļКÐĩ, КÐūŅÐūŅŅÐđ Ð―Ð° ÐĩÐģÐū, ÐÐŧŅÐĩÐēа, ÐģÐŧазаŅ ÐŋŅÐļКазаÐŧ ÐūŅКŅŅŅŅ ÐūÐģÐūÐ―Ņ ÐŋÐū ŅŅŅŅКÐūОŅ ŅŅÐ°ÐąÐ―ÐūОŅ ÐūŅÐļŅÐĩŅŅ Ðļ ŅÐēÐĩŅŅÐŧ ÐŋÐūŅÐūО, ŅŅÐū ŅŅÐū ÐąŅÐŧâĶ ŅКаКаÐēŅÐļÐđ Ðē ÐūÐąÐŧаКÐĩ ÐŋŅÐŧÐļ Ð―ÐĩОÐĩŅКÐļÐđ ŅазŅÐĩзÐī. Ð Ð―Ð°Ðī ÐīÐūŅÐūÐģÐūÐđ, ÐŋÐūÐīŅÐĩŅКÐļÐēаÐŧ ÐÐŧŅÐĩÐē, Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐū Ð―Ðļ ÐŋŅÐŧÐļÐ―ÐšÐļ! ÐÐūÐīÐūÐąÐ―ŅÐĩ ÐģаÐŧÐŧŅŅÐļÐ―Ð°ŅÐļÐļ (ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐģаÐŧÐŧŅŅÐļÐ―Ð°ŅÐļÐļ, а Ð―Ðĩ ÐŋÐūÐģŅÐĩŅÐ―ÐūŅŅÐļ Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīÐĩÐ―ÐļŅ) ОÐūÐģÐŧÐļ ÐąŅŅŅ Ð―Ðĩ ÐĩÐīÐļÐ―ÐļŅÐ―ŅОÐļ: ÂŦКŅÐīа Ð―Ðļ ÐŋÐūŅÐŧÐĩŅŅ ŅŅÐ°ÐąÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅÐļŅÐĩŅаÂŧ, ŅÐūКŅŅŅаÐŧŅŅ, ÐēŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ņ ŅÐĩ ÐīÐ―Ðļ, ÐÐŧŅÐĩÐē, ÐŋÐū Ð―ÐĩОŅ ÂŦÐŋаÐŧŅŅÂŧ ŅÐēÐūÐļ22âĶ ÐÐūŅ КаКÐūÐēŅ ОÐūÐģÐŧÐļ ÐąŅŅŅ ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅŅ Ð―ÐĩŅÐēÐ―ÐūÐģÐū Ð―Ð°ÐŋŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ, ÐļŅÐŋŅŅŅÐēаÐĩОÐūÐģÐū Ð―ÐĩÐūÐąŅŅŅÐĩÐŧŅÐ―Ð―ŅОÐļ ÐŧŅÐīŅОÐļ.
ÐĢÐąÐĩÐķÐīÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩКа Ðē ŅÐūО, ŅŅÐū ÐūÐ― ÐąŅÐŧ ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧÐĩО ŅÐ°ÐąÐūŅŅ ÂŦКŅКŅŅÐĩКÂŧ, ОÐūÐģÐŧа ÐūÐąŅŅŅÐ―ŅŅŅŅŅ Ðļ Ð―Ðĩ ÐģаÐŧÐŧŅŅÐļÐ―Ð°ŅÐļŅОÐļ, а Ð―ÐĩÐŋŅÐļÐēŅŅÐ―ŅОÐļ ÐīÐŧŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēа зÐēŅКÐūÐēŅОÐļ ŅŅŅÐĩКŅаОÐļ, ÐēÐūÐ·Ð―ÐļКаŅŅÐļОÐļ Ðē ÐŧÐĩŅŅ. ÐĒаК, ŅÐļÐ―Ð―Ð°ÐžÐļ ÂŦÐēŅŅКазŅÐēаÐŧÐūŅŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ, ŅŅÐū Ðē ÐŧÐĩŅŅ зÐēŅК ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧа Ðļз ÐēÐļÐ―ŅÐūÐēКÐļ ОÐūÐķÐĩŅ ÐēŅзÐēаŅŅ ŅŅŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐļÐŧÐŧŅзÐļŅ, ŅŅÐū ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅ Ņ ŅÐĩÐąŅ за ŅÐŋÐļÐ―ÐūÐđ. Ð ÐĩŅÐŧÐļ ŅŅŅÐĩÐŧКа Ð―Ðĩ ÐēÐļÐīÐĩÐŧÐļ, ÐĩŅŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ, ŅŅÐū ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅ Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēаÂŧ23. РаÐēÐģŅŅŅÐĩ 1941 Ðģ. Ð―Ð° ŅÐū, ŅŅÐū ÂŦÐīÐēÐĩ ÐŧÐĩŅÐ―ŅÐĩ ÐŋÐūÐŧÐūŅŅ ÐļŅКаÐķаŅŅ зÐēŅКÐļ ÐŋŅÐŧÐĩОÐĩŅÐ―ŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīÐĩÐđ Ðļ ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧÐūÐēÂŧ Ðļ ÂŦŅŅ Ðū ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧа ÐūŅÐīаÐĩŅŅŅ Ðē Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļŅ ОÐĩŅŅаŅ Âŧ, ÐūÐąŅаŅÐļÐŧ ÐēÐ―ÐļÐžÐ°Ð―ÐļÐĩ Ðļ ÐŧÐĩÐđŅÐĩÐ―Ð°Ð―Ņ 956-ÐģÐū ŅŅŅÐĩÐŧКÐūÐēÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа 299-Ðđ ŅŅŅÐĩÐŧКÐūÐēÐūÐđ ÐīÐļÐēÐļзÐļÐļ Ð.ÐĄ. ÐĒŅŅÐūÐē24. Ð ÐŋÐūŅŅŅÐļК 4-Ðđ ÐĪÐļÐ―ÐŧŅÐ―ÐīŅКÐūÐđ ŅŅŅÐĩÐŧКÐūÐēÐūÐđ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ ÐŊ. ÐÐĩОŅŅÐ―ÐĩÐ―ÐšÐū ÐūŅÐĩÐ―ŅŅ 1914 Ðģ. заОÐĩŅÐļÐŧ, ŅŅÐū ÐŋŅÐŧŅ, ÐŋŅÐūÐąÐļÐēŅаŅ ŅŅÐēÐūÐŧ ÐīÐĩŅÐĩÐēа, ÐēŅÐŧÐĩŅаÐĩŅ Ðļз Ð―ÐĩÐģÐū ŅÐū зÐēŅКÐūО, ÐļÐīÐĩÐ―ŅÐļŅÐ―ŅО зÐēŅКŅ ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧа25. ÐŅÐū ŅаКÐķÐĩ ОÐūÐģÐŧÐū ŅÐūзÐīаŅŅ ÐēÐŋÐĩŅаŅÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐąŅ Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēа.
ÐÐūÐī ÐĶаŅÐīŅÐūŅÐūО Ðļ Ð―Ð° ŅÐūŅŅÐĩ ÐаŅÐŧŅŅÐģŅŅ â ÐŅÐ―Ņ ÐĩÐ―ÐģŅŅ 28 аÐēÐģŅŅŅа 1914 Ðģ. ÐīÐĩÐŧÐū ОÐūÐģÐŧÐū ÐūÐąŅŅÐūŅŅŅ ÐĩŅÐĩ ÐŋŅÐūŅÐĩ: ÐēÐļÐīŅ, КаК ÐūÐīÐļÐ― за ÐīŅŅÐģÐļО ÐŋаÐīаŅŅ ÐļŅ ŅÐūÐēаŅÐļŅÐļ, Ð―Ðū Ð―Ðĩ ÐēÐļÐīŅ, ÐūŅКŅÐīа ÐŧÐĩŅŅŅ ÐŋŅÐŧÐļ, ŅÐūÐŧÐīаŅŅ ŅÐūÐēÐĩŅŅÐĩÐ―Ð―Ðū ÐĩŅŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū ОÐūÐģÐŧÐļ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ, ŅŅÐū ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅ Ņ ŅаŅŅŅŅÐļŅ ÐŋÐūÐąÐŧÐļзÐūŅŅÐļ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐĩÐē: ÐēÐĩÐīŅ ÐļŅ ÐŧÐļŅŅÐēа ÐēÐŋÐūÐŧÐ―Ðĩ ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ―Ð° ŅКŅŅŅŅ ŅŅŅÐĩÐŧКа. ÐĒаК ÐķÐĩ, ÐŋÐū-ÐēÐļÐīÐļОÐūОŅ, ÐēÐūÐ·Ð―ÐļК Ðļ ÂŦÐŋŅÐļŅ Ðūз ŅŅŅÐĩÐŧКÐūÐē Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēаÂŧ, ÐūŅ ÐēаŅÐļÐēŅÐļÐđ 22 Ðļ 23 ÐļŅÐ―Ņ 1941 Ðģ. ŅÐūÐŧÐīаŅ 45-Ðđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐīÐļÐēÐļзÐļÐļ ÐēÐĩŅОаŅ Ņа Ð―Ð° ÐаÐŋаÐīÐ―ÐūО ÐūŅŅŅÐūÐēÐĩ (ÐĒÐĩŅÐĩŅÐŋÐūÐŧŅŅКÐūО ŅКŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ) ÐŅÐĩŅŅŅКÐūÐđ КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐļ. ÐĪÐĩÐŧŅÐīŅÐĩÐąÐĩÐŧŅ 133-ÐģÐū ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа Ð. ÐÐūзÐĩŅŅ (КаК ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīаÐŧ ÐēÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐļ) Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ КÐūÐ―ŅÐūÐē ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļÐŧ ŅÐūÐģÐīа, ŅŅÐū ÐūÐģÐūÐ―Ņ, ÐŋŅÐļÐŋÐļŅŅÐēаÐĩОŅÐđ ŅÐūÐēÐĩŅŅКÐļО ÂŦКŅКŅŅКаОÂŧ, ÐēÐĩÐŧÐļ ŅаОÐļ ÐķÐĩ Ð―ÐĩОŅŅ â ÐūÐąŅŅŅÐĩÐŧÐļÐēаÐēŅÐļÐĩ ÐēŅÐĩ ÐŋÐūÐīÐūзŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐūÐąŅÐĩКŅŅ26âĶ Ð ŅÐēÐūŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ, ŅÐąÐĩÐķÐīÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ Ðē ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ÂŦКŅКŅŅÐĩКÂŧ, ÐēÐūÐ·Ð―ÐļКŅаŅ Ņ ÐŅŅÐū ÐĻаŅ Ņа Ðļ ŅÐ―ŅÐĩŅ-ÐūŅÐļŅÐĩŅа ÐŅÐŧŅ Ð―Ð° ŅÐūŅŅÐĩ ÐаŅÐŧŅŅÐģŅŅ â ÐŅÐ―Ņ ÐĩÐ―ÐģŅŅ, ÐŋŅÐļ ÐēÐļÐīÐĩ ŅŅŅÐŋÐūÐē, ŅКÐūÐąŅ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаÐēŅÐļŅ ÂŦКŅКŅŅКаОÂŧ, Ð―Ð° ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļÐđ ÐīÐĩÐ―Ņ, Ðē Ð―Ð°ÐŋŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ÐĩÐđŅÐĩÐđ ÐūÐąŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКÐĩ ÐąÐūŅ ÐŋÐūÐī ÐĻÐēÐĩÐīŅÐļŅ ÐūО, ÐŋÐūŅÐŋÐūŅÐūÐąŅŅÐēÐūÐēаÐŧа, ÐēÐļÐīÐļОÐū, ÐēÐūÐ·Ð―ÐļÐšÐ―ÐūÐēÐĩÐ―ÐļŅ Ņ Ð―ÐļŅ ÐģаÐŧÐŧŅŅÐļÐ―Ð°ŅÐļÐđ â КÐūÐģÐīа ÐūÐīÐļÐ― ÂŦŅÐēÐļÐīÐĩÐŧÂŧ заŅÐĩÐēŅÐļŅ Ð―Ð° ÐīÐĩŅÐĩÐēŅŅŅ ŅŅŅŅКÐļŅ , а ÐīŅŅÐģÐūÐđ â КаК ŅŅÐļ ÂŦКŅКŅŅКÐļÂŧ ÐŋаÐīаŅŅ ÐŋÐūÐīŅŅŅÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ.
ÐÐĩ ÐļŅКÐŧŅŅÐĩÐ―Ðū, ŅŅÐū ÐķÐĩŅŅÐēÐūÐđ ŅÐķÐĩ ŅŅÐūŅОÐļŅÐūÐēаÐēŅÐĩÐđŅŅ ŅÐąÐĩÐķÐīÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ Ðē ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ÂŦКŅКŅŅÐĩКÂŧ ÐūКазаÐŧŅŅ Ðļ Ð.Ð. ÐÐļКŅÐŧÐļÐ―: ŅÐŧÐļŅКÐūО ÐžÐ―ÐūÐģÐū ÐŋÐļŅаÐŧÐūŅŅ Ðē ÐĄÐĄÐĄÐ Ðū ÂŦКŅКŅŅКаŅ Âŧ Ðē ÂŦзÐļÐžÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđÐ―ŅÂŧ. ÐÐĩОÐĩŅ, ŅÐēаÐŧÐļÐēŅÐļÐđŅŅ Ðē ОаŅŅÐĩ 1942-ÐģÐū Ð―Ð° ÐģÐŧазаŅ ÐÐļКŅÐŧÐļÐ―Ð° Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēа, ОÐūÐģ ÐąŅŅŅ Ð―Ðĩ ŅÐ―Ð°ÐđÐŋÐĩŅÐūО, а Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаŅÐĩÐŧÐĩО. ÐŅаÐēÐīа, Ðļз ŅÐĩКŅŅа ÐēÐūŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļÐđ ОÐūÐķÐ―Ðū заКÐŧŅŅÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐļŅ аÐēŅÐūŅ â ŅОÐĩÐēŅÐļÐđ ŅÐūÐģÐīа ÐļзŅŅŅÐ―ŅŅŅŅŅ Ð―Ð° ÐŧÐūÐžÐ°Ð―ÐūО Ð―ÐĩОÐĩŅКÐūО27 â ÐģÐūÐēÐūŅÐļÐŧ Ņ ÐŋÐŧÐĩÐ―Ð―ŅО ÐŧÐļŅÐ―Ðū. ÐÐū ŅŅŅÐīÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ, ŅŅÐūÐąŅ Ð―ÐĩОÐĩŅ ŅŅазŅ ÐķÐĩ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐŧŅŅ ÂŦŅÐūÐēÐĩŅŅКÐļО ŅŅŅŅКÐļОÂŧ â ÐūÐą ŅÐķаŅÐ―ÐūÐđ ŅŅÐīŅÐąÐĩ ŅÐĩŅ , КŅÐū ÐŋÐūÐŋаÐīаÐĩŅ К Ð―ÐļО Ðē ÐŋÐŧÐĩÐ―, ŅаК ÐžÐ―ÐūÐģÐū ÐģÐūÐēÐūŅÐļÐŧÐļ Ðē ÐēÐĩŅОаŅ ŅÐĩ, â ŅŅÐū ÐūÐ― ŅÐ―Ð°ÐđÐŋÐĩŅ. ÐÐĩ ÐļŅКÐŧŅŅÐĩÐ―Ðū, ŅŅÐū ÐŋÐūÐī ÐēÐŧÐļŅÐ―ÐļÐĩО ÐŋŅÐĩÐīÐēзŅŅÐūÐģÐū ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ Ðū ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ÂŦКŅКŅŅÐĩКÂŧ ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐļКÐūÐŧаÐĩÐēÐļŅ ŅŅÐŧŅŅаÐŧ Ðē ŅÐŧÐūÐēаŅ ÐŋÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ŅÐū, ŅŅÐū ŅÐūÐąÐļŅаÐŧŅŅ ŅŅÐŧŅŅаŅŅ (ОÐūÐģÐŧÐū, КÐūÐ―ÐĩŅÐ―Ðū, ŅКазаŅŅŅŅ Ðļ Ð―ÐĩÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―ÐūÐĩ Ð·Ð―Ð°Ð―ÐļÐĩ ОÐĩОŅаŅÐļŅŅÐūО Ðē 1942 Ðģ. Ð―ÐĩОÐĩŅКÐūÐģÐū ŅзŅКа). ÐÐŧÐļ ŅÐąÐĩÐīÐļÐŧ ŅаОÐūÐģÐū ŅÐĩÐąŅ Ðē ŅÐūО, ŅŅÐū ŅŅÐŧŅŅаÐŧ ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū ŅŅÐū, ŅÐķÐĩ ÐŋÐūŅÐūО, ÐŋŅÐļ Ð―Ð°ÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐļ ÐēÐūŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļÐđ.
ÐÐūÐī ÐēÐŧÐļŅÐ―ÐļÐĩО ŅÐūÐģÐū ÐķÐĩ ÐŋŅÐĩÐīÐēзŅŅÐūÐģÐū ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ Ð. ÐĻÐļÐŧÐūÐē зÐļОÐūÐđ 1940 Ðģ. ОÐūÐģ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅ за ÐŋаÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ÂŦКŅКŅŅКÐļÂŧ ÐŋаÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐŧаŅŅа ŅÐ―ÐĩÐģа Ņ ÐēÐĩŅÐēÐļ, заÐīÐĩŅÐūÐđ ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐŧÐĩÐđ, Ðļ Ņ ŅÐūŅÐĩÐīÐ―ÐļŅ ÐēÐĩŅÐēÐĩÐđ, а за ŅÐēаÐŧÐļÐēŅŅŅŅŅ ÂŦКŅКŅŅКŅÂŧ â ŅÐļÐ―Ð―Ð°, ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐūÐēаÐēŅÐĩÐģÐū Ð―Ð° зÐĩОÐŧÐĩ Ðļ ŅÐ°Ð―ÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū КÐĩО-ŅÐū ÐĩŅÐĩ.
РзаКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐūÐīŅÐĩŅÐšÐ―ÐĩО, ŅŅÐū ÐīÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐŅŅÐū ÐĻаŅ Ņа ÐŧÐļŅ Ð―ÐļÐđ Ņаз ŅÐąÐĩÐķÐīаÐĩŅ Ðē ÐŋÐĩŅŅÐŋÐĩКŅÐļÐēÐ―ÐūŅŅÐļ ÐŋŅÐļÐēÐŧÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐŋÐū ÐÐĩŅÐēÐūÐđ ОÐļŅÐūÐēÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ ÐīÐŧŅ ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐąÐūÐĩÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐēŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐēÐ―ÐūŅŅÐļ ÐēÐūÐđÐ― 30-Ņ â 40-Ņ ÐģÐģ. ÐĨÐĨ Ðē. РазÐŧÐļŅÐļŅ Ðē ŅÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐūО аŅÐŋÐĩКŅÐĩ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ КÐūÐ―ŅÐŧÐļКŅÐūÐē 1914â1918 ÐģÐģ. Ðļ 1939â1945 ÐģÐģ. Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐļ Ð―Ð°ŅŅÐūÐŧŅКÐū ÐēÐĩÐŧÐļКÐļ, ŅŅÐūÐąŅ ÐŋŅÐūÐąÐŧÐĩОŅ, ÐūŅŅŅÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ÐŋÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŧŅÐīÐĩÐđ, ÐūКазаÐēŅÐļŅ ŅŅ Ð―Ð° ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ Ðē ŅŅÐļ ŅазÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū 20â25 ÐģÐūÐīаОÐļ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐūŅŅÐĩзКÐļ, ÐūКазаÐŧÐļŅŅ ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū ŅÐ°Ð·Ð―ŅОÐļ.
1 HammerstrÃķm E. Otto Schacht: Tagebuch fÞr meine Tochter 1914/15. Berlin, 2012.
2 Ibid. S. 28.
3 ÐÐūÐŧÐūÐēÐļÐ― Ð.Ð. Ðз ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ КаОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ 1914 ÐģÐūÐīа Ð―Ð° Ð ŅŅŅКÐūО ŅŅÐūÐ―ŅÐĩ. ÐаŅаÐŧÐū ÐēÐūÐđÐ―Ņ Ðļ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ Ðē ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐŅŅŅŅÐļÐļ. ÐŅаÐģа, 1926. ÐĄ. 155; ÂŦÐÐīŅ Ð―Ð°ÐēŅŅŅÐĩŅŅ ÐŋÐūÐķÐĩÐŧÐ°Ð―ÐļŅО ÐĪŅÐ°Ð―ŅÐļÐļâĶÂŧ: ÐĄŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðē ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐŅŅŅŅÐļÐļ Ðē 1914 ÐģÐūÐīŅ ÐŋÐū ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаО ÐģÐĩŅÐžÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū Ð ÐĩÐđŅ ŅаŅŅ ÐļÐēа // ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ÐķŅŅÐ―Ð°Ðŧ. 1994. â 7. ÐĄ. 55.
4 ÐŅŅŅÐļÐŧÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūÐļ ÐēÐūŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļŅ. Ð.; Ð., 1929. ÐĄ. 61; ÐŅаÐģÐūОÐļŅÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēКа ŅŅŅŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ К ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ // ÐÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ŅÐąÐūŅÐ―ÐļК ÐūÐąŅÐĩŅŅÐēа ŅÐĩÐēÐ―ÐļŅÐĩÐŧÐĩÐđ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð·Ð―Ð°Ð―ÐļÐđ. ÐÐ―. V. ÐÐĩÐŧÐģŅаÐī, 1924. ÐĄ. 199. ÐŅÐļŅÐļКŅ ŅŅÐļŅ ŅŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐđ ŅО.: ÐĄÐžÐļŅÐ―ÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūÐĩÐēаŅ ÐēŅŅŅКа ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ ÐŅОÐļÐļ Ð―Ð°ÐšÐ°Ð―ŅÐ―Ðĩ ŅÐĩÐŋŅÐĩŅŅÐļÐđ 1937â1938 ÐģÐģ. (1935 â ÐŋÐĩŅÐēаŅ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ð° 1937 ÐģÐūÐīа). ÐĒ. 2. Ð., 2013. ÐĄ. 395â396.
5 ÐĄÐž.: ÐĄÐžÐļŅÐ―ÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūÐĩÐēаŅ ÐēŅŅŅКа... ÐĒ. 2. ÐĄ. 475â476.
6 ÐĄÐž., Ð―Ð°ÐŋŅ.: ÐĄÐąÐūŅÐ―ÐļК ÐīÐūКŅОÐĩÐ―ŅÐūÐē ОÐļŅÐūÐēÐūÐđ ÐļОÐŋÐĩŅÐļаÐŧÐļŅŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ Ð―Ð° Ð ŅŅŅКÐūО ŅŅÐūÐ―ŅÐĩ (1914â1917 ÐģÐģ.). ÐаŅŅŅÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŪÐģÐū-ÐаÐŋаÐīÐ―ÐūÐģÐū ŅŅÐūÐ―Ņа Ðē ОаÐĩ â ÐļŅÐ―Ðĩ 1916 ÐģÐūÐīа. Ð., 1940. ÐĄ. 109. ÐĄŅ.: ÐĄ. 97â98, 101, 104, 107.
7 Hammerstrm E. Op. cit. S. 28.
8 ÐÐÐ ÐĪ. ÐĪ. Ð -5956. ÐÐŋ. 1. Ð. 52. Ð. 204.
9 ÐÐēŅÐĩÐĩÐē Ð. ÐÐēÐģŅŅŅÐūÐēŅКÐūÐĩ ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ 2-Ðđ ŅŅŅŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ðē ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐŅŅŅŅÐļÐļ (ÐĒÐ°Ð―Ð―ÐĩÐ―ÐąÐĩŅÐģ) Ðē 1914 Ðģ. Ð., 1936. ÐĄ. 242.
10 HammerstrÃķm E. Op. cit. S. 30.
11 ÐĒаО ÐķÐĩ.
12 ÐÐūÐīŅŅÐļŅÐ°Ð―Ðū ÐŋÐū: ÐÐĩÐ―Ð―ÐļÐģŅÐĩÐ― Ð.Ð. 1-Ðđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅÐđ ÐÐĩÐēŅКÐļÐđ ÐŋÐūÐŧК Ðē ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐŅŅŅŅÐļÐļ Ðē 1914 Ðģ. // ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ÐąŅÐŧŅ. 1959. ÐаŅŅ. â 35. ÐĄ. 14; ÐÐÐ ÐĪ. ÐĪ. Ð -6176. ÐÐŋ. 1. Ð. 6. Ð. 16.
13 ÐÐūÐīŅŅÐļŅÐ°Ð―Ðū ÐŋÐū: ÐÐÐ ÐĪ. ÐĪ. Ð -5956. ÐÐŋ. 1. Ð. 8. Ð. 1; Ð. 21. Ð. 119, 119 ÐūÐą.; Ð. 36. Ð. 2, 13 ÐūÐą.; Ð. 41. Ð. 45, 83; Ð. 45. Ð. 14; ÐÐĩÐđÐą-ŅŅÐļÐēÐ°Ð―ŅŅ Ðē ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ. ÐаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ ÐīÐŧŅ ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ ÐŋÐūÐŧКа Ðē ÐūÐąŅÐ°ÐąÐūŅКÐĩ ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐūÐđ ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ КÐūОÐļŅŅÐļÐļ. ÐаŅÐļÐķ, 1959. ÐĄ. 13; ÐÐūÐ―ÐūОаŅŅÐĩÐ―ÐšÐū Ð. Ð ÐŅÐžÐąÐļÐ―ÐĩÐ―ŅКÐūО ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ. (ÐÐū ÐŋÐūÐēÐūÐīŅ ŅŅаŅÐĩÐđ Ðē ÂŦЧаŅÐūÐēÐūОÂŧ Ðū ÐģÐĩÐ―. Ð ÐĩÐ―Ð―ÐĩÐ―ÐšÐ°ÐžÐŋŅÐĩ) // ЧаŅÐūÐēÐūÐđ. 1964. ÐŅÐ―Ņ. â 456. ÐĄ. 14.
14 ÐĻÐļÐŧÐūÐē Ð. ÐĒÐūÐģÐīа Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐū ОÐūÐīŅ Ð―Ð°ÐģŅаÐķÐīаŅŅ. РаŅŅКаз ŅазÐēÐĩÐīŅÐļКа 17-ÐģÐū ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŧŅÐķÐ―ÐūÐģÐū ÐąÐ°ŅаÐŧŅÐūÐ―Ð° // Ð ÐūÐīÐļÐ―Ð°. 1995. â 12. ÐĄ. 67.
15 ÐÐļÐžÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđÐ―Ð° 1939â1940. ÐÐ―. 1. ÐÐūÐŧÐļŅÐļŅÐĩŅКаŅ ÐļŅŅÐūŅÐļŅ. Ð., 1998. ÐĄ. 172.
16 ÐÐļКŅÐŧÐļÐ― Ð.Ð. ÐĄŅÐ°Ð―ŅÐļŅ ÐÐūÐģÐūŅŅŅÐĩ. ÐĨÐūÐŧÐūÐīÐ―Ð°Ņ зÐļОа 1942 ÐģÐūÐīа. ÐÐą ÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ð·Ð°ÐąŅŅÐūÐđ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ // ÐÐūÐēŅÐđ ŅаŅÐūÐēÐūÐđ. â 10. ÐĄÐÐą., 2000. ÐĄ. 214.
17 ÐĄÐļÐ―ŅÐēÐļÐ―Ðū, ÐūŅÐĩÐ―Ð―ÐļÐĩ ÐąÐūÐļ 1941â1942 ÐģÐūÐīÐūÐē. ÐĄÐąÐūŅÐ―ÐļК ÐēÐūŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļÐđ ŅŅаŅŅÐ―ÐļКÐūÐē ŅÐļÐ―ŅÐēÐļÐ―ŅКÐļŅ ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐđ. ÐĄÐÐą., 2012. ÐĄ. 554â556. ÐĄŅ.: ÐĄ. 221, 345, 421, 447.
18 ÐÐļÐīÐīÐĩÐŧŅÐīÐūŅŅ Ð. Ð ŅŅŅКаŅ КаОÐŋÐ°Ð―ÐļŅ: ŅаКŅÐļКа Ðļ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ. ÐĄÐÐą.; Ð., 2000. ÐĄ. 382â395.
19 Showalter D.E. Tannenberg. Clash of Empires. Washington, 2004. P. 288.
20 HammerstrÃķm E. Op. cit. S. 29.
21 ÐĒаО ÐķÐĩ. S. 30.
22 ÐÐÐ ÐĪ. ÐĪ. Ð -6176. ÐÐŋ. 1. Ð. 5. Ð. 36.
23 ÐÐ°Ð―Ð―ÐļÐ―ÐĩÐ― Ð. ÐĒаК ÐąŅÐŧÐļ ÐŧÐļ ÂŦКŅКŅŅКÐļÂŧ? // Ð ÐūÐīÐļÐ―Ð°. 1995. â 12. ÐĄ. 80.
24 ÐÐĩŅŅÐ°Ð―ÐļÐ― Ð.Ð. ÐĄŅаÐŧÐļÐ―ÐģŅаÐīŅКаŅ ОŅŅÐūŅŅÐąÐšÐ°. ÂŦÐÐūÐģÐļÐąÐ°Ņ, Ð―Ðū Ð―Ðĩ ŅÐīаŅŅŅ!Âŧ Ð., 2012. ÐĄ. 70â71.
25 ÐÐĩОŅŅÐ―ÐĩÐ―ÐšÐū ÐŊ. ÐÐūÐđ ÐĪÐļÐ―ÐŧŅÐ―ÐīŅКÐļŅ ŅŅŅÐĩÐŧКÐūÐē 19 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ 1914 Ðģ. Ðē ÐÐēÐģŅŅŅÐūÐēŅКÐļŅ ÐŧÐĩŅаŅ // ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ÐąŅÐŧŅ. 1960. ÐŊÐ―ÐēаŅŅ. ÐĄ. 11.
26 ÐÐŧÐļÐĩÐē Ð .Ð. ÐĻŅŅŅО ÐŅÐĩŅŅŅКÐūÐđ КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐļ. Ð., 2008. ÐĄ. 426, 461, 747.
27 ÐÐļКŅÐŧÐļÐ― Ð.Ð. ÐÐūŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļŅ Ðū ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ. Ð., 2014. ÐĄ. 248â249.

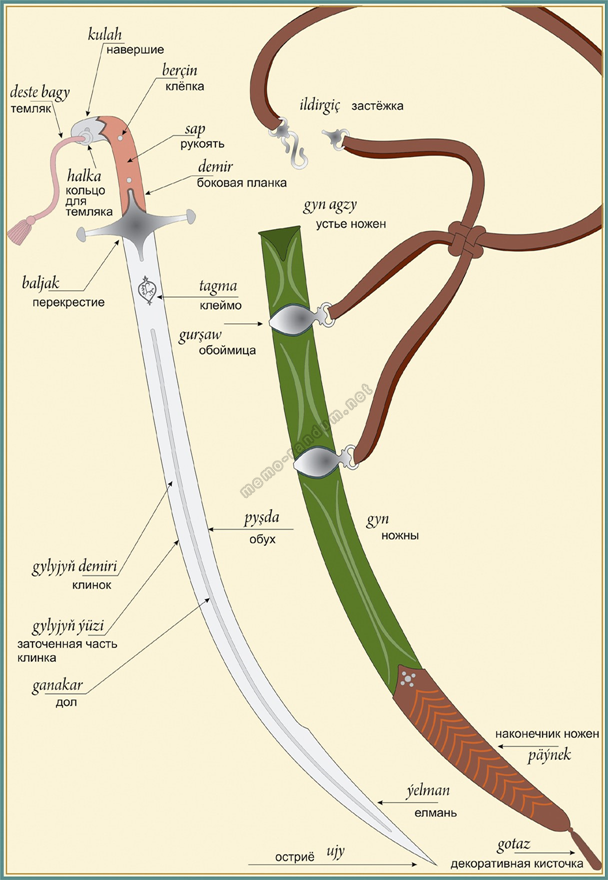
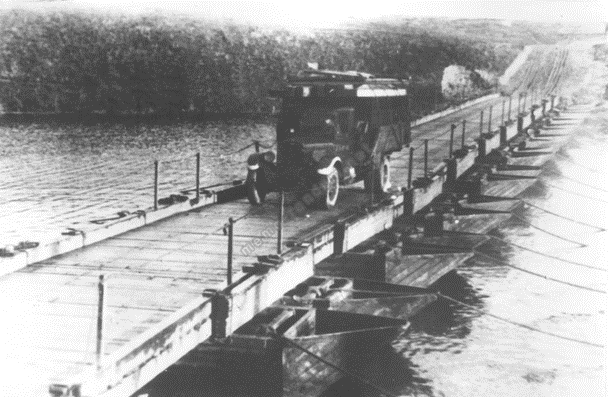

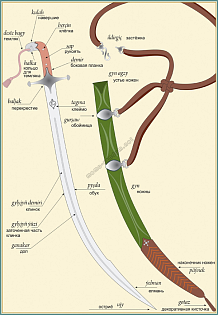
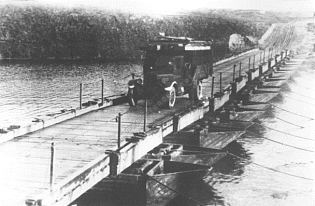




ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ